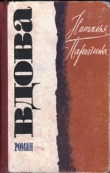Текст книги "Колымский котлован. Из записок гидростроителя"
Автор книги: Леонид Кокоулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
История с лесом
А сейчас главное – лес. Едем мы всю ночь, только к обеду въезжаем на главный стан. Я схожу у конторы. Славка везет Галку в порт.
Остаток дня бегаю по учреждениям, прошу лес. Доказываю: план горит, бригады простаивают. В конечном счете, строим для кого? Не возражают ни золотодобытчики, ни слюдянщики. В райкоме даже похвалили:
– Молодцы, хорошо взялись. Учтем при подведении итогов.
Снова бегу в лесотранспортное предприятие. У нас с ними договор на поставку гидролеса. Все как полагается, только нет древесины. Хотя деньги они с нас берут как за выборную заготовку: полсотни за кубик. Мы согласны – берите по семьдесят, но дайте лес. Нам сочувствуют, обещают, никто не отказывает, но леса нет.
Наше руководство обещает выслать лес баржами из Ленска. А сейчас осень глубокая. Представьте, лес по Лене: рекой до Якутска – тысяча верст, от Якутска по Амуро-Якутской магистрали до Дражного, с Дражного на ЛЭП. Перегрузки, перевозки, перетряски. То, что называется «в лес дрова везти». Но не будешь ведь сидеть сложа руки, людей кормить надо.
– Поеду прямо на лесоучасток.
– Поезжайте, – говорят, – на месте виднее. Тут недалеко, от Дражного километров пятьдесят, не больше.
Славка садится на лесовоз. До поселка Артанаха асфальт, только под колесами шипит. Поселок золотоискателей виден еще с угорья на склоне горы. В распадке узорчатые следы драг.
В Артанахе дороги расходятся – одна в Якутск, другая на лесосеку. На развилке пивная-закусочная. Заходим. Старатели бьют по прилавку красненькими. Мы пуляем бекасинником-медью: две кружки пива для нас – потолок. Едем дальше. Лесовоз – старая развалина – кряхтит по колдобинам. Славка крутит баранку и говорит:
– У тебя бывает, дед, так – вдруг защемит тоска, куда и деться не знаешь. Хлеб ли ешь, работаешь ли, и даже когда спишь, во сне и то из ума не выходит, тянет к ней, и баста. Душу выворачивает. И прекрасно ведь знаешь, что нечего там делать, у нее уже давно другая семья. А вот перебороть себя… Как ты, думаешь, дед, проходит это?..
– Перегорит.
– И я так думаю, – кивает Славка. Ему хочется так думать. Он останавливает машину, достает термос с измятыми боками. Сворачивает крышку, наливает в нее кипяток, берет похожий на грязный комок ваты сахар. Пьем кипяток по очереди, жаль заварку забыли, сбили бы привкус железа.
– Цвет лица портится от заварки, – бурчит Славка.
– Пишет дружок из Заполярного? – спрашиваю.
Славка мотает головой.
– Лопнула дружба, как мыльный пузырь. Теперь отболело. Я ведь не умею в дружбу играть. Схожусь трудно, но уж если дружба – не предам. Не-е. Душу заложу за друга. Он мне вот сюда плюнул, – Славка показывает большим пальцем на грудь. – Ты знаешь, после того я как-то сразу опустел. Будто выпотрошили. Мы ведь с ним были кровные друзья. Я уж его старался оправдать в душе и так и эдак. Жинка, мол, виновата, я и раньше замечал – ревнует она его ко мне. Ну, опять же не баба! Нет, не нашел ему оправдания. Жинка – жинкой, друг – другом.
Славка крепко затянулся «беломориной» и продолжал;
– Помню, они поженились, а у меня радости полон рот. Бегаю, как чеканутый, компенсацию взял за год. Всякую муру тащу, подушки, подштанники, посуду, то, се. Комнату отдал свою. По первости не соглашались: живи, Славка, за брата. Как уживешь, комната-то: свинья ляжет, и хвост некуда откинуть. Сам понимаю, молодые. Мне что, я и в общаге перебуду. Ну, конечно, забегаю проведать. Мы ведь с ним в тундре на Диксоне где-нибудь, бывало, в зимовьюшке припухаем, слушаем, как пурга заливается, и о чем только не перетолкуем, чего не перещупаем, и в понятиях были вроде одной стороны. Но вот однажды, помню, прихватили мы с базы бочку бензина семьдесят шестой номер, его только для избранных держали. Ну, я и говорю своему дружку – заливай себе, полбочки мне оставь. Что-то замешкался, подхожу с ведерком, наклоняю бочку, а там на донышке бултыхается. Тогда я и внимания не обратил. Кручу рукоятку своей колымаги, бензин хреновый, не заводится. Из глушителя дым, будто мой агрегат углем топится. Мой дружок рожу воротит, якобы не видит. У него с полоборота – и ладно ему. Мелочь, скажешь? Тогда и я так думал. Если в мелочах человек подлец, то подлее человека и не придумаешь. А потом и другое…
Славка морщит лоб и жует «беломорину». Машина заходит в лес. Вроде наступают сумерки, но за поворотом светлеет. Под горою видны квадраты вырубки, обдутые ветрами ряды валков из сучьев, будто покосы. Въезжаем по косогору и упираемся в лесоделяну: ухает и стонет лес. Наперерез нам трелевщик волочит разлапистый кедр, он вздрагивает, переливается сине-черная хвоя. Я ищу мастера. Куда запропастился этот Леший? (Интересно, в самом деле, фамилия мастера – Леший.)
Леший у штабеля головешкой ставит кресты на торцах баланов[4]4
Балан – бревно определенного размера.
[Закрыть]. Заросший рыжей щетиной дядя-кряж, руки ниже колен, в спине сутул, широк, что-то у него есть от гориллы. Ни дать ни взять – леший. На меня не обращает никакого внимания. Поверх валенок навыпуск штаны, чтобы снег не попал. Облезлая цигейковая дошка. Ну, думаю, этого надо брать на испуг.

– Где, – спрашиваю, – гидролес? Приказ получили?
Баском стараюсь. Вид у меня ничего, внушительный.
– Гидролес, говоришь? – Леший сдвигает с затылка деревянным метром шапку на лохматые брови. И когда шапка ложится на переносицу, поднимает бороду и беззвучно смеется. – Вы откель? – показывает он тем же метром на наш драндулет и садится на пень. Свежий срез похож на рулет. Я смотрю на мастера, а он спокойно набивает трубочку. Сидит, как ни в чем не бывало. Подходят лесорубы, садятся невдалеке от нас на бревна, как воробьи на провода. – Сейчас у нас произойдет перебазировка на другую делянку, – поясняет Леший.
А я ему насчет леса, откуда и зачем мы приехали.
– Мы, паря, ведем сплошной повал, и не станем гоняться по тайге за отдельным сутунком[5]5
Сутунок – обрубок.
[Закрыть], понял? Одна морока. У нас план навалом, в кубах, а не поштучно.
Понимаю, начинаю агитировать.
– Поштучно не можем! И все тут. Я че, я ни че, – как вот они, – скалится Леший. Зубы у него как у мерина. Вот орясина.
С народом, так с народом, что делать, без леса ехать? Лезу на штабель по бревнам, как по лестнице. Забираюсь на самый верх, держу речь. Откуда и слова берутся.
Лесорубы сидят на бревнах в позах, будто я собираюсь их фотографировать. Подкрались из-за штабеля тягачи, выбросили связки сизых колец, умолкли. Трактористы пялят чумазые рожи. Меня так и подмывает закатить что-нибудь патриотическое, геройское, а сам думаю, как бы вовремя закруглиться, не переборщить. Обвожу взглядом эту рать. Сидит и стоит войско с баграми, вагами – трелевщики, «дружбисты», вальщики. Вместо лат и кольчуг – войлочные доспехи на плечах, на груди. Закругляюсь.
– Ну, как, товарищи? Поможете?
– Ничего! Трепаться можешь, – отвечает верзила с багром на плече.
Войско дружно: «гы-гы-гы…»
– Навар надо, паря! – скалит щербатые зубы и трясет козлиной бородкой мужичишка справа от меня. – Если правду куражить, без приварка баланы не покатятся, – говорит козлиная борода. – А доклады послушать, конечно, можно, – глянул, ну вылитый Чингисхан сидит, ноги под себя.
– Не за так же, – говорю, – гроши само собой.
– Так бы сразу и врубался, – говорит Чингисхан и сует мне твердую, как жесть, руку, тянет вниз.
До чего же плутоваты и симпатичны у него глаза!
– В ногах правды нет, – низким голосом сообщает он. – Без лесу вам, что и говорить. – Пощипывает бороденку, щурится. – Посудина лесу – посудина спирту. Полсотни на бочку, для зачатия, это окромя главной казны.
Уточняем: машина лесу – бутылка спирту. Прикидываю: до получки неделя, а самого так и подмывает ухватить и тряхнуть Чингисхана за бороденку. Он будто догадывается, берет в рот кисточку бороды, жует и хихикает.
Достаю из бокового кармана по одному червонцу и кидаю Чингисхану в шапку. У меня всего шесть бумажек, а делаю вид, будто в кармане монетный двор.
Напяливает шапку вместе с червонцами, отходит в сторону, совещается с братвой. Идет обратно, сразу преобразился. Губы плотно сжаты, глаза вперились в одну точку, бороденка заострилась.
– Пять лесовозов завернем сегодня, – говорит, словно гвозди вбивает, – остальные потом.
Сумасшедший, что ли, этот козел? Пять лесовозов – сто кубов – шутит? Откуда возьмет? И Чингисхан уже на штабеле, как петух на заборе. Туда-сюда разгоняет лесорубов. Делает это все он молчком: три пальца выкинул кверху – три человека пошли, пять – пять человек бегут, и вдруг сразу без команды заворочались тягачи, затараторили трелевщики. Тут, видно, разговоры не принято говорить. Дирижирует Чингисхан. Четко получается! Тряхнет шибче бородой – бегом бегут. Пуще прежнего застонал лес: заголосили «Дружбы», затараторили тракторы.
Наседаю на Лешего.
– Не сумлевайся, – говорит, – народ порядочный, скажут – отрубят. Вали за лесовозами, гони.
Верю и не верю. Ну, думаю, обманут – размозжу козлу тыкву.
К сумеркам возвращаюсь с лесовозами. Не узнаю лесосеку: просветлела вся, насколько хватает глаз.
Смотрю. Один, на вид такой невзрачный, мужичишка стоит и вращает топором, будто колесо крутит. Топорище длинное, метра полтора, мимо него протягивают хлысты «в теле», а он все крутит топором вдоль хлыста, и каждая проходящая мимо лесина на глазах становится окатой, как яичко, без единого сучка. Вот здорово! Стою как завороженный. Вот это работа! Чингисхан вершит штабеля, их кладут под угор, чтобы легче накатывать.
Чингисхан торопит машины под погрузку. Прямо не верится, неужели ночью будут грузить? Сумерки приближаются, жмет мороз.
Как только лесовоз выравнивается со штабелем, Чингисхан бросает кверху растопыренные пальцы и свистит соловьем-разбойником. Пять человек, вооруженные баграми, подходят к штабелю. Мужики сбрасывают телогрейки, остаются в нательных рубахах. Один запрыгивает на лесовоз с коротким крюком на палке. Другие по двое забегают с торцов штабеля, предварительно захватив, багры. Рассматриваю багры, оказывается, они сделаны из выхлопного клапана автомашины. Штабеля высотой с одноэтажный дом. Один становится у вершины, другой – у комля. Вершина лесины в срезе с тарелку.
Погонщик с комля хватает багром хлыст и вращает на себя (с комля легче крутить бревно). Как только он крутнул сутунок, спарщик с другого конца бросает багор точно в центр лесины, упирает его в пах и начинает раскручивать, разгонять бревно. Оно набирает скорость. Тот, кто с вершины, то подаст, то попридержит сутунок: так легче направлять его. Искусство погонщиков в том, чтобы на большой скорости точно ложились бревна в седло прицепа. Делается это быстро. Чем быстрее катится бревно по покатым вагам, тем легче с ним справляться.
Как только пара погонщиков подбегает с сутунком к прицепу, верховой с машины на лету подхватывает бревно и досылает его на место. В это время вторая пара уже мчится с другим бревном. Первая пара бежит им навстречу, на полном ходу перехватывает бревно и гонит в прицеп. Вторая пара тут же бежит за другим бревном. Скорость все увеличивается. Лесины катятся непрерывной лентой. Только глазами вожу туда-сюда. Когда воз становится высоким и образуется обратный уклон покатов, сутунки с еще большей силой разгоняют и досылают ухватами. Если какая оплошность и бревно с ходу не попадает на воз, будут корячиться двадцать человек, пока закатят тринадцатиметровую лиственницу. А Чингисхан пританцовывает на штабеле, да только срывается, с губ – оппа! оппа! Свечи и сваи словно в обойму ложатся, двадцать минут – тридцать пять бревен. Все в ритме, в такте. Не работа – музыка (это если со стороны глядеть). Последнюю машину, пятую, грузят уже в темноте. Мастер считает бревна и оформляет накладную. Я спрашиваю, есть ли место переночевать. Мастер рассказывает, как найти барак.
Мы расстаемся со Славкой. Он поведет колонну лесовозов.
Иду к бараку. Издалека светятся латунью окна. Захожу в первую дверь – что-то вроде прорабской. Нары, на нарах два матраса без подушек и одеял. Старичок-инвалид привес огарок свечи на ночь.
– Располагайся, милый, – говорит он, – мастера нонче не будет, уехал в жилуху. Похлебать чего хочешь – приходь, мы за стенкой обитаем: рабочий люд.
– Спасибо, не беспокойтесь.
– Не за что благодарствовать, не забудь свечу задуть. Дров на ночевку хватит. Прогорят, на жар бросишь вот эти чурбаны.
Старичок уходит. Я разуваюсь и лезу на нары. Ложусь на спину, руки под головой, пальцы в замок. Потрескивают в печи дрова. Отсвет дрожит на двери и на потолке. Тепло. Подсчитываю, сколько получится в пяти лесовозах свеч и свай. Ребята обрадуются, хотя это и капля в море, но все-таки! Вдруг чувствую, будто меня крапивой жалят. Шею, ноги, что за черт? С потолка словно дробинки падают. Зажигаю свечу. Меня атакуют клопы. Открываю огонь спичками. Крупное вражеское соединение частично уничтожено, частично обращено в бегство. Клопы куда хуже волков! Не выдерживаю, надергиваю сапоги на босу ногу, накидываю шубу и выхожу во двор.
Через мережку облаков проглядывают крупные звезды. Весь косогор выхвачен кострами. Сосновая стена леса отпивает медью. Пахнет пригретым деревом, мечется огонь. Зябко. Потоптался.
Захожу с другого торца в большую половину барака. На двухъярусных нарах вповалку спят лесорубы. Над раскаленными железными бочками на вешалках портянки и робы дымят. От запаха першит в горле. А они спят, хоть бы хны! Керосиновая лампа чадит. На поленьях у печки ссутулился старичок-инвалид, дремлет.
Возвращаюсь к себе. Отсвет так же весело пляшет по стенам. Пыхают жаром малиновые бока печки. Ложиться больше не решаюсь. Сажусь за письмо другу.
«Дмитриевич!
Мы живем по-разному. Я и Андрей живы и здоровы. Тянем лямку в одной упряжке, строим, я уже тебе писал. Ведь на будущую зиму ему в школу. У меня душа разрывается, в какие руки попадет пацан. Я бы взял его к себе. А куда? Я и сам-то весь тут. Ни кола ни двора.
Ты спрашиваешь, каков у нас пейзаж? Есть ли рыбалка, охота? Все есть, Юра.
Если захочешь к нам приехать, лучше до Дражного самолетом, потом пересядешь в машину, зимой сподручнее на вездеходе, летом на вертолете. На машине будешь ехать ущельями. Вначале коридором леса, потом редкая колючая лиственница, еще повыше стланик, и тут у тебя начнет закладывать уши. Глохнешь. Это высота.
И откроется на самой макушке гор перед тобой страна Канкуния! По-якутски «камни». Камни, камни и горы слюды, ни одного деревца. На камнях бараки черные, потому что снаружи обшиты толью. Кучи дров вокруг них. Центральная улица отсыпана плитняком. На ней играют ребятишки. По ней упрешься в клуб.
Вот сюда – к слюдянщикам, мы и тянем высоковольтные линии, строим подстанции.
А нас с непривычки иногда «шатучая» валит. Эта болезнь от кислородного голодания. Тут однажды приключилось со мной такое. Пошел я пошукать каких-нибудь зверьков, забрался на каменную гриву – хоть рукой бери облака. А сердце – тук-тук. Вдруг в глазах зеленые круги, а в висках словно кузнечики молоточком по наковальне. Сколько я провалялся меж камней – не знаю, очнулся – кровь на рубахе, на бороде спеклась и высохла. А охота, особенно осенью, неплохая. Есть чем душу отвести.
Все я тебе, Юра, написал, все как есть, как ты просил. Если надумаешь, приезжай – буду рад.
Остаюсь твой Дюжев».
Самая большая сложность – закрепить на ЛЭП людей. Как это сделать? Об этом я часто думаю. Вот и сейчас думаю под вой мотора. Галка уехала, а каково Димке? Думать-то я думаю, но до сих пор ничего не придумал.
Славка с Диксона знай крутит баранку да жует «беломорину». Машина тяжело ворочается под лиственничными бревнами, от мотора тянет перегретым маслом. Надо сказать, что на ЛЭП три Славки – Славка большой, Славка маленький, а этот – Славка с Диксона. Все свои рассказы он начинает так: «А у нас на Диксоне», «Когда я был на Диксоне», его и прозвали – Славка с Диксона.
Вот и сейчас Славка продолжает:
– Нет, не уехал бы я с Диксона, никогда, дед, не уехал. Жизнь у меня была там ответственная. Представь, тундра без конца и без края, неделю, месяц в тумане плаваешь, а на базе тебя ждут, теряются в догадках, но знают: раз Славка поехал – доставит в аккурат… По рации другой раз сообщают – человек при смерти. Доктор расспросит, если операция срочная, скажет дежурному: вызывай Славку, если даже дежурит Вовка, дружок мой. Мы с ним в паре работали, а когда еще одну танкетку прислали, разделились, но корешили все равно.
– Как-то мне Вовка и говорит, – продолжает Славка. – Ты за своей Тамарой Васильевной ничего не замечал? Мы любили подначивать друг дружку. Замечал, – говорю, – прошлый раз, когда я был в тундре, снилось, что она тебе улыбалась. Ты ведь парень симпатичный.
– Мне-то, – говорит Вовка, – куда? А вот директору промыслового хозяйства…
Посмеялись, а у меня вдруг под ложечкой засосало. Хорошо знал я этого бабника. Но и опять на жену надежда крепкая. Не должно бы быть – живет исправно, пацан есть… Правда, другой раз заплутаешь по тундре – скучно ей, но и я не в бирюльки играю. Приедешь, чего только не навезешь: и рыбы какой хошь и мяса. И на шубу раз песцов добыл, соболя на шапку. Пусть, думаю, хоть в тундре, но форсит, женщина она видная – в Москве редко такую встретишь, и мне самому приятно ходить с ней – вроде ростом выше становишься.
А тут как-то прихожу с сынишкой из кино, жинка и говорит: «Звонили тебе, срочно ехать в охотничью бригаду». – «Хорошо, говорю, сейчас бегу». А сам думаю, чего это она выпроваживает? Опять же и неласково. Теперь мне все кажется, хоть крестись. Собираю рюкзак. Говорю – не заеду домой, раз срочно. Она не возражает – не заедешь, так и не заезжай, тебе виднее. «Сахару возьмешь?» – спрашивает. А раньше без конфет не выпустит. Тут у меня и вовсе Вовкины слова не выходят из головы. Прихожу на пункт, дежурная эдак ехидненько: «Товарищ, опоздали. Вовка уже поехал…» А тут Степка-санитар – к себе приглашает. Пошли. Рюкзак под крыльцо пихнули, никто не возьмет. Хоть что оставь, прямо на улице. Засиделся я у него. Иду домой. Смотрю – свет горит. Думаю, моя еще не спит. Шипеть будет или нет? Вваливаюсь, и будто меня кто колотушкой по черепу. Сидит за столом, кто ты думаешь?
Я пожимаю плечами, а Славка крутит руль.
– Да не тяни ты резину, говори!
– Сидит – этот самый директор! Бутылка пятизвездочного, закуска, все честь по чести. У нее на лице смущение. Меня будто к полу пришили гвоздями. Молчат, переглядываются. Распорядился я тут, встряхнул гостя, и остались мы с ней с глазу на глаз. Сынишка спит.
– Шуму, – говорю, – поднимать не стану. Совестно. Не мужское дело сцены закатывать. Надоели друг другу – давай разлетимся. Поживем врозь. – Лег на диван, а самого колотит. Она не возражает. Что, мол, с мужика пьяного возьмешь. До утра не сомкнул глаз. Веришь, все передумал, и так и эдак. Уж и замять все охота. Любил ее – жуть. Но перебороть себя не могу. Сказал разъедемся и – точка. Прощаюсь с сынишкой, а сам еще в надежде, а может, позовет? Не позвала.
Так и разлетелись. Уехал я с Диксона. Полгода мотался, потом узнал, что Вовка ГЭС строит. Вот и подался к нему. Все вдвоем веселее будет. Встретил он меня, мест в общежитии не было, двое на койке спали. Потом мне дали комнату. А Вовка как раз задумал жениться. Хлопоты начались.
Я у него и за свата, и за отца, и за брата. Забегал иногда к ним посидеть. А потом враз все отрезало.
Славка сутулит спину.
– Отрезало, – повторяет он. – Как-то решил забежать к Вовке: спросить, не получал ли каких вестей с Диксона. Стучу. Слышу, воду пьет, зычно так.
– Это ты, Славка? – спрашивает. – Чего тебе? Поздно уж и наследишь, моя только пол вымыла. Заходи завтра.
Сказал ему пару слов, и подался на ЛЭП. Вот тебе и дружба.
Славка умолк. Он часто так: оборвет рассказ и задумается.
А мне тоже стало нудно, и от рассказа и от дороги. Монотонное пение мотора, ритмичная качка надоели до тошноты. Хоть бы какая-нибудь живность: птичка, зверушка встретилась. Унылый однообразный коридор мелкого леса. С ума сойдешь.
Смотрю на Славку. В бороде у него лепешки мазута. Глаза какие-то мутные. В такт машине клюет носом.
– Свернешь рубильник, – говорю.
– Тебе что, жалко?
– Жалко.
Славка шмыгает носом, глаза у него гноятся от недосыпания, от всполохов, от снега. Он лениво тянется за папиросой – пачка «Беломора» защемлена в стеклодержателе. Ну и ручища у него! Долго не попадает в пачку обмороженными пальцами. (Эх бы, сарделечек горячих!)
Андрейка сейчас вовсю спит. У меня голова не держится, хоть лом глотай.
Славка сидит, как сыч, недвижимы стали глаза простоквашные. Присмотрелся: дрыхнет, как только едет!
– Эй, – кричу, – сохатого чуть не затоптал!
Заморгал.
– Остекленел, что ли, я? – И для порядка крутит баранку.
Въехали на «Дунькин пуп», так прозвали ребята гору на перевале. Веселее пошло, вот и поворот, на обочине щит – эмблема нашей республики: анкерная опора, изолятор, бутылка перцовой, тушенка. В распадках сереет, а на востоке по горизонту будто мазнули белильной кистью. Под утро всегда сильнее тянет ко сну. Вот уже видно, как из трубы тянется к небу белый, как вата, дым.
– Не спят, что ли? – говорит Славка.
Подъезжаем. С подветренной стороны палатки «молотят» тракторы. Так всю зиму и стрекочут трудяги, их не глушат, а то не заведешь. С непривычки не уснешь.
В палатке вкусно пахнет. С полсотни румяных ландориков на столе. Талип в белом переднике хлопочет у печи.
– Праздник какой? – спрашиваю.
– Какой? Тоже мне дед. Сегодня же день рождения Андрюхи.
Вот досада, что-нибудь надо было привезти пацану. Славка подает мне плоский ящик, догадываюсь, – слесарный инструмент.
– Бери, дед. А я подарю этому заклепу компас.
И Славка лезет за печку спать, это его любимое место, как у кота.
Сажусь на скамейку, облокачиваюсь на край стола. Есть не хочется. Чай в кружке уже остыл. Вставать тоже неохота. Кемарю.
– Дед, а я тебя узнал, – шепчет на ухо Андрей и обнимает за шею. – Сказки привез?
Андрей в новом костюме с начесом.
– Кашу будешь? – он разом приносит чашку, ставит на стол и хватается ручонками за валенок, упирается ногой мне в колено – помогает разуться. Он давненько не стрижен и на висках косички.
– Дед вернулся! Вот видите, я же говорил, – кричит Андрей.
– Тихо, Андрюха, пусть спят.
– А ты мне разрешишь на тракторе работать или мотор собирать? – тараторит Андрей.
– Смотри, это лиса прислала, – говорю и отдаю ящик.
Андрей открывает его и замирает от восторга.
– То, что надо! – Вынимает из гнезда молоток, гладит полированную ручку. – Она стеклянная?
– Нет.
– Попробую.
– Разбудишь ребят.
– Все равно вставать пора, – поддерживает Талип.
Андрей заколачивает гвозди.
– Молодец лиса.
Ребята поднимаются, в палатке становится тесно. Подходит ко мне Талип, щурит глаза.
– Работать – так товарищ дорогой, деньги получать – так гражданин задрипанный? Почему кассир обводил меня в черную рамку?
Вечно эта бухгалтерия что-нибудь перепутает.
Андрей тоже лезет с поддержкой.
– Да, дед, не дали нам деньги. Пропустили в табеле.
– Мал еще нос толкать, – обрывает Талип Андрейку.
– Разберусь, – обещаю Талипу, а Андрей уже жмется ко мне. Он всегда радуется, когда я приезжаю. Хватает меня за руку и первым делом спрашивает; «А сказку привез, не забыл?»
Вспоминаю. Как-то мы со Славкой приехали в бригаду поздно ночью. У Славки привычка: приедет – заглушит мотор, откинется на спинку, закроет глаза – отдыхает.
Захожу в палатку, зажигаю свечу – спит братва. Кто скрючившись в три погибели, кто прямо в полушубке и валенках. Шарю в печке рукой, пепел мягкий – загрубевшие руки не чувствуют. Славка приходит с банкой солярки, ставит ее прямо в печь, поджигает – загудело.
Оборачиваюсь – Андрейка сидит на койке, щурится и царапает голову.
– Дед! – удивляется он, вдруг проснувшись, и бежит ко мне. – Ты че так долго не приезжал, забуксовал, да?
Я завертываю Андрея в полушубок и сажаю на стол. Ставлю на печь чайник.
– Ты из меня, дед, кулему сделал, – смеется Андрейка. – Мы с Талипом ходили петли ставить на зайцев, я отморозил лапу. – Андрей высовывает из-под полушубка босую ногу. Действительно, водянистый разбухший палец.
– До свадьбы заживет, – говорю.
– И Талип сказал, – обрадовался Андрей. – Дед, ты думаешь, я плакал? Нисколько. Когда валенок стянули, так я даже описался, – это я так, невзначай, дед, – оправдывается он.
Наливаю чай, кружки потеют. Вышел Славка и занес замерзшую куропатку.
– Это тебе, Андрюха, завтра на похлебку!
Андрей гладит птицу и вздыхает.
– Зря ты ее, дядя Слава. Она совсем как комочек снега. Дед, если ее отогреть, она оживет?
– Нет, не оживет.
Вынимаю из кармана горбушку мерзлого хлеба.
– Это лиса тебе прислала гостинец.
– Ну? Вот интересно, – Андрей с удовольствием грызет хлеб. Швыркает носом. Расспрашивает про лису.
– Да! Пожалуй, ты всем бы парень ничего, да сопливый.
– Где? – Андрей трет кулаком нос. – Видишь, нету.
Расстилаю спальный мешок. Подбрасываю в печку дрова покрупнее. Андрей зыркает из полушубка.
– Ну что, Андрей, подкрепился? Укладываться будем.
– Будем, дед. А ты не замерзнешь? Давай вместе. Я тебя греть буду, – говорит пацан серьезно.
– Ладно, давай!
Он уже не может скрыть радости – ныряет в мешок.
Я разуваюсь, развешиваю портянки.
– Не хочешь на улицу? – спрашиваю. – А то еще уплывешь.
Андрей соглашается и лезет в мои валенки. Я – в мешок.
Андрей возвращается с улицы, забирается мне под мышку. Холодный.
– Звезды совсем близко к земле, скоро светать будет, – шепчет он. – А ты не очень устал, дед? Может, поговорим?
– Устал, – говорю, – спи, завтра баню топить будем.
– А сказку?
Рассказывай всю ночь напролет, Андрей не сомкнет глаз. Особенно любит он сказки, где люди и звери выручают друг друга. Честность и смелость – главная тема наших сказок. Мы их сами придумываем, и Андрей всегда один из героев сказки. Которые ему больше нравятся – просит повторить. А я, как правило, забываю, сбиваюсь. Он поправляет меня. У него хорошая память. Чувствует характеры. Как-то рассказываю про росомаху, про то, что она ходит за медведем – такая страшная, лохматая, ленивая, – все хватает куски с медвежьего стола. Наестся и валяется, пока не проголодается.
– Как наш Валерка, – говорит Андрей, – водку хлещет, а потом дурака валяет – валяется.
– А Талип ведь тоже пьет?
– Дядя Талип по-человечески пьет, он честный мужик, – говорит Андрей. – Вырасту, ему буду тоже стирать рубахи. Ты больше Талипа ругать не будешь, что он разморозил трактор?
– Не буду.
Андрей в знак благодарности жмется ко мне. Мне нравится принципиальность Андрея: его за конфетку не купишь.
– А брать меня с собой будешь, ведь ты же мой дедушка?
Днем солнце пригрело в полную силу. Выпрямились кое-где и заголубели стланики. Отклеились от неба заснеженные гольцы и отчетливее обозначились у горизонта.
Ребята собирают переходную анкерную опору. Выбирают из кучи изоляторы, комплектуют. Андрей тоже помогает – укладывает болты.
Вернулся с трассы трактор с метизами[6]6
Метизы – болты, гайки, костыли, скобы и т. д., – все для монтажа ЛЭП.
[Закрыть]. Тракторист поставил его под уклон на горе, а сам подсел к нам. Закурили. Вдруг, смотрим, трактор посунулся и стал набирать ход. Мимо нас мелькнули испуганные глазенки Андрея. Нас как ветром сдуло за ним. Трактор, высекая гусеницами искры о торчащие из-под снега булыги, катился по крутяку, набирая скорость. Километра через полтора-два этот спуск кончается обрывом. Парни сломя голову бегут за трактором, я тоже бегу, передо мной пружинисто поднимается смятый тягачом кустарник. И откуда сила берется. Доносится глухой треск. Подбегаю. Тягач завис над пропастью. Одна гусеница еще вращается вхолостую.
Парни барахтаются, тащат Андрюшку из кабины. Он хватается за рычаги и отчаянно кричит:
– Что вы меня, дед вам даст! – лицо перемазано кровью, из уха тоже течет кровь.
Хватаю Андрюху и тащу в гору. Бог мой, какие колдобины, цепкий, как колючая проволока, кустарник. Едва дотащил до палатки. Раздеваю, ощупываю: кости целы, руки, ноги тоже. Талип грозится всыпать Андрею, выпроваживает ребят. Все успокаиваются. Я сажусь за стол составлять форму.
Андрей трется около моей ноги, о чем-то спрашивает, я не слышу.
– Ты со мной не разговариваешь, да?
– Почему не разговариваю, просто я занят.
– А я тогда буду стол строгать.
– Так мы с тобой, Андрюха, не договоримся.
– Договоримся, договор дороже денег, ты же ведь сам говорил, бугор тоже говорил.
– Ты не слушаешься.
– Слушаюсь, слушаюсь, – Андрей поднимает глаза и, не мигая, смотрит на меня. – А кто инструмент собирает, не я, скажешь?
– Это хорошо. Молодец, Андрюха.
– И ты, дед, молодец, – серьезно замечает он. – А то бы эта техника «инструментальная» до сих пор валялась где попало.
Я беру Андрея за руку, привлекаю к себе и серьезно говорю:
– Надо нам с тобой, Андрюха-горюха, подумать о матери.
– Да ну? – оживляется Андрей. – А какая она? Не кричит, хорошая?
– Милая, ласковая.
– А Талипа возьмем?
– Талипу надо строить ЛЭП.
– А мне не надо? Я ведь тоже строго!..
На том и покончили.
Нет, не умею я с Андреем разговаривать. Оделся и ушел в гольцы. Стою под самым небом. Низкие беспокойные тучи плывут над туманом. Горы далеко внизу. В расщелине еле дымит поселок.

Почему-то все ребята считают, что я на него имею больше прав. Почему? Димка с Галкой даже просили его у меня, хотела Галка увезти к своей матери. А теперь не знаю, что делать. Где я буду завтра – неизвестно. Ничего не могу придумать. Пацану нужна школа, близкие, любящие его люди. У меня в кармане телеграмма – вызывают в управление. Несчастный случай со смертельным исходом: какое бы решение ни приняли, не могу я Андрея вот так оставить. Не могу, и все тут. Просеку буду рубить, все что угодно, пока не определю его. Андрей еще не знает, что Седой умер. Мы ему не говорим. Мальчишка к нему был привязан. А может быть, в таких случаях надо говорить? Все это получилось очень нелепо. Седой отморозил ноги. В тот день, когда он нес заболевшего Талипа из тайги, дул сильный холодный ветер. Седой снял с себя портянки – замотал Талипу лицо и руки. Когда дотащил до палатки, разуться не смог – ему разрезали сапоги, а ноги у него почернели.
Я так и не поговорил с ним напоследок. Заезжал раз в больницу – Седой лежал на спине, прикрытый одеялом, увидел меня, улыбнулся, сдул упавшую на глаза прядь волос.
Я смотрел на Седого: не лицо – земля. Только и есть всего – глаза. А он все улыбался.
– Слушай, – сказал он тихо. Губы у него потрескались. – У меня к тебе просьба – присмотрись к Полине Павловне, пожалуйста. Это стоящий человек. Если попросит, отдай ей Андрюху. И еще, – Седой набрал воздуха – в груди у него сильно свистело, – не пиши матери, пусть живет надеждой. Обещай, дед!
Я попрощался с Седым и вышел в коридор.