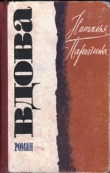Текст книги "Колымский котлован. Из записок гидростроителя"
Автор книги: Леонид Кокоулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Девочка Соня
И вспомнилось мне, как пришли с войны, как взялись без перекура: котлован – общага – котлован, школа: по одному классу в два года, только кустики мелькают! Опять завалил немецкий. Куда пойдешь, кому скажешь? Может, в ресторан? Иду.
«Ангара» – приплюснутое одноэтажное здание, народу полон зал. У двери в тоненьком пальтишке, посиневшая, в чем только душа держится, Соня. Подхожу.
– Пошли, – предлагаю, – чайку попьем.
– Чай не водка, много не выпьешь, – отвечает грубовато.
– Можно и водки.
– Да что вы, я сегодня не планировала, и одета вот…
И верно – замаскированные ваксой ветхие сапожонки, вылинявшая юбка.
– Пустяки, вполне сойдет.
– Вы так считаете? – радуется Соня.
Я придерживаю дверь, пропускаю ее вперед и помогаю снять пальто. Соня поспешно сует в рукав шапку и облегченно вздыхает – вешалка на месте.
– Одну минуточку, – говорит она.
И исчезает за дверью.
Я тоже вхожу в маленькую боковую дверь и мою руки. Соня появляется неслышно. Она ходит, будто в кисель ступает. Теперь у нее яркие губы, большие глаза подведены и кажутся диковатыми на маленьком лице.
Мы проходим в зашторенную дверь. Тетя Поля сидит на стуле и косится на нас. Тут же топчется Митя, ее помощник, стучит деревянной ногой. Настоящая работа у них начнется за полночь, когда уберутся оркестранты и на половине зала потухнет свет.
Выбираем местечко подальше от окна, в закутке – так хочет Соня, и садимся. Соня – спиной к залу, напротив меня. Если смотреть поверх ее головы, то виден буфет черного дерева со, львами и завитушками, уставленный бутылками и цветными плитками шоколада. Столы натыканы плотно. Сегодня понедельник, и музыканты придут позже на час – в восемь. Мне к часу на работу, в третью смену. В школу не пошел. Гнетет меня этот немецкий.
У Сони большие глаза, очень синие, и гусиная шея. Под ситцевой кофточкой в горошек мелко вздрагивает худенькое тело. Она то ставит, то убирает со стола острые локти, не зная, куда деть руки. Надувает пухлые губы:
– У-удобно ли нам вместе.
Подходит Зойка-официантка, смахивает со стола крошки и небрежно бросает меню.
– Ты кого привел? – шепчет мне на ухо, обдавая запахом одеколона и лука.
Соня съеживается. Я начинаю рассказывать о чем-то, как мне кажется, веселом, но неловкость не исчезает. Зоя ставит две тарелки с омулем, запеченным в тесте, и графинчик водки.
– Пива принести? Свежее.
– Ну его, не монтируется с водкой, голова будет болеть, а мне в третью смену.
– Как хочете, простите, как хотите, – поправилась Зоя.
– Вам на работу? – спросила Соня. – Тогда не надо было совсем, так бы посидели. А вот и музыканты.
– Немецкий опять завалил, беда мне с ним. Ну да ладно, жизнь не лошадь, когда-нибудь повезет. Салют!
Мы чокнулись и выпили.
– А вы учитесь? Такой большой! – Соня засмеялась. – Очень хлопотное это дело – учиться, я бы не смогла, особенно когда работаешь.
– Это только поначалу так кажется, а пойдешь – засосет, и потом, как ни хорохорься, а взрослому, такому большому, как ты говоришь, стыдно не ответить преподавателю. Вот и сегодня я вроде спасовал, не пошел… – Я запнулся. Выручили музыканты, заиграли «Синенький скромный платочек…».

Всегда со мной так: когда музыка, все мне становится нипочем, будто на волну меня поднимает. Жаль, что я не умею танцевать. Только и танцевал от души в День Победы, с солдатами танцевал. Я тогда тоже был солдатом.
После «Синенького платочка» заиграли вальс «На сопках Маньчжурии». В зале стало тесно, незаметно набрался народ. Топчутся между столами. От пыли даже в носу щекочет, дымина под самый потолок. Какой-то подвыпивший парень тянет Соню танцевать. Пусть потанцует, ей ведь хочется. Но она не идет:
– Отстаньте, говорят вам. Вот идиот, честное слово.
Ввязываюсь.
– Парень, тебе говорят!
Соня подвигается поближе ко мне вместе со стулом и растирает руку.
– Идиот, прямо хватает, я ему чуть не залимонила.
– Да ну его, портить такой вечер.
– Вам правда хорошо? – она, не мигая, смотрит мне в глаза.
– Вы хорошая девушка, Соня, и мне правда хорошо с вами.
– Только не надо смеяться, ладно?
– Я и не думаю.
– Какой тут низкий потолок, кажется, дым от самого пола. А я подумала, вы просто так говорите. Если вы правда не умеете танцевать, то давайте я вас водить буду. Или это неприлично, когда мужчину водят?
– В танцах – ничего, за нос – неприлично.
– Я бы вас не стала водить за нос, – серьезно сказала Соня.
Я посмотрел на парня, который тащил ее танцевать. Короткий ежик, рубцы на щеках и верхней губе – он походил на борца.
Зоя принесла кофе. Мы подождали, пока стало тесно, и тоже пошли танцевать.
– Как получится, – сказал я.
– Нормально получится, – заверила Соня.
Танец кончился, и мы стали пробираться к своему столику. Соня вдруг негромко ойкнула и закусила губу. Парень отдернул руку. Недолго думая, я врезал ему от души… Потом трудно было разобрать, кто кого бил.
Меня выручил Митя, как очевидец, поддержала и тетя Поля. Я расплатился за причиненный ущерб, и инцидент был исчерпан.
Висевшие на кронштейне часы показывали одиннадцать. Лениво падал снег. По торцовой мостовой процокала запряженная в хлебовозку лошадь. Обдало запахом свежего хлеба.
На обочине стояла «эмка». Заглянул – знакомый водитель.
– Эх, прокачу! Садись. Кони мои вороные!
– На Восьмую Советскую, – попросил я.
– Сей момент, – и шофер подал мне заводную рукоятку – кривой стартер.
Машина затарахтела, и мы уселись на заднее сиденье. Соня приложила к моему глазу пахнувший дешевыми духами платок. У нее была маленькая горячая ладонь.
Мы подкатили к длинному бараку.
– Ну что ж, Соня, если бы, как говорится, не досадные мелочи… а так все было отлично?
– А вы не зайдете разве?
– Как-нибудь в другой раз, Соня.
На обратном пути шофер сказал:
– Правильно сделал. Знаю я эту девицу, да и червонец при тебе остался.
– Пошел ты, пошляк, много ты понимаешь.
Шофер обиделся, резко затормозил. Я вышел из машины.
– Сам ты чувырло нестроганое! – рыкнул он мне вслед.
В котловане ухали копры, ревели самосвалы. Ночная смена рабочих стекалась с берегов Ангары и растекалась по агрегатам. Наша бригада бетонировала основание отводящей трубы канала. Работа была напряженная все эти дни, и я не выбрался в город. И только в воскресный день смог прийти на Большую улицу. Мне хотелось увидеть Соню. Я все еще чувствовал ее маленькую горячую ладонь на своем глазу. Снова я ее увидел у кинотеатра.
– Привет, Соня!
– А я вас еще издали узнала. Я вас каждый день жду.
– Вы очень изменились, впрочем, нет, что это я, вы такая же милая.
– Не смейтесь. Я устала вас ждать.
– И я скучал о вас. Зайдем? – кивнул я в сторону ресторана.
– Не надо, зачем тратиться, лучше в кино или так погулять. Это нехорошо, что я сама вас зову?
– Да нет, Соня. Идем, куда скажете.
– Знаете, я многое поняла. Может быть, я и раньше понимала. Люди, в сущности, так мало знают друг про друга, правда ведь?
– Вот вырастешь большая-пребольшая и все узнаешь.
– Как вы думаете, меня примут на работу без трудовой?
– Ну, конечно же, примут.
– Вы со мной только, пожалуйста, не сюсюкайте, говорите нормально, я хорошо вас слышу и понимаю. Но вот что, вдруг не смогу или не сумею или люди от меня отвернутся, так ли велик наш город, где тут спрячешься?
– Главное – твердо решить, и чтоб без отступлений, а люди поймут, хороших людей на свете ведь больше.
– Ну, что мы тут торчим? – я взял Соню под руку.
– Удобно ли вам? – сразу отстранилась она.
– Пустяки, мы есть мы, и не вешай нос!
На Большую, как в Иркутске называют главную улицу, вывалил народ сразу из трех кинотеатров, расположенных рядом и напротив. В нашем городе всегда так: когда идут из театров и кино, то по мостовой словно река течет, затопив всю улицу от домов до домов. И от шарканья ног образуется гололед.
Людской поток выносит нас до самого берега Ангары, тут он распадается на ручейки, а ручейки, словно струйки в песке, пропадают у домов. Здесь, на берегу, тихо, серая вода, мутные в тумане деревья. А с той стороны поросячий визг «маневрушки» – на том берегу вокзал.
– Летом здесь все по-другому, – говорит Соня, – в городе душно, а здесь приятно. Много лодок, бакены, как треугольники полосатые, правда, похожие? А как ваш немецкий?
– Ну его к шуту, заучился. Как-то пришли ребята в общежитие, меня спрашивают, а тетя Шура, уборщица наша, развела руками и говорит:
– Свихнулся парень, не по-нашему здороваться со мной стал!
Тетя Шура зимой и летом одним цветом: валенки, полушалок на лоб – только глаза видны, и тряпку из рук не выпускает, трет, чистит. А муж у нее – ну прямо каланча, ребятишки так и дразнят его – на лошади ездит по магазинам – продукты развозит. Умная коняга каждый вечер чуть тепленьким притаскивает его к общежитию. А тетя Шура от окна к окну бегает, просит: «Вы уж, мужики, поосторожнее с ним». А мы его, как жердь, волоком, надоел, да длинный уж очень, как иначе его. Слова от нее никто худого не слыхал, разденет его, в постель уложит. А тут как-то заглянул в их конуру, смотрю – тетя Шура сидит на кровати, а эта «каланча» по щекам ее. Не выдержал я, толкнул его. Как они оба на меня налетели, особливо тетя Шура, и откуда только прыть взялась, чуть глаза мне не выцарапала! «Паразит, кричит, ты эдакий, чуть мужика не изувечил! Кто тебя звал, без сопливых обойдемся. Не лезь, когда муж жену учит!» Вот и пойми их!
– Не надо мешать людям жить, – вздохнула Соня, – каждый по-своему, живет.
– И правильно. Сами разберутся.
– Вот у нас папа пришел с войны на одной ноге и без руки, но мама ему все равно поддавалась. Однажды, когда мама копала в огороде картошку, отец просыпал ведро и за это же пнул ее. Соседка не выдержала, перемахнула через плетень и ударила отца кулаком по спине.
Вскоре папа умер, мама плакала и всегда говорила: он умер от самолюбия. А соседку так до смерти и не простила. Мама у нас были добрая и работящая очень. А я вот ничего не умею, никакой специальности, разве что по дому…
– Научишься, не торопись. От работы кони дохнут, – глупо пошутил я, желая отвлечь Соню от тяжелых воспоминаний.
– А без работы люди гибнут, – вздохнула Соня и слизнула иней с ветки. – В детстве я мечтала стать артисткой. Когда мамы не было дома, доставала из сундука ее белое подвенечное платье, наряжалась и выступала, сценой мне служил тот же сундук. В войну мы все проели, но это платье мама сберегла. Мама много работала на заводе, иногда ее увозили в больницу, а была ли она хоть раз в отпуске – не помню, наверное, нет. Я бы тоже могла пойти на завод…
Соня втянула в пальтишко голову и по-детски хлюпнула носом.
– Знаете, как я себя представляю? Как на фото в журнале: комбинезончик на лямочках с кармашками, ботинки во-о-от на такой микропоре, из кармашка штангель поблескивает, косыночка.
– Неплохо, неплохо, эдакая ударница, да?
Я живо представил Соню, только уж слишком худенькая она, любой комбинезон перешивать придется.
– При заводе есть и школа рабочей молодежи… – И тут я заткнулся. Куда это меня повело, казенщина какая-то. Завод, школа. Разве все сразу ей перемолоть? Да и трудно это. Вот я позавчера опоздал на пол-урока и до звонка проторчал в коридоре. Сам по себе вывернулся вопрос: зачем хожу в школу. Ответ: хожу, и все.
Если уж честно – и никакой немецкий мне ни к чему, строить гидростанции в Германии я вовсе не собираюсь. Но другие же знают, чем же я хуже? А вот Витька Пономарев, тот ходит в школу для развлечения, не успевает по всем предметам, и ничего его не трогает. В школе ему просто кажется весело, ребята свои. Анатолий Белов не будет ходить, жена заставит ребенка нянчить. Яслей пока нет, вот Белов и едет на «тройке», мучается, изворачивается, а едет. А все же в школе мы крепко сдружились, да и отставать друг от друга неохота. Если день профилонишь, ходишь как потерянный, не хватает чего-то… Пропахший махрой класс. Мужики в гимнастерках, ордена спрятали, нашивки спороли, одни штампы да печати остались. Штатскими костюмами обзавестись не успели, да и не по карману, старое надо донашивать. Конечно, бывшие фронтовики – переростки в школе, гражданских мужиков тоже хватает, а между нами пацанва, как вьюны. Смешно!
Скажем, выйдет к доске Иван Романович и стоит, как мак, красный. Пот градом по загривку. Слуха у него никакого, в артиллерии и сейчас еще служит, правда, при штабе. И учитель слышит, и весь класс, а он нет, не слышит, как ни старается подсказать ему Галка. Валентин Иванович не выдержит: «Садитесь. Иди ты, Иванова». Галка тук-тук на каблучках. «Вы что, оглохли, садитесь!» – берет она из руки растерянного Ивана Романовича мел. Они сидят за одной партой, и Галка страшно переживает за Ивана Романовича. Прыгает около доски, не может стереть тряпкой неправильный ответ Ивана Романовича – не достает. Решение торопливо пишет внизу. Только мелок стук-стук.
– Правильно, – скажет Валентин Иванович, – садись, Иванова, – Галка сядет за парту и закроет щеки ладонями.
Или Танька Синьпаль – артистка, поет и в самодеятельности и в театре даже. Мы ее старостой избрали. Над Санькой Чувашкиным она просто издевается. Чувашкин длинный, как пожарная лестница, она тоже переросток, они вместе и сидят на задней парте. У нас все длинные и широкие на задних партах, чтобы не застили нормальным людям. У Чувашкина ноги под партой не вмещаются, он их в проходе оставляет, и лежат они, как трубы. Ох, этот Чувашкин! С третьего урока начинает свистеть носом. Как захрапит, Танька под бок его. Он откроет дикие глаза, спохватится, а она ему на доску кивает – вызывают, дескать. Он долго выпрастывается из-за парты – ждет подсказку, оправляет коротенькую гимнастерку под ремнем и марширует к доске. Круто поворачивается на каблуках и замирает. Глаза у него невидящие.
– Проснитесь, Чувашкин, проснитесь, – говорит преподавательница, – Чувашкин, проснитесь!
Всем смешно. Санька и сам смеется, а как только учительница отворачивается, он Таньке – пудовый кулак. В общем, все довольны.
Мы-то знаем, что учительница неравнодушна к Саньке, и Танька тоже знает.
С четвертого урока, бывало, убежим в кино на последний сеанс – билеты у Таньки уже куплены, хотя знаем, что послезавтра класс выстроят на линейку для «разгона», но никто не отстает. Иван Романович тоже с нами, хотя его на линейку не позовут – он полковник. Но он сам встанет рядом с Ивановой.
Конечно, чины в школе, ни при чем. По математике все списываем у Галки, по литературе пишем коллективно. По немецкому тоже списываем.
С Соней мы встречаемся. Поболтаем о том, о сем, провожу ее домой. «Привет». – «Привет». Эх, Соня, Соня. Глаза у нее чистые, правдивые. Что-то надо делать, на работу она так и не устроилась. Разговаривал с Борькой, теперь он не Борька – Борис Константинович, техникум окончил, заочно в институте, заводом командует. Правда, завод с гулькин нос – ремонтный, человек на сто рабочих, но какой ни есть – завод.
А пока живем мы с ним по-прежнему, вдвоем в одной комнате. Парень он скромный, говорит, женюсь, тогда уж и квартиру дадут. Обещал Соню устроить. Если в эту субботу не будет аврала, схожу к Соне. Какую вот только работу он ей предложит?
– Пусть приходит твоя Соня, – сказал Борька.
На Восьмую Советскую – не ближний свет, через весь город топать. Можно и спрямить, здесь каждая дыра в заборе знакома. С тех пор как мы пацанами бегали, мало что изменилось, разве что дома поглубже в землю ушли да крыши выцвели. Крыши – деревяшки почерневшие от копоти, труб по десять над каждым домом. Мне всегда жаль белых голубей, не успеешь выпустить, а они уже как трубочисты. Но это мой город, и лучше городов я не встречал.
Головорезов здесь хоть отбавляй, на каждой улице свои. Ясно, теперь не то, что до войны было, совсем не то. Посерьезнели дети за войну, что ли? Взять хотя нашу Подгорную. Какая орава собиралась! Война многих прибрала, короче – я, Наташа и Егор вернулись. Вон в том домишке, что под железной крышей, когда-то красной, а теперь не то бордовой, не то коричневой, живет она, подружка моих детских лет. Ныне Наталья Максимовна Ведерникова. А напротив дом с резными ставнями, в этом я жил. Наташа всегда с нами была, с девчонками она не дружила. Ее и не отличить, бывало, от мальчишки, отчаянная! Пилотку носила, мечтала военным летчиком стать. Мы тогда всей Подгорной вели ожесточенные бои с Нагорной улицей. Театр военных действий был на Иерусалимском кладбище. Была и кровь! Помню, изобрели мы пушку из водопроводной трубы, один конец расклепали и завальцевали, укрепили эту трубу на лафете – тележке из-под мороженого, трубу залили наполовину водой, запыжили деревянной пробкой, а затем доверху забили шариками из подшипников. Выкатили орудие на баррикаду, развели под стволом костер, нацелили на неприятеля, а сами в укрытие. Вся ватага при полной амуниции: шашки из обручей, ручки алюминиевой проволокой перевиты, пистолеты-поджигалы на боку. Ждем грома орудия. Пушка молчит. Наконец Наташа не выдержала – в нашем отряде звали ее Жанна д’Арк, подбежала к пушке, а за ней ринулись и мы. Только склонились к орудию, как даст! У кого полон рот земли, кому глаза запорошило. Но целые, повезло, оказывается, трубу по шву разорвало, пушку подбросило. Наташе мать, конечно, всыпала, а нам долго грозила палкой:
– Я вот вам, голодранцы, наворожите войну!
И наворожили. В войну наши улицы опустели – и Подгорная и Нагорная. Ушли Иценкины – двенадцать братьев, ушла и Наташа. К концу войны мать ее ослепла от старости и слез. Мы вернулись вместе с одним из братьев – Егором Иценкиным. В тот же день пошли к Наташе.
– Стойте, ребята, это же вы? – потянулась она к нам. – Еще порохом пахнете! Проходите, я сейчас…
Наташа вернулась в кителе, при двенадцати боевых орденах и медалях.
Прошли годы. Теперь к ним – Наташе и Егору – они поженились – я забегаю только по большим праздникам – девятого мая да двадцать третьего февраля. Егор поначалу обижался, что редко хожу, а как дали инвалидную коляску – нашел занятие, все ремонтирует ее. Живут они с Наташей дружно, детей нарожали, живность завели. Как-то встретил Егора – траву на Иерусалимском косил.
…На Восьмой Советской Сони не оказалось. Жаль. Оставил ей записку и адрес Бориса. Так уж сложились обстоятельства, что я Соню долгое время не встречал и не знал о ее жизни ровным счетом ничего.
– Бедовая эта, твоя протеже, – сказал как-то Борис. – Порядок на ее участке, и, между прочим, серьезная девушка. Помощником диспетчера поставил, так, представь, метлу не бросает, в свободное время марафет наводит.
– Признавайся, Боря, влюбился? Что-то больно расхваливаешь.
– А между прочим, о тебе справлялась, дипломатично так: занятия, дескать, жаль пропускать, а то бы Антона навестила, как он там с немецким справляется.
– Справляюсь, и передай ей, пусть учебу не бросает. Оставляю, Боря, Соню на твою заботу, сегодня уезжаю в колхоз строить МТС. И ты будь здоров!
– Буду. А что это ты так вдруг – в колхоз?
– Посылают сельское хозяйство поднимать.
– Ну-ну, смотри не надсадись.
Мы вышли на крыльцо, обнялись. Какая у Борьки тощая спина.
…Прошло некоторое время, и я возвратился в свой город. На деревенских харчах и свежем воздухе загорел и окреп.
Ярко светило солнце, пахло пылью, асфальтом и магазинами. Когда я долго отсутствую, мне кажется, что обязательно что-то в городе должно произойти, и я волнуюсь перед свиданием с родным городом. А в сущности, ничего не изменилось. Так же снуют люди, те же пыльные тополя по обочинам тротуаров. Разве вот только нарушили торцовую чарку на главной улице и вместо нее положили асфальт, уже сплошь поклеванный каблучками, разлинованный автомобильными шинами. Иду, а он под ногами пружинит. Вдруг впереди до чего же знакомая фигура. Хотел окликнуть, да вовремя спохватился. И так сегодня ошибок предостаточно, и на этот раз, видимо, обозвался. Поравнялся. Соня?! А у нее и портфель из рук. Смотрим друг на друга, сколько же не виделись? Опомнились. Свернули на улицу Левина в небольшой скверик. Присели на скамейке у памятника.
– Ну, как вы?
– А вы, вы как?
– Вид у вас прямо профессорский, портфель, солидность, не узнать.
– Вы, как всегда, шутите… Но разве так можно, уехали и слова не сказали?
– Так лучше было, Соня, но я исправлюсь, поверьте, – перешел я опять на шутливый тон, так часто выручавший меня. – Что же нового у вас, Соня, рассказывайте скорее.
– Все новое. – Соня щелкнула портфелем.
– Неужели аттестат? Ну, вы настоящий молодец, как я рад! Теперь осталось замуж выдать, или уже?
И тут Соня вдруг резко отвернулась.
– Что, Соня? Я что-то не то сказал, обидел?
– Нет, нет, я просто так, мне пора идти, прощайте! – Соня схватила портфель и быстро перешла улицу. Увидев подходивший автобус, побежала на остановку. Я стоял в нерешительности – бежать за ней?
Автобус медленно тронулся. Я вернулся на скамейку.
Больше я Соню не встречал. Да и не искал встреч. Разбросало нас по свету. Но иногда приходит мысль: ведь неспроста кто-то когда-то придумал исповеди. Ох как надо человеку иногда исповедаться, а выговорился, отрегулировал маятник – и снова отстукивает сердце…