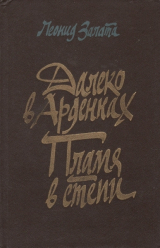
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
Надежду одолевал сон. Она и не заметила, как склонилась к Цыганкову. Ее укутанная в шерстяной платок голова упала ему на локоть, и он замер, боясь пошевелиться.
А кони бежали вдоль засеянных полос, мимо степных оврагов, а небо плыло, плыло и оставалось на месте.
Надежда не слышала, как Махтей спросил:
– И долго вот так?
– О чем вы, дедусь? – не сразу отозвался Цыганков.
– Думаешь, если дед, то уже и слепой? Сохнете, сохнете и никак не присохнете... На фронте не боялся, а здесь трусишь?
– Экий вы специалист по сердечным заботам! – незлобиво произнес Цыганков. – Не за ту вожжу дергаете, дедусь.
– Спрашивал хотя бы?..
– Спрашивал. Вся в прошлом... Куда мне и доступа нет.
– Бывает. Высокий порог переступить трудно... Ох, и выпил бы я на вашей свадьбе! – крякнул Махтей. – Хорошая женщина... Когда-то в этих делах я немного кумекал. Тп‑р‑р‑у! Кого там спозаранку носит?
Дроги качнулись на рессорах, остановились. На перекрестке, где джагытарскую дорогу пересекала колея на Карачаевку, маячила фигура человека.
– Что, уже приехали? – встрепенулась, выпрямилась Надежда. – А я так сладко вздремнула.
Она так и не поняла, что спала, привалясь к председателю.
Цыганков соскочил на землю.
– Андрей Иванович, это вы? Как хорошо, что встретила вас, ой как хорошо!
– Стефка?
– Беда, Андрей Иванович. Трактор заглох, далеко отсюда. Застрял в борозде. Трактористка плачет, прибежала ко мне в слезах... Здравствуйте, дедушка! – подняла глаза на старика Стефка.
– Кто плачет?
– Да Валька же! Валька Усова, кто еще?
– А ты почему здесь?
– Везу своего дударика. Он у меня тракторист, вот и везу, пусть глянет... Ой, тетя Надя! И вы здесь? Здравствуйте! Ну как, приняли?.. Обоих приняли?.. Дайте я вас расцелую.
– Подожди, Стефка, – осадил женщину Цыганков. – Целоваться будем потом. Где твой тракторист?
– В коляске он. Не видите?..
– Здесь я, здесь! – донеслось из тьмы.
– Молодец, Стефка! Садись... А вам, друзья мои, придется домой пешком добираться. Смотрите, дедушка, не потеряйте по дороге Надежду Егоровну!
Упряжка исчезла в туманной пелене.
– И в самом деле, чем не фронт? – сказал Махтей, пропуская через пятерню свою черную бороду. – Только и разницы, что не пули свистят, а суслики...
2
Победа Советской Армии под Сталинградом ранним весенним громом прокатилась по всей Европе. На заводах Льежа, Брюсселя, Шарлеруа, Намюра, на железнодорожных станциях и шахтах участились диверсии. Люди с надеждой оборачивали свои взгляды на Восток, понимая, что именно там решается судьба мира, охотно пересказывали друг другу радостные вести, а также язвительные анекдоты о британском льве, галльском петухе и русском медведе.
Беглецы из шахт Лимбурга прятались в лесах, накапливались в группы. Среди них было немало и советских военнопленных. Почти безоружные, не имея между собой связи, группки проявляли себя дерзкими налетами на немецких патрулей, реквизировали у богатых фермеров скотину, что дало повод профашистским газетенкам в Брюсселе и Льеже поднять шум о «бандитизме в Арденнах» и поносить бельгийских коммунистов, которые, дескать, «не только симпатизируют, но и активно помогают русским саботажникам».
Взбодренный этой шумихой, генерал Фалькенхаузен стал требовать, чтобы военное командование прислало в Арденны карательные отряды.
Начались облавы. Во время одной из таких облав погиб Симон Гарбо.
Он возвращался домой поздно вечером на велосипеде. Дорога из карьера выходила на станцию Пульсойер к самому перрону. Немцы устроили здесь заставу, проверяли документы у пассажиров только что прибывшего из Льежа поезда. Кто-то из рефрактеров[24]24
Рефрактер – так в Бельгии называли тех, кто уклонялся от мобилизации на работы в гитлеровской Германии.
[Закрыть] выпрыгнул из окна вагона и бросился бежать. Под автоматную очередь угодил Симон.
Двое маленьких Гарбо, едва научившись узнавать отца, навсегда потеряли его.
Эжени почернела от горя.
ЦК Бельгийской компартии предложил Диспи взять под контроль действия разрозненных групп в Арденнах и объединить их в единый партизанский полк.
В начале июня Люн привез Жозефу Дюреру приказ Диспи.
Они сидели у Люна: Дюрер, Кардашов и Люн. За окном угасали вечерние краски. На столе дымился кофе. Тихо входила и выходила Николь.
– Я и сам думал над этим, – взволнованно говорил Жозеф. – Полк! Представляете?.. Но оружие? Где взять оружие?
– Да, капитана Гро дважды не выдоишь, – усмехнулся Кардашов. – Теперь он ученый.
– Вчера Фернан нашел под дверью послание капитана. Гро требует вернуть «незаконно присвоенное оружие».
– На что он рассчитывает? – взорвался Николай. – По-моему, он просто подстраховывает себя бумажками на случай, если прижмет начальство.
– Может быть, и так...
– Черт его знает. Но послание суровое.
– Нам только междоусобиц и не хватает, – Дюрер, вздохнув, отхлебнул из чашечки кофе. – Кстати, где сейчас Антуан?
– В Пульсойере. После смерти Симона Эжени словно лишилась разума. Щербак понес для нее деньги, ну и вообще...
Жозеф Дюрер уже не слышал Люна, он думал о приказе Диспи. Приказы издаются для того, чтобы их выполнять. Но как? Как выполнить этот приказ? Группы беглецов разбросаны в горах на десятки километров от магистрали Льеж – Люксембург. Дислокация многих из них известна лишь приблизительно.
– Эсэсовцы продвигаются только вдоль железной дороги, – сказал Люн. – В горы не лезут. Но в Центре есть сведения, что из итальянской Ломбардии скоро прибудет батальон горных егерей.
– Вот как! – присвистнул Дюрер. – Значит, боши зашевелились... Но мы не имеем права допустить, чтобы враг разбил партизанские группы по одной. Нам нужно поскорее объединяться. Л’юньон фе ля форс[25]25
В единении – сила (франц.).
[Закрыть]. Но как это быстро сделать? Времени у нас в обрез...
Жозеф поднялся – длинноногий, как стайер, заходил широкими шагами по комнате, будто измерял ее вдоль и поперек. Куцые неровные брови над глубоко посаженными глазами делали его лицо, даже когда он улыбался, сердитым, а сейчас торчали, как иголки ежа.
– Напиши приказ, мы размножим, разнесем.
Жозеф остановился у стола, налил кофе.
– Могут подумать: а что, если это все – провокация?.. Нет, приказом делу не поможешь. Смог бы я сам побывать в каждом отряде – другое дело...
– Насколько я знаю, – сказал Кардашов, – крылья у нашего команданта еще не выросли, поэтому предлагаю сделать иначе. Размножить приказ, конечно, нужно, однако сначала собрать бы на совещание командиров групп. Согласитесь, послать одного делегата риска меньше, чем явиться сразу всем отрядом.
– Пожалуй... Мы потратим три, допустим, четыре дня, зато больше толку... – Дюрер помолчал. – Наметим маршруты, подберем связных. Тебе, комиссар, придется идти к Селю. Задание, скажу прямо, не простое. Мне кажется, что этот Сель не нашего поля ягода. Он не столько воюет с немцами, сколько обирает фермеров. Хорошо, если просто дурак, а то, глядишь, и авантюрист, каких сейчас развелось с избытком. А если... Говорят, в его отряде два или три англичанина – летчики, сбитые под Шарлеруа. Эти парни меня особенно интересуют И вот почему...
Жозеф рассказал, что «Тайная армия» располагает каналами, по которым переправляет нужных им людей на Британские острова. Летчики конечно же мечтают о возвращении домой. А что, если предложить капитану Гро этих англичан в компенсацию за потерянные автоматы? Небось и от Щербака отстали бы. В конце концов спасение летчиков будет зачислено в актив тому же служаке Гро, а это не так уж и мало. Гро должен уловить в этой сделке свою выгоду...
Жозеф говорил долго, уставив взгляд в черный прямоугольник ночного окна, будто хотел разглядеть за ним далекие контуры горных вершин, и Николай понял, что требования капитана Гро – дело не пустячное, иначе командант, озабоченный приказом партизанского штаба, не стал бы отвлекаться на мелочи.
– Спасибо, ами, – сказал Николай.
Дюрер задумчиво крутил в руках чашечку с остывшим кофе и не сразу поднял голову.
– Ты что-то сказал?..
3
Наш командант Жозеф Дюрер в последнее время не дает нам передышки. Вооруженные «шмайсерами», мы ходим в небольшие рейды и наделали много переполоха в окрестных комендатурах.
В начале июня под Вервье нам удалось перехватить вагон с динамитом американского изготовления «пластик», предназначавшимся абверовцам Гискеса. Сожгли лесопильный завод вблизи Айвая, на котором изготовлялись ручки для пехотных и противотанковых гранат.
Переход через горы нам дался неимоверно трудно, я еле осилил его, на ногах появились кровавые мозоли.
Хлопотливая мадам Николь смягчила мои раны какими-то мазями, забинтовала ноги и велела лежать.
Я пролежал два дня, и время это было для меня сплошным мучением. Потому-то, когда Люн сказал жене, чтобы она отнесла Эжени зарплату[26]26
Бельгийские партизаны получали ежемесячную зарплату.
[Закрыть] Симона, которую партизаны решили сохранить за вдовою, я тут же предложил свои услуги: мол, слишком залежался, мозоли, чего доброго, вспухнут и на боках. На самом же деле рад был случаю повидаться с маленькой Эжени.
...Ветер дул с северо-запада, он зарождался в низинах Брабанта и Фландрии, а возможно и еще дальше, где-то над морем, но по дороге, зацепившись за трубы Угре и Серена, терял свою первородную чистоту и свежесть. В беспредельной глубине неба плыли белые кучевые облака. Их несло почему-то против ветра, видимо, там, вверху, у них были какие-то свои маршруты.
Я шел крутою тропинкой вдоль террасы в Пульсойер.
Шуршали в бурьянах мыши. Наколов на иголки ужа, деловито волок добычу к своему логову еж, дурманяще пахла из зарослей за рыжими осыпями ночная фиалка.
После гибели Симона я долго не решался навестить убитую горем Эжени. Для соседей и местных властей я был ее далеким родственником, и никого бы не удивило мое появление в домике Гарбо в самые скорбные дни для семьи покойного, но какая-то сила удерживала меня от этого шага.
Мама, я признаюсь тебе, пока только тебе: я люблю маленькую Эжени. Я любил ее и тогда, когда она светилась счастьем рядом со своим Симоном в обществе крикливых малышей. Счастье этой семьи щедро одаряло всех, кто приходил к ним в гости. Но в то время я не знал, не понимал, почему при одном лишь взгляде на эту хрупкую женщину так светло и радостно становится у меня на сердце. Когда-то я читал, что любовь приходит к людям как озарение, властно и неожиданно. Но вычитанные слова не оставили следа в моей душе, каждый открывает любовь для себя сам, а я был слишком юн, чтобы понять высокую суть чужого опыта, если это вообще можно понять.
Меня влекло и к Симону. Нравилась его сдержанность на слова, добрый и какой-то мудрый взгляд сквозь толстые стекла очков. Я думал, что навещаю Симона, а на самом деле приходил ради Эжени. Возможно, виною всему были ее глаза. Три кружочка в зеницах – синий, темно-синий и совсем черный. Радостно и страшно смотреть в такие глаза – необъяснимое очарование в их глубине...
Свою любовь к Эжени я осознал в тот день, когда Симона совсем не стало. Возможно, мне передалось ее горе и совместные переживания обострили мое чувство, не знаю, только пришло это самое озарение. Так, пожалуй, чувствует себя слепой, которому посчастливилось на миг прозреть.
Было, наверное, кощунством думать о любви, когда земля стучала о сосновые доски, когда глаза Эжени не просохли еще от слез и в них не было ничего, кроме страдания. Но я жалел ее, очень жалел в эти минуты и готов был поклясться, что никогда не оставлю ее одинокой. Пугала мысль: а как же Катя? Силился восстановить в памяти ее лицо, голос, но вспомнились разве только шелковистые косы, как покачивались они в такт ее шагам, когда Катя в последний раз ушла от меня, ни разу не оглянувшись.
Может, все было бы иначе, наверное иначе, если бы не война. И Катя дождалась бы меня, и я сумел бы оценить ее преданность и полудетскую отвагу: «Теперь я буду ждать! ..» Все может быть. Прости меня, Катя. И ты, мама, прости...
На другой день я запретил себе думать об Эжени. Я сказал себе: опомнись, парень, неужели тебя занесло за тридевять земель для того, чтобы... Нет, ставь точку! И я был уверен, что мне удастся ее поставить.
Потом нахлынули сомнения: «Что скажу Эжени? Забудь о прошлом? Живым нужно жить? Надежда на счастье не потеряна? Настанет же на земле и тишина, забудутся тревоги, возвратится к нам способность воспринимать радость, какой она есть, без примеси горечи».
Но настанут ли такие времена и можно ли забыть то, что свято для сердца?
...У Эжени оказался Рошар. Громадная, на весь проем дверей, фигура, широкие, будто созданные для эполет, плечи, кучерявая борода, словно бы поддерживающая незажженную трубку.
Я так обрадовался этой встрече, что чуть ли не бросился в объятия, но старик ничем не выдал своей радости, был скорее хмур, и это удержало меня от проявления своих эмоций.
Эжени, прямая и тонкая, как свеча, стояла около стола. Тяжелый узел волос, скрепленный черепаховым гребешком, оттягивал ее голову назад и немного вбок, будто она к чему-то прислушивалась. Возможно, она и в самом деле слушала – из-за полуприкрытых дверей детской комнаты доносилось сонное чмоканье моих крестников.
– Здравствуй, – сказал я и осторожно притронулся ладонью к ее плечу.
На мочках белых, почти прозрачных ушей, где были серьги – крохотные, янтарные капельки, – темнели теперь дырочки. В глазах – пустота, трижды усиленная пустота, я будто наклонился над срубом и заглянул в колодец. Кто-то из малышей заплакал, и она пошла в детскую комнату, все такая же прямая, с откинутой назад головой, словно бы не в горе, а некоей гордости, и складки ее черного платья колыхались плавно и торжественно.
– Меня она стала замечать лишь на второй день, – сказал извиняющимся голосом Рошар, привычным движением пальцев стиснув незажженную трубку.
– Я принес деньги. Вот... Это зарплата Симона. Отныне ее будет получать Эжени.
Старик насупился:
– Я хотел бы забрать ее на ферму... Ей нельзя сейчас оставаться одной. А она не хочет. – Рошар набил трубку табаком и направился к лестнице, что вела на второй этаж. – Пойдем, там поговорим... А может, она просто не слышит меня. Ведь ей сейчас ни до кого и ни до чего. Это плохо, когда человек молчит...
Мама, я сделал для себя неприятное открытие. Антон Щербак, твой сын, ужасный эгоист. Я обрадовался ее упрямству, что она не соглашается ехать на ферму, как ребенок, и чуть было не выдал себя перед Рошаром. Я не знал, на что могу рассчитывать, не знал, решусь ли вообще открыться Эжени в своих чувствах, а если осмелюсь, то как она отнесется к этому. Я просто не думал об этом. Если правда, что любовь похожа на озарение, то правда и то, что это озарение может ослепить.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
После дождя густо, будто посеянная, взошла лебеда, на склонах балок буйствовал чистотел. Арбузные плети, вплетаясь усиками в бурьяны, развесили, словно ягоды смородины, свою рыжеватую завязь на чужих стеблях.
Шуршат тяпки.
Взошло, взошло солнышко,
Вставай, моя доченька,
За рабо-оту.
Это Махтеиха. Ну и клятая баба – тут спину разогнуть невмоготу, а ее и хлебом не корми – песня за песней!
А я нагулялася,
Да нацеловалася,
Спать охо-ота...
– А что – старик твой и поныне лижется? Хи-хи... Ты бы ему бороду обкорнала!
Махтеиха останавливается, шарит руками в складках цветастой юбки, извлекает точило. Руки – полные, быстрые, как у молодицы. Жик-жик...
– Щекотки боишься?
Жик-жик... Лезвие тяпки сверкает на солнце.
Махтеиха вздыхает; смотрит куда-то вдаль, за Тобол, за камыши.
– Вот кончится война, ох и нацелуемся тогда, бабоньки...
– Если будет с кем.
– Язык бы тебе прищемило! Не ворона же ты! Каркаешь...
– А что? На все село один мужик путный, да и к тому не подступишься.
– А может, у него это...
– Да что вы – одурели! Девчат в краску вгоняете.
Надежда, обхватив ручку тяпки, склоняется ниже. Понимает – треплются про Цыганкова. Да, не одна вдовушка рада бы шагнуть ему навстречу.
Плывет, точно дымка, пыль, застилая низкое солнце, сочно хрустят под тяпкой корни молочая. Над речным плесом летят кряквы.
– Все, шабаш! Стадо уже погнали.
И затихли тяпки. Звонко щелкнул вдали арапник.
Пока прибились к околице, стемнело. С выгона лениво двигалось стадо, во дворах зазвенели подойники. Встряхнув ярко-красным гребнем, петух погнался за кошкой, взлетел на крыльцо и возмущенно заклокотал.
За домом кузнеца, около флигелька, Надежда увидела Станислава. Он стоял, неловко раздвинув свои обрубки, и усердно бил топором по гнилой колоде. Издали казалось, что он врос ногами в землю. Стефка сегодня работала неподалеку, на колхозном огороде, успела прибежать и, радостная, складывала поленья.
– А мы дрова рубим, – сказала она так, будто Надежда могла не заметить их работы.
В словах чувствовалась гордость за мужа, такого ладного парня, пригодного на все, даже дрова колоть, не говоря уже о том, что требуется еще от мужчины в доме.
Станислав смущенно улыбнулся и вытер рукавом пот. После госпиталя он уже загорел и окреп, перестал мучиться от сознания своего увечья, а на Стефку смотрел так, что и сам порой стыдился собственной откровенности.
«Боготворит ее, – подумала Надежда. – Счастливая».
...Цыганков сдержал свое слово – открыл столярную мастерскую, а материал привез из Кустаная. Как ему удалось выбить такой наряд, для всех оставалось тайной. Правда, на настоящую мебель распил был не пригоден, из него можно было сколотить разве табуреты, скамьи или грубые столы под скатерть. Однако Станислав был рад началу. Верстак он подогнал под свой рост, инструмент по избам насобирали, а тут еще и списанный мотор нашелся. Долго морочили над ним голову вдвоем с Махтеем, и все-таки запыхкал в конце концов мотор и завизжала в мастерской циркулярная пила...
Ветер зашелестел листьями тополей, закрутил на дороге серое веретено. А когда оно улеглось пылью, Надежда увидела деда Панаса.
Вся ее жизнь стала сплошным ожиданием, в котором боролись страх и надежда. Так в потухшем костре под темной коркой пепла рдеют невидимые искры: они не в силах уже пробиться сквозь слой тлена и все же сохраняют в себе исчезающее тепло.
Последнее письмо от Антона она получила за день до эвакуации. Письмо было довоенным, помеченным двадцатым июня, и не сразу догадаешься, почему так долго оно шло от Тирасполя до Сивачей, возможно, в поезд угодила бомба, письма разметало по степи, а со временем чья-то добрая рука подобрала их и опустила в почтовый ящик.
Теперь, измученная долгим ожиданием и неизвестностью, она искала глаза деда Панаса, чтобы по ним тут же определить, с чем он пришел. Дед Панас на этот раз не отвел взгляда и не склонил головы, он знал, какие письма страшны, научился узнавать их по внешнему виду, по почерку, по толщине, а может, и еще по каким приметам, которые известны лишь почтальонам.
Письмо было от майора Отто Вейса. Он сообщал о том, что ему удалось установить: лейтенант Антон Корнеевич Щербак командовал ротой летом сорок второго года, рота его вместе с другими подразделениями дралась в окрестностях Харькова. Дальнейшая судьба Щербака неизвестна... На отдельной страничке из школьной тетради в клеточку – каракули: «Здравствуй, мама Надя...»
Надежда заплакала. «Командовал ротой... Дальнейшая судьба... неизвестна...» Два голоса слышались ей где-то в глубине души: один добрый, даже веселый: «Командовал ротой...», а другой жесткий, с оттенком печали: «Дальнейшая судьба... неизвестна...»
Больная от дум пришла она домой. И снова застучало в груди. Такой уж, видимо, тревожный день выпал ей сегодня: на завалинке, потягивая самокрутку, сидел солдат. Подле ног – скатка шинели, вещевой мешок. Солдат сплюнул сквозь зубы, растер плевок сапогом.
– Я – Манюшин, слышали о таком?
– Иван?..
Надежда долго не могла попасть ключом в замочную скважину.
– Заходи, Иван... Не знаю, как тебя величать... Живу вот в твоей хате... временно, как эвакуированная... не сердись... Пришла только что с работы...
– Можно и не величать, – сказал Манюшин, – не привык я к величанию. А где же Антонина? Или до сих пор еще в поле?..
– Антонина?.. Да ты садись, не куда-нибудь пришел, а к себе домой... Я лампу сейчас зажгу, кстати вчера керосина достала...
Солдат был молодой; когда снял пилотку, чуб рассыпался, как у юноши.
– Что-то вы недоговариваете, тетенька... Может, что случилось с Антониной? Ну, говорите же, говорите!
И Надежда заплакала, во второй раз за этот щедрый на слезы вечер.
– Да похоронили же тебя, Ваня... Похоронили.
Манюшин, кажется, начал что-то понимать, потянулся за кисетом, долго развязывал его.
– Как это... похоронили?
– Да так. На тебя ведь пришла похоронка. «Смертью храбрых...» Дед Махтей и розы для твоей могилы выковал...
Махорка из рук Ивана посыпалась на скамейку.
– Похоронили, значит... Поторопились... выходит... Живой я еще... живой!..
У Надежды не было сил сказать ему правду про Антонину. Пусть узнает об этом не сразу, попозже и не от нее.
– Наплакалась твоя Тоня и поехала в Кустанай. А хату на меня оставила. Живите, говорит, тетя...
Иван водил глазами из угла в угол, словно проверял, все ли на месте, все ли так, как тогда, когда стоял, прощаясь, около дверей, а Антонина, повиснув у него на шее, рыдала и он взволнованно говорил: «Ну, вот снова завела свою мокрую песню. Перестань. Осенью буду дома. С орденом».
Орден был. И не один, даже три ордена. Но не было Антонины, а была жгучая пустота в груди и лютая ненависть к батальонному писарю, заспешившему со скорбной вестью. Хотя, если подумать, не мог писарь знать, что Иван Манюшин бессмертный. Его уже дважды вычеркивали из списков личного состава, но он воскресал, живучий, словно ветка вербы.
– А я горел в танке и о ней думал...
Над лампой кружила, билась в стекло ночная бабочка.
– Хочу взглянуть на свою могилу. Где она?
– Да зачем тебе могила! – крикнула в сердцах Надежда, пытаясь голосом отогнать от солдата горькую думу. – Садись, ужинать будем.
– Мертвые не ужинают, им полагается в земле быть...
Иван шагнул за порог как пьяный, сгорбив молодые плечи. Надежда дунула в лампу и побежала за ним. Негоже в такую минуту оставлять человека одного.
Так они и шли – Манюшин впереди, а Надежда позади – через всю Карачаевку на Верблюжий холм, заросший в низине черемухой.
– Здесь, – сказала Надежда, вздохнув.
Низко, почти над самыми прибрежными камышами, висела круглая, как хлебный каравай, луна, бросала на могилы пестрые тени. Над опутанной вьюнком полосой железа «цвели» железные розы. Иван нечаянно зацепил их локтем – и они нежно, как колокольчик на шее ягненка, звякнули. Иван пальцами прощупал на полосе вырубленные зубилом буквы.
– Да, грамотный дед, ничего не скажешь – «Манюшин И. О.». Все верно... Похоронил меня... заживо... А я вот воскрес! – Глаза Ивана болезненно заблестели. – А вам не страшно разговаривать с покойником? Не страшно?
– Хватит дурачиться! И кузнец здесь ни при чем! – нарочито грубо отрезала Надежда. – Пошли отсюда!
– Выходит, я и смерть обманул! – Манюшин засмеялся. – Как Христос... Взял да воскрес. Хочешь – живым считай, хочешь – мертвым.
И он зашелся таким хохотом, что из черемухи испуганно взметнулась сойка. Иван топтал «могилу», путаясь в стеблях вьюнка, давил каблуками железные розы и захлебывался каким-то диким, нечеловеческим смехом.
– Угомонись! – стала просить Надежда. – Грех – так вот по человеческим костям... Как-никак здесь кладбище.
– А я по своим топчусь, по своим!..
Вдруг он остановился, притих, посмотрел вокруг невидящими глазами.
– Простите... Простите меня, люди...
Надежда вела его домой, как маленького ребенка, и всю дорогу говорила и говорила, откуда только и слова брались. Они проистекали из ее одиночества, из ее боли и горя, из ее мудрости, которую она в себе даже не подозревала. Она говорила о войне так, будто не он, Манюшин, а она горела в танке и осталась в живых, чтобы после госпиталя, получив отпуск перед отправкой на фронт, зайти в пустую отцовскую хату, посмотреть на свою «могилу» и... не сойти с ума. В гражданскую была вдвоем с Корнеем, после гибели мужа – вдвоем с сыном, теперь одна, совсем одна, после нее не останется ни живых, ни железных роз. А мир будет стоять, и живые будут жить, в шрамах, израненные, но способные нести дальше крест своей судьбы. Лишь бы не пасть духом...
Иван молчал. Только около ворот обронил:
– Не пуля меня убила – клочок бумаги.
Ужинать отказался, тут же засобирался в дорогу.
– На станцию?
Он болезненно поморщился:
– Не бойтесь, я не к ней. На фронт. Пусть живет себе... – И Надежда поняла, что Иван знает об Антонине все, даже то, что она утаила от него.








