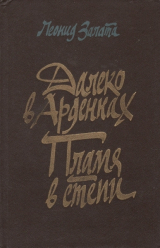
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
В начале декабря 1944 года на Западном фронте установилось затишье. Немецко-фашистские войска занимали оборону по линии Зигфрида, а союзники разрабатывали планы, как ее преодолеть.
Убежденные, что немцы сейчас озабочены состоянием укрепрайона, который они в свое время сильно ослабили, перебрасывая на побережье все, что можно было снять с прежних рубежей, американцы вели себя в Арденнах довольно беспечно. В пивных и кафе не закрывались двери, заокеанские солдаты завидовали англичанам и расхваливали Монтгомери за зимние отпуска для фронтовиков, офицеры разыгрывали в карты право попасть в число счастливчиков, для кого уготованы праздничные казино на рождество в Париже.
По горным долинам от Вервье до Спа и до Ставло и дальше на север и запад брели освобожденные из фашистского рабства бельгийцы и французы. Никто не знал, что в их среде десятки вражеских агентов.
Союзникам было известно о передвижении двух танковых армий за линией фронта, однако ждали они их севернее от Ахена, памятуя, что Гитлер поклялся отбить этот город любой ценой. Фашистский глава тем временем вынашивал планы несравненно большей операции, чем захват небольшого, пусть даже и важного в стратегическом отношении города. Потеряв надежду сдержать победную поступь советских войск на Востоке, он лелеял надежду проучить самоуверенных американцев и при удаче навязать им сепаратные переговоры с далеко идущими целями.
Воспользовавшись туманом, помешавшим союзникам вести воздушную разведку, генерал-фельдмаригал Рунштедт скрытно перебросил 5‑ю и 6‑ю танковые армии СС на юг, в предгорья Арденн.
На рассвете шестнадцатого декабря гитлеровские войска прорвали оборону американцев на участке корпуса генерала Миддльтона. Танковые колонны хлынули в прорыв по горным дорогам на Вервье, Маршен и Бастонь, намереваясь выйти к Льежу, Намюру, а затем к Антверпену и таким образом отрезать английские войска в северной Бельгии и Голландии.
Сброшенные в тыл парашютисты захватывали мосты и важные населенные пункты, переодетые в американскую форму эсэсовцы известного головореза подполковника Отто Скорцени охотились на штабы и отдельных офицеров, сея в горах панику.
Удар был неожиданный и весьма болезненный для союзников. 19 декабря танкистам Рунштедта оставалось до Льежа каких-то сорок километров. Там их ожидали огромные склады горючего, оттуда открывался прямой путь на Антверпен.
Головные силы 5‑й танковой армии стремительно продвигались к берегам Мааса. В районе Намюра они встретили сильный отпор и, не принимая боя, повернули на Динан и Живе, откуда уже было рукой подать до французской границы.
Немецкий клин рассек 1‑ю американскую армию пополам. 8‑я пехотная и 7‑я танковая дивизии в Сен-Вите, 101‑я парашютная и 10‑я танковая дивизии в Бастоне попали в окружение и заняли круговую оборону.
Прошло несколько дней, прежде чем 9‑я армия генерала Симпсона развернулась южнее Льежа, а 3‑я армия Паттона начала наступление навстречу ей на север, имея на острие отдельный корпус генерала Коллинза. В район Динана из Англии на транспортных самолетах срочно прибыла 6‑я парашютная дивизия с заданием не допустить переправы немцев на левый берег Мааса.
Чтобы перекрыть врагу путь на Льеж с юга, американцы возводили укрепления в долине Урт-Амблев. Дофоги заваливали гранитными глыбами и бревнами, в скалах оборудовали пулеметные гнезда, устанавливали скорострельные пушки Бофорса, подвозили тягачами на выбранные позиции гаубицы.
3
Майора Легранна отозвали в штаб корпуса еще перед немецким наступлением. Командование гарнизоном в Комбле-о-Поне возглавлял полковник Блек, сухощавый техасец с двенадцатизарядным кольтом за поясом. Этот кольт он носил почему-то без кобуры и потому напоминал ковбоя.
Антон Щербак, работавший в это время в комитете Фронта независимости, пришел в американский штаб с просьбой выделить в системе обороны города участок для русских партизан.
– Мы могли бы и отсидеться эти дни, – объяснял он причину своего появления здесь. – Кому хочется нарываться на опасность, когда вот-вот домой. Однако обстановка тревожная, а мы – солдаты. Дайте нам оружие и отведите участок фронта.
– Не имею права, – сказал Блек. – А, собственно, что вы хотите защищать? Эту сотню вшивых строений? На черта он мне самому сдался, этот Комбле-о-Пон! Получу приказ и – дальше... как велит генерал. – Он небрежно кивнул на радиопередатчик.
– А если прикажет защищать? Позади Льеж!
Блек стряхнул щелчком столбик пепла с сигареты, окорячил низенький столик у стены.
– Если мы все же станем защищать эту проклятую дыру в горах, возможно, я вас использую... Держитесь в пределах видимости.
Сославшись на неотложные дела, Антон откланялся. Однако не успел он пройти и сотни шагов, как его вернули назад. Полковник Блек мрачно взирал на радиопередатчик.
– Получили приказ?
Толстый капитан в золотых очках, который служил им за переводчика, опередил шефа:
– Полковник интересуется, не укажете ли вы поблизости подходящее место, где можно посадить без риска самолет? Самолет связи «Л‑5», совсем крохотный, можно сказать беби, но все же – самолет.
Щербак сказал, что он никогда не видел «Л‑5», но знает посадочную площадку в горах неподалеку от замка Лануа.
– А дорога туда есть? – оживился полковник.
– Только до замка. А там... Если потребуется, пришлю вам проводника.
Проводником поехал Савдунин.
В тот же день в Комбле-о-Пон прибыл генерал. Самолет благополучно приземлился у подножья известняковой куэсты на площадке, которую когда-то расчистили партизаны Щербака, пребывая «на службе» у капитана Гро.
Генерал был плотный старичок в подбитой оленьим мехом шинели, шумливый и не по годам юркий. До наступления темноты он объехал окрестные укрепления, остался недовольным, приказал вывести противотанковую батарею на южную окраину Комбле-о-Тура, вдоль дорог заложить взрывчатку, чтобы в случае необходимости устроить завалы, и вообще наделал немало переполоху, после чего полковник Блек понял, что ему придется-таки защищать «эту проклятую дыру в горах».
...Савдунин расхваливал американского летчика:
– Ох, и посадил же, черт этакий! Высший класс! Помнишь пропасть за кустарником? В двух шагах притерся к полосе! Я даже глаза зажмурил... Мы с ним потом перекинулись словцом. Парень ничего, все понял.
– Так уж и все? – удивился Щербак.
– На пальцах объяснялись.
– А-а, тогда другое дело, на пальцах ты горазд... Генерал-то, видать, не из последних, – заметил Щербак уважительно. – Дело знает... И вообще, Андрей, пахнет жареным.
Они шли на улицу Сен-Мари к Франсуазе, где поселился выписавшийся из госпиталя Довбыш.
Егор уже отбросил костыли, если говорить точнее, то не отбросил, а разбил в щепки и сжег их во дворе, причем проделал это с наслаждением при свидетелях, будто исполнял какой-то священный ритуал: ходил вокруг костра, припадая на одну ногу, да все шутил, что не помешало бы укоротить и другую, чтобы навсегда избавиться от хромоты.
Изморозь лежала, как пушистый мох, туман скрадывал контуры домов, острия заборов и телеграфные столбы выплывали из мрака внезапно, в горах слышался неясный грохот – где-то проходила танковая колонна.
– Пахнет, говоришь, жареным? – сказал Савдунин. – Мда, ни конца войне, ни края.
– Полковник Гордон уверял, что война закончится до Нового года. И ошибся. Судьба войны, Андрей, решается там, на Востоке. Гитлер будет метаться, пока его не загонит в конуру Советская Армия. И мы теперь очутились, как говорят футболисты, в офсайде. Горько. Звонил Балигану... – Антон споткнулся о примерзшую жестянку, в сердцах подцепил ее ногой и, следя, как покатилась она со звоном, оставляя на белой брусчатке след, закончил: – Потерпите, говорит, пока прибудет советская миссия... Терпение кончилось. Завтра пойду к Блеку, пусть дает оружие...
Оружие Блек не дал.
– Посмотрим, как будут разворачиваться события, – неопределенно промычал он. – Пока еще мы второй – ба! – даже третий эшелон, возможно, до нас не дойдет очередь вступать в бой.
События на фронте развивались тем временем стремительно.
22 декабря 3‑я американская армия генерала Паттона нанесла контрудар по арденнскому клину с юга и в результате упорных пятидневных боев достигла Бастони, соединившись с окруженными там дивизиями.
23 декабря горизонт наконец-то прояснился, туман осел, выпал инеем на деревья и травянистый сухостой на горных плато. Арденны содрогнулись от рева сотен самолетов. Союзники бросили в небо авиацию, как спасательный круг, надеясь ухватиться за него и овладеть инициативой. Истребители и штурмовики беспрерывно носились вдоль долин и горных магистралей, заставляя врага прятаться в лесах.
В ночь на первое января 1945 года, чтобы помешать союзникам сосредоточить войска в Арденнах, гитлеровцы начали вспомогательное наступление в Эльзасе, в лесистых Вогезах. За три дня они продвинулись на тридцать километров, впервые за всю кампанию активизировалась немецкая авиация, восемьсот самолетов на широком фронте от Голландии до Саара ударили по аэродромам и складам союзников. «Юнкерсы» пикировали на Брюссель среди белого дня, «мессершмитты» обстреливали улицы городов и сел, гонялись за машинами на дорогах. На Англию с новой силой обрушились самолеты-снаряды «ФАУ‑1» и ракеты «ФАУ‑2».
Шестого января премьер-министр Великобритании Черчилль обратился к Сталину с просьбой ускорить начало наступления на Восточном фронте. Верная своим союзническим обязательствам Советская Армия перешла в наступление от Балтийского моря до Карпат значительно раньше намеченного срока.
Гитлер вынужден был спешно перебрасывать войска на восток. Уже к 20 января десять эсэсовских дивизий покинули Арденны. Вслед за ними отступила и 5‑я танковая армия. В горах остались так называемые гренадеры и штурмовики – рекруты последней сверхтотальной мобилизации. Фашистское командование сознательно и безжалостно приносило их в жертву, а чтобы они не разбегались или не вздумали сдаваться в плен, эсэсовским заслонам было приказано «поддерживать дух гренадеров».
Выпал снег, ударили необычно сильные для Арденн морозы. Дороги стали труднопроходимыми. Тысячи трупов, сотни орудий и танков без горючего остались в горах под снегом.
В конце января немцы, ослабленные уходом на Восточный фронт лучших, боеспособных дивизий, откатились на линию Зигфрида. Операция, на которую гитлеровское командование и сам фюрер возлагали большие надежды, закончилась провалом.
Начальник разведки 21‑й группы армий фельдмаршала Монтгомери, бригадный генерал Вильямс, на пресс-конференции в Брюсселе сказал журналистам:
– Немецкий танковый кулак, занесенный над американскими войсками, отвели русские.
17 января 1945 года Черчилль писал Сталину в Москву:
«От имени Правительства его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и поздравления по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на Восточном фронте...»
Свое восхищение героизмом советских воинов выразил в послании к Сталину и президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт.
Мир салютовал Советской Армии, отдавая должное ее подвигу.
До окончательной победы над фашизмом оставалось меньше четырех месяцев. Однако об этом тогда никто еще не знал.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
1
Как сошел в ростепель первый снег еще под Новый год, так больше его и не видели. Земля лежала блекло-черной, обнаженной, словно обиженная за сиротливое обхождение с нею, стылая от пронизывающего ветра из Приазовья.
Не раз выезжал Архип Бескоровайный взглянуть на озимые, выкапывал стебельки всходов вместе с промерзшей землей, отогревал в хате в тревожном ожидании: проснутся ли от сна хилые побеги?
Надежда водила женщин в поле вязать снопы для снегозадержания – из хвороста, нарезанного в лесополосе, из стеблей подсолнуха. Оришка хукала на пальцы, ворчала:
– Снегом и не пахнет.
– Ничего, – говорила Надежда, складывая в вязанку шуршащие прутья. – Работой дело поправим.
– Дураков работа любит... А я на гулянку прибежала? Эх ты, женорг!
С недавних пор в хате Оришки поселилась радость. Вернулась из Германии дочка Настя. Худая как щепка, остриженная после тифа. От бывшей Насти остались только брови, сросшиеся на переносье в одну линию, да руки – длинные, ко всему приученные сызмальства.
– Смеется, – жаловалась Оришка. – Что ни скажу – в смех, что ни увидит – улыбка на лице. А мне в голос реветь хочется... Что-то сделали изверги с моей доченькой. Рехнулась, что ли?
– Это у нее от счастья, что к дому прибилась, – успокаивала Надежда. – Натерпелась на чужбине, погасили там ее улыбку.
– Им бы такого счастья! – смотрела на запад Оришка. – Ихних бы дочерей в рабыни, чтоб сердце сохло.
Надежда шла полем, прикрывшись от ветра вязанкой хвороста. В памяти всплыл разговор Отто Вейса с Цыганковым:
«Думать надо и о будущем Германии».
«Как-как ты сказал? Думать о будущем Германии? Значит, сами кровью захлебываемся, а думать должны о будущем Германии?»
«Неужели ты не понимаешь, что мы сильны верой в завтрашний день».
– Забрали бы их девчат в неволю, – сказала Надежда Оришке, – и были бы мы тоже вроде них, одним словом – фашистами. Страшно подумать... А мы же совсем другие!
Оришка в сердцах бросила вязанку на землю.
– Нет им, антихристам, прощенья и никогда не будет! Слышишь? Не прощу им этого страшного смеха моей дочери...
...Снег таки выпал, не зря женщины старались. Но хотя все вокруг побелело и зима наконец-то взяла свое, чувствовалось приближение весны. Ветры сдались, а снег шел мягкий, пушистый, и там, вверху, откуда он падал, воздух был уже наполнен озоном, предвестником будущих гроз...
Бескоровайный пластом лежал у себя дома у окна, дышал с трудом, хрипло, лицо багрово-синее, мешки под глазами набрякли, оставив узкие щелочки. Однако в глазах не было видно ни отчаянья, ни унынья, светились они лукаво, порой весело.
– А, пришла! – сказал Архип. – Не наступи на ежика. Спал, спал, соня, потом пробудился, забегал, хлещет молочко, бесенок... Весну небось чует... Такая информация.
Горпина чистила картошку; бросив нож на стол, вытерла руки влажным фартуком.
– Проходи. Хоть бы ты вразумила моего дурня. Не хочет в больницу – и все тут!
– Не ругайся, жена, – сказал Бескоровайный. – Ну что мне больница? Садись, Егоровна. Новое сердце не вставят. Да и не отдал бы я старое – привыкли мы друг к другу... Старенькое, а свое. Сто раз отлеживался, отлежусь и сто первый. Снежок на славу... Я помирать не собираюсь, – строго, как заклинание, произнес он. – Меня и палкой не прогонишь с этого света. Доживу до победы, там посмотрим. Да и колхоз не на кого оставить. Разве что Климку Гаевому? Как ты думаешь, Егоровна, потянет?.. Эх, жаль, не погуляю на его свадьбе... Когда они там затевают?
– Сегодня.
– Видишь, сегодня. А я лежу... Скажи и за меня словечко, от доброго сердца. Оно хоть и больное, а живет...
На Ульянину свадьбу Надежда оделась в лучшее платье, туфельки – под мышку: без валенок по снегу не побежишь. Принесла пару сизых голубей и выпустила прямо в Климовой хате. Голуби уселись на печи, зыркая на гостей крохотными, с чечевицу, глазенками.
– Дарю вам, молодые, пример на любовь, на верность, – сказала Надежда. – Вон тот, с хохолком, это ты, Клим, а причесанная, смирненькая...
Договорить ей не дали.
– Это кто смирненькая? Наша Улька?
Невеста залилась краской и, может, сказала бы острое словно, но гармонист рванул мехи:
Сказал голубь голубице:
«Здравствуй, милая девица!
Мы под солнцем и луной
Будем мужем и женой».
Надежда вволю натанцевалась и одна, и в паре. Когда пошли вдвоем с Климом, гости расступились. Надежда плыла лебедем, выстукивала каблучками, то плечом поведет, то взмахнет косынкой, голова откинута назад, словно оттянута узлом черных волос, на лице румянец и едва заметная улыбка. Плыла Надежда, и все вокруг нее тоже плыло, как когда-то в молодости на лугу под Гуляйполем. Была она тогда невестой Корнея. Буденновцы просили: «Повесели душу, Наденька».
А почему было и не повеселить, когда сердце у самой поет, а под дубом сидит Корней, не сводит с нее глаз. И это было счастье: тихий вечер у костра, от которого тянуло горьким дымком, макушки деревьев, что будто кружились в небе вместе с ней, хриплые вздохи видавшей виды гармошки, провожания до села напрямик через лесок, горячие поцелуи, пожалуй, даже зависть, с какою молодые буденновны посматривали на Корнея, – все было счастьем.
И теперь в ней воскрешалось то далекое и невозвратное. Цыганков не пришел на ум, вспомнился Корней, может, потому, что юность неповторима и все, что случается потом, каким бы оно ни было значительным и даже решающим в человеческой судьбе, не в силах вытеснить из памяти первые, самые светлые, самые святые впечатления и чувства, захватывающие душу так надолго и так крепко, что не хватает жизни, чтобы их забыть.
А в сенях, уткнувшись матери в плечо, тихо плакала Катя:
– Зачем, ну зачем она отдала голубей? Это же Антоновы...
2
Улица де Фанс, где советская миссия занимала трехэтажный дом, окруженный черными липами и кустами жасмина, оказалась необычно тихой для столицы, по ней не ходил даже местный транспорт.
Как заколдованный смотрел Антон Щербак на красное знамя над входом, на часового, круглолицего и веснушчатого, так удивительно похожего на Петра Куликова, что можно было подумать, будто это сам Куликов переоделся наконец-то в красноармейскую форму: серая шинель и пушистая ушанка с красной пятиконечной звездочкой... Щербак почувствовал гулкие удары сердца, взглянув на эту скромную одежду незнакомого парня, быть может земляка.
И все, что произошло дальше, было как во сне. Будто не он, Антон, а кто-то иной поднимался по ступенькам на второй этаж, четко чеканя шаг, заходил в комнату с высокими, обитыми черной кожей, дверями.
– Товарищ полковник! Лейтенант Щербак прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы!
Плотно сложенный мужчина в полковничьих погонах поднял голову от бумаг, встал и привычным жестом подкинул руку к козырьку.
Какой-то миг они стояли, приглядываясь друг к другу: Антону казалось, что его сердце громыхает на всю комнату. Будто в зеркале увидел он себя глазами полковника – серая кепка из гентского фетра, макинтош с плеча Пьера (подарок Франсуазы), старательно зашнурованные туфли – и покраснел, стыдясь своего уж слишком гражданского вида, никак не подходящего, на его взгляд, для такой торжественной минуты, которую столько раз он рисовал в своем воображении.
– Вольно! – У полковника был густой бас и строгий взгляд. – Так вот ты какой, командант Щербак! Ну, здравствуй, здравствуй! Давай-ка по нашему, по русскому обычаю... Ого, брат, да твой мотор дает перебои! Ты почему так побледнел?
Щербак неуверенным шагом подошел к столу, плеснул из графина воды в стакан, зубы его стучали. Ему все еще не верилось, что перед ним человек оттуда, с Родины, которая днем представлялась ему, Антону, зеленой сивачевской улицей, бежавшей в бесконечную даль, за горизонт, пока не вливалась, как речка в море, в широкую, окаймленную кремлевскими башнями Красную площадь, а по ночам снилась матерью с поднятой для благословения натруженной рукой.
– Товарищ полковник... как там... у нас... дома?
Если чего-то и не хватало в Антоновых словах, то во взгляде, каким он посмотрел на полковника Свиридова, во влажных цыгановатых глазах, в их глубине было сказанное и несказанное, все, что он пережил и передумал.
Полковник понял состояние Щербака, участливо положил руку на его плечо и повел к дивану.
– Раздевайся, посидим, у меня есть немного времени, – сказал он. – Дома все хорошо. Мы, как видишь, уже в Европе. София, Белград, Варшава, Будапешт... А был другой отсчет: Москва, Сталинград, Курск...
– И маленький городок Изюм, – глухо добавил Антон. – И донецкая степь, откуда дорога может увести в Арденны... По крайней мере, меня она привела туда.
– Все было, – согласился полковник. – И дорог выпало много. Всяких... И все же мы вышли на главную дорогу – к победе.
Похлебывая из чашечки кофе, Антон понемногу разговорился и постепенно выложил всю свою историю.
Свиридов слушал внимательно, не перебивал, и лишь когда разговор зашел о сложной политической обстановке в Бельгии во время оккупации, еще больше усложнившейся теперь, после прихода союзников, заметил:
– Располагаю сведениями, что шахтеров, вывезенных немцами из Донбасса, под разными предлогами не отпускают домой.
– Меня тоже отговаривали, – подтвердил Щербак. – Сибирью пугали.
– Кто?
– Капитан американской армии Ройс. Приезжал с правительственным комиссаром Хаасеном в Комбле-о-Пон. Позднее я узнал, что служит в Си-Ай-Си.
– Ройс. Что ж, не лишне запомнить это имя, – нахмурился Свиридов. – Надеюсь, ты не поверил его болтовне?..
– Как видите: я здесь, с вами.
– Хочешь со мною работать, лейтенант?
– С вами?.. – удивился Антон. – Но...
– Знаю, рвешься домой. А кто не хочет? Мне очень нужны люди, разбирающиеся в здешней обстановке. Не скрываю, ты для меня просто находка.
Щербак растерялся.
– А как же мои ребята? Они меня ждут не дождутся.
– Ребят всех по домам! – сказал Свиридов. – Раньше тебя там окажутся.
– Товарищ полковник, вы коммунист?
– Что за вопрос?
– Мой партбилет... остался там, в донецкой степи... Когда лежал я контуженный в окружении, старшина Чижов закопал его, чтобы немцам не достался. А теперь... Как теперь-то быть, товарищ полковник? – Антон с надеждой посмотрел на Свиридова. – Восстановят меня в партии? Поверят?
– Оставь эту заботу на будущее, – сказал Свиридов. – Главное, Антон Корнеевич, – жить и действовать, как коммунисту положено. А билет будет. Хотя и сам переживал бы. И еще как!
От Свиридова Щербак вышел лишь вечером. Трамвай привез его в Схарбек, один из старейших железнодорожный районов бельгийской столицы, где неподалеку от Северного вокзала снимал комнату Рошар.
Антон взбежал на шестой этаж, едва дождался, пока Дезаре откроет двери.
– Друже мой... Я счастлив!.. Ты только послушай!..








