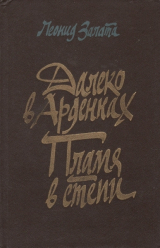
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
Бывают минуты, когда человек едва не сходит с ума от радости, от счастья, все иное забывается, все отступает, как мелочное, пустячное, хотя на самом деле оно и не мелочное, и не пустячное, потому что из мелочей в конце концов складывается жизнь, и потом все займет свои надлежащие места, в твоих делах и помыслах, в твоей судьбе. Однако в тот неповторимый миг его нет, оно растворяется в бесшабашном буйстве всего живого, что только есть в тебе, в экстазе чувств, которых не выразить словами.
Победа...
Какой дорогой ценой оплачена эта минута! Как долго шли мы к ней! Сердца наши в шрамах...
Накануне радио сообщило: подписано соглашение о капитуляции немецко-фашистских войск. На улицах Брюсселя творилось невероятное – люди смеялись, плакали, женщины без стесненья целовали мужчин. Стихийно возникали митинги, над городом катилось эхо выстрелов, стреляли из автоматов и орудий, из офицерских пистолетов и охотничьих ружей, стреляли из всего, что только могло стрелять, а из окон, с балконов обильным дождем сыпались ранние майские цветы.
Этот вихрь завертел и нас, сотрудников советской военной миссии на тихой рю де Фанс, которая сразу же стала бурной, словно река в весеннее половодье; толпы жителей столицы заполнили улицу на целый день.
Но мы не понимали, почему молчит Москва. Неужели капитуляция односторонняя, только на Западе, а на Востоке все еще идет война? Может, это тот самый сепаратный мир, что снился немецким генералам?
И вот наконец-то сообщение из Москвы! Фашизм стал на колени перед Советской Армией, перед советскими людьми, обреченными на гибель четыре года тому назад.
Я не знаю, как все происходило там, в Карлхорсте.
Перед глазами встают надменные гитлеровские генералы. Они идут, склонив головы, к столу, уже не надменные, подавленные, но злые от стыда и унижения, гневно зыркая на меня исподлобья, и я, Антон Щербак, волею моего народа наделенный безграничными полномочиями, презрительно говорю: «Вот здесь, бывшие господа нибелунги, ставьте свои закорючки. Ставьте для истории! Чтобы увидел весь мир! Чтобы было неповадно другим».
Из приемника гремела музыка, в распахнутое окно было видно, как сияет в небе солнце, трепетно-веселое, а само небо было прозрачно-синее, без единого облачка; музыка казалась оглушительной тишиной, потому что ее мажорные ритмы звучали в унисон с тем, что творилось в душе («И станет тихо на земле, а небо будет синее...» Кто, это? Василек? Наш юный, незабываемый Пти-Базиль...).
Мы кричали до хрипоты, не слыша друг друга.
И еще до того как на столе полковника Свиридова, затисканного и зацелованного, откуда-то появились бутылки вина и в потолок полетели пробки, мы были пьяны от счастья.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
1
В субботу, едва Надежда пришла с поля, почтальон принес телеграмму: «Самохин уступил. Передаю дела. Буду Сивачах через неделю. Целую. Андрей».
Побежала к Кылыне похвастаться:
– Читай!
– Зачем мне бумага, когда все на лице пропечатано, – заулыбалась Кылына. Телеграмму все же пробежала глазами, смакуя каждое слово. – Вот и слава богу, пришел конец твоему одиночеству. – Вздохнула: – Федор мой в Дрездене. Далеко забрался. Катя показывала на карте. Ой как далеко!
– Конечно, не близко. Была там Оришкина Настенька. Город, говорит, огромный, старинный. И где только наши люди не побывали! По всей Европе!
– Что верно, то верно, – Кылына вздохнула снова. – Разбросала война. Насмотрятся мужички, чего и не снилось. И все-таки дома лучше, родную хату Европами не заменишь. Ты это... не поднимай тяжелого, слышишь? Видала, как с мешком к мельнице топала. Лошадь не могла у Клима попросить?
Надежда покраснела.
– Брыкается?
– Такой забияка! Гвозди забивает...
...На рассвете Надежде приснились голуби. Много голубей. Кружили они над крышей тучей, хлопали крыльями, роняя на землю сизые перья, и все никак не отваживались сесть.
Было воскресенье, женщины высыпали на огороды.
Кылына пришла помочь Надежде. Про сон сказала:
– Забудь. Иногда такое представится, что прости господи.
– Ох, возьмусь я за тебя, Кыля! Что ни слово, то «господи».
Кылына засмеялась.
– Федор говорил: «Повешу на язык пломбу». Но я же без умысла! Бабская привычка. А икон у меня сроду в хате не водилось.
Огороды тянулись вверх по склону балки зелеными прямоугольниками. За ними в зарослях дерезы прятались глинища, а еще дальше, по гребню Отрадовского холма, пролегла дорога; самой дороги не разглядеть издали, она лишь угадывалась между двумя рядами молодых кленов.
– Архип сбежал из больницы. Вылез через окно. Я, говорит, свое соцобязательство выполнил, до победы дожил, а теперь и вообще умирать раздумал.
– Кремень, – сказала Надежда. – Не на китах земля держится, а на таких людях, как Архип.
– Отдохнем, подруженька, спина ноет. – Кылына выпрямилась, опершись на тяпку. – Гляди-ка! Еще один солдатик домой поспешает! Чей же это?
Надежда приложила ладонь козырьком ко лбу, всматриваясь в далекую фигурку за кучерявыми кленами, вздохнула:
– В чью-то хату радость.
– Тетя-я На-дя!
По тропинке бежала девушка. Босые ноги мелькали, будто колесные спицы, вся она светилась майским солнцем, может, потому, что было на ней кремовое платье и оранжевая, подаренная Надеждой, косынка.
– Катька! – удивилась Кылына. – Видишь, а ты говорила...
– Тетя Надя! – еще издалека закричала, задыхаясь, Катя. – Родная моя, если бы вы знали, как я вас люблю! Ой, сердце выпрыгнет... Письмо! Я же помню его почерк! Не изменился нисколечко... Письмо от него, от Антона...
2
Свежее, словно омытое водами, солнце выплывало из Азовского моря, огромное – не обхватить, налитое вишневым соком; отсюда моря не было видно, но когда-то в детстве Антон был в Юзкуях, маленьком селе на берегу древнего Меотия, и видел, как огненный шар поднимается прямо из воды...
Рождался новый день. Начинался он солнцем, терпким запахом росы, настоянной на дикой мяте, на ромашках, что нашли приют в лесополосе, сбочь которой до самого горизонта зеленело пшеничное поле.
На разбитой колеями дороге стоял мотоцикл. Чубатый паренек в сбитом набок картузе нажимал со злостью на педаль и тихонько поругивался от досады.
– Не заводится?
– Ага.
– Садись-ка за руль, а я толкну его с горки. Вот так... Сбрось газ! П-порядок! Может, и меня прихватишь?
Дорога была в заскорузлых выбоинах, мотоцикл отчаянно дребезжал, угрожая рассыпаться на части.
– Как зовут тебя? – спросил Антон.
– Иван. У нас все Иваны: я Иван, отец Иван, дед тоже, – парнишка бросил искоса взгляд на грудь Антона. – У моего отца три ордена Славы. Кавалер!
– Герой твой отец, – сказал Антон. – А ты, значит, оседлал немецкую технику?
– Была немецкой, стала ничьей, – рассудительно произнес Иван. – Отец сам его... из кусков... За оврагом их страх сколько наколошматили. А вы домой?
– Домой, Ваня, домой...
Мотоцикл выскочил на Отрадовскую горку. Собственно, горки как таковой не было, поднимался обычный холм, отделявший Антонову улицу от заболоченной по весне пади, однако так уж повелось издавна называть этот холм горкой, потому что иной возвышенности в Сивачах не существовало.
– Стоп, Иван, дальше я на своих двоих, – сказал Антон, чувствуя, как его уже захлестнула волна нетерпения. – До войны у меня была стайка голубей, приезжай, подарю на развод, если сбереглось что-нибудь.
Так говорил Антон, а ногам уже передалось нетерпение, глаза разбежались в ненасытном желании вобрать в себя все вокруг.
Внизу, на склонах балки, лежала улица, на которой прошло его детство, стояла его хата...
Взгляд прояснился. Хата прижималась к кривобоким акациям какая-то осиротевшая, неузнаваемая. Он не сразу понял, что не хватает вишневого сада – отцовской гордости, впрочем, вишни были, только почему-то маленькие, хилые, на тонких ножках, как дети после тяжелой болезни.
Все это промелькнуло перед глазами и тут же развеялось, потому что в это мгновение Антон увидел мать.
Она стояла на огороде с тяпкой в руке и – он мог поклясться – смотрела на него. А около нее – конечно же тетка Кылына. Кто еще может подпирать вот так щеку указательным пальцем. Поблескивая на солнце смуглыми икрами, к ним спешила девушка.
И вмиг мысли унесли его в далекий Пульсойер. «О, если бы можно было заглянуть в будущее! Если бы можно было. Но этого человеку не дано».
Посреди улицы покачивал длинной шеей колодезный журавль. Оттуда доносился ломкий, почти детский голосок:
Гыля, гыля, гусоньки,
Свет-воды испить.
А ко мне мой миленький
Перестал ходить.
Гыля, гыля, гусоньки,
Нам пора домой.
Над водой тропиночка
Заросла травой...
Несказанно родным повеяло на Антона от этой песни, не раз слышанной в вечерних сумерках давным-давно, наверное сто лет назад, когда он был еще юным и безусым и не имел понятия, что такое война, а о любви лишь слышал от старших.
Тогда эта песня не хватала его за душу, слова пролетали мимо, за ними не виделась тропинка ни из дома, ни к дому. Ничего еще не было тогда. Разве что начало чему-то диковинному, непонятному по имени жизнь.
Антон побежал напрямик.
Наверное, не было на свете силы, которая могла бы остановить его в ту минуту. Дереза – сладкие ягоды детства – цеплялась колючками за одежду, заматеревший курай трещал под ногами, как соль.
Тысячи километров, помноженных на тысячи жестоких дней, отделяли его от матери, от родного дома, но здесь в один миг слились и время, и пространство.
Хотелось закричать: «Мама! Это я, Антон, твой сын! Я вернулся!» Но язык словно онемел, так бывает во сне – кричишь, а голоса нет.
Пьянящий воздух струился вокруг него невидимыми испарениями, вбирая в себя запахи ликующей земли. И эта земля, и высокое небо над нею, быть может, храня в памяти бесчисленное множество промчавшихся между ними ураганов, взывали к жизни.
Все позади: надежды и сомнения, горькие странствия вдали от отчего порога, не знающая пощады война. Нет ее, не‑е‑ет! Остались лишь следы: полузасыпанные окопы, рваные воронки – шрамы на теле земли...
ОНА лежала долго, слишком долго в ожидании своего часа. Днище проржавело, покрылось рыжей чешуей. В ее отверстиях поселились золотистые божьи коровки. Полевые мыши свили гнездо под металлическим бугорком в ковре зеленого дерна. Нежно-синие, как девичьи очи, колокольчики спрятали ее в своих зарослях...
Антону показалось, что под ногами внезапно расцвел подсолнух. Такой огромный, что не охватить его и распростертыми руками. Огненные лепестки развернулись веером, дохнули в лицо жаром.
Оглушительный взрыв расколол небо, голубая, вдруг помутневшая высь содрогнулась, качнулась, подернулась туманной дымкой и стремительно, набирая скорость, рухнула на землю...
3
Мама...
ПЛАМЯ В СТЕПИ
Повесть
ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЮ
Автор
1
Ночью прошел дождь, омыл околичную степь – ровную даль в морщинах неглубоких балок. Мокрые травы сверкали, переливаясь красками под майским солнцем. А оно выкатилось со стороны удаленного отсюда Азовского моря огромным багряным шаром, слегка мерцая по краям, будто дрожа от утренней прохлады.
Широким шляхом, что берет свое начало где-то под Мелитополем и бежит на юг в степную синь до Перекопа, шел мужчина в потрепанной шинели и разбитых кирзовых сапогах, с небольшой котомкой за плечами. Путник смахивал бы на солдата, который возвращается после долгой службы домой, если бы не гражданская фуражка, из-под которой уже густо серебрилась седина. Да и время для таких возвращений неподходящее – на земле шла война.
По дороге ползли немецкие фургоны, урчали на выбоинах, разбрызгивали грязь. На жестких прицепах покачивали короткими хоботами полевые пушки. Борты машин пестрели размытыми дождем надписями: «Nach Krim!»
Мужчина в шинели, сойдя на обочину, обозревал колонну усталым взглядом.
Последний фургон неожиданно затормозил, из кабины выглянуло угрюмое лицо унтер-офицера.
– Рус, ком гер! Ком сюда!
Лишь на мгновение в глазах путника мелькнула тревога, вскоре он уже стоял рядом с унтером. Тот потребовал документы, долго листал бумажки, читая вслух, до неузнаваемости коверкал украинские слова.
Документы, выписанные на Гната Петровича Бугрова, оказались в порядке. Немец, сверкнув стеклами очков, резко подбросил руки вверх.
– Хенде хох? Га-га! – удовлетворенно захохотал. – Добрый воля плен? Ты ест молодец!
Унтер подморгнул, хлопнул дверцей и, похоже, тут же забыл о пленном.
Какое-то время Бугров смотрел вслед машине, затем сердито сплюнул и порывисто бросил котомку за плечи.
Кое-где сбочь дороги зеленели посевы, но большей частью поля лежали запущенные, в молодом бурьяне проглядывали желтизной остатки прошлогоднего жнивья.
Два высоких кургана зажали между собой дорогу, образовав нечто похожее на седло. На вершине одного кургана возвышалась толстая, грубо вытесанная неведомыми предками каменная баба. Бугров остановился, с интересом разглядывая это творение человеческих рук.
Сколько тебе лет, баба? Наверняка много ты повидала на своем немереном веку. Помнишь свист скифских стрел, слышала звон кривых татарских сабель. А теперь ты исклевана осколками снарядов...
У самых ног каменной бабы проходила линия траншей, изгибаясь через вершины обоих курганов. Должно быть, прошлой осенью здесь гремели огненные схватки. Земля была густо усеяна позеленевшими гильзами, ржавыми обоймами. А вот расщепленный на куски приклад винтовки, видимо, ячейку бойца накрыла мина.
Гнат Петрович снял фуражку, чуть постоял в задумчивости и зашагал дальше.
Сразу же за курганами от шляха отделялась взрезанная колесами степная колея, сворачивала налево к балке, в которой виднелись черепичные крыши селения Черная Криница. Говорят, в далекие времена здесь бурлила речка, теперь же вдоль ее высохшего русла гнездились укрытые вишневыми садами хаты. Зеленые тополя высились вдоль улиц вперемежку с приземистыми нарядными акациями, ветер раскачивал их верхушки.
Балка ниспадала к широкой пади, село, разрастаясь, ползло во все стороны, словно радуясь, что вырвалось из тесной старицы на простор. На улицах тарахтели машины, заезжали во дворы, слышалась немецкая речь.
Бугров догадался, что это та самая колонна, которая обогнала его в степи, за курганами, и сбавил шаг – встречаться с любознательным унтером еще раз не хотелось. Однако улица здесь, на краю села, была единственной, а сворачивать куда-нибудь было уже поздно.
2
Грицко Калина так и рвался из хаты, чтобы самому глянуть, что это за люди – фашисты, но мать каждый раз слабым стоном удерживала его вблизи. Грицко вспомнил отцов наказ, и сердце его наполнилось необычной отвагой, такой неуемной храбростью, что он готов был сразиться с целым миром, лишь бы отец не упрекнул при встрече привычно знакомым: «Эх ты!»
Почувствовав, что проголодался, отрезал краюху хлеба, растер на корке дольку чеснока, густо посолил и, примостившись на лавке у окна, принялся жевать. Раздумывал: откуда они взялись, фашисты? И почему они разгуливают на свободе? Грицко был уверен: фашистов держали в клетке, а потом они сорвались с цепи, как в прошлом году волкодав у дядьки Прохора.
– Пить... – застонала мать.
Воды в хате не оказалось. Зазвенев ведром, Грицко выскочил за порог, радуясь возможности побывать на улице.
Низко над селом клубился дым. Где-то буйствовал пожар. В воздухе кружилась копоть. В другой раз Грицко оставил бы все и побежал взглянуть на огонь, но сейчас было не до этого.
Он выскочил за ворота и отшатнулся. Неподалеку от колодца посреди улицы выстроились в ряд пестро окрашенные грузовики. Все они были в каких-то пятнах, будто лягушки. Передняя машина почти уперлась в сруб, из радиатора прямо в воду свисал шланг. Казалось, некое чудовище уткнулось хоботом в колодец и пьет жадно, ненасытно. Пожилой немец в белой рубашке, с голубыми подтяжками размахивал руками, как гусак крыльями, о чем-то гоготал товарищу. На открытых дверцах кабины висел зеленый мундир с серебряными нашивками на рукавах.
Грицко прижался к воротам, с жгучим любопытством наблюдая за чужеземцами. До сих пор немцы редко останавливались в селе, так близко он видел их впервые. Вот они какие, проклятые фашисты! Это из-за них идет война, умирают люди, а отец ушел на восток, оставив больную маму и его.
Машины одна за другой, чихнув удушливой гарью, отъезжали. Грицко выждал, пока удалилась последняя, и, боязливо оглядываясь, кинулся к колодцу.
Высоко в небо поднялся журавль, на нижнем утолщенном его конце висела тяжелая железка. Чтобы опустить ведро в колодец, Грицку пришлось повиснуть на цепке. Он долго сопел, пока принудил гордого журавля склонить голову над срубом. И не заметил, как во двор к ним заехала крытая брезентом машина. Грицку наконец-то удалось зачерпнуть воды. Теперь он не мешал журавлю выпрямиться, даже понемногу сдерживал его непокорную силу.
Пятнистый фургон стоял в саду между вишнями, сломанная ветка покачивалась на полоске содранной коры. Около машины с трубкой в зубах стоял тот самый немец в голубых подтяжках. Грицко хотел было сказать, что ломать деревья нехорошо, но побоялся. «Ирод!» – произнес он мысленно слово, которое в устах матери означало наивысшую меру осуждения.
Он уже протянул руку к щеколде калитки, как вдруг двери распахнулись и из сеней шастнул невысокий солдат. От неожиданности Грицко упустил ведро, вода мягко заструилась, окатив сапоги немца. Солдат посмотрел на свои сапоги, ленивым движением ноги поддел ведро.
– Туда никс ходить! – визгливо крикнул он. – Не мошна, квартира офицер...
– Там моя мама, она больная, – пояснил Грицко, опуская руку на щеколду.
– Но, но! Матка – там. Пошоль!..
Солдат отбросил его руку со щеколды и подтолкнул в спину, показывая пальцем на сарай за садом.
Еще не веря тому, что произошло, Грицко схватил ведро с остатками воды и метнулся к распахнутой двери сарая. Он не плакал, не кричал – испуганной птицей забилась мысль об отце. И в один миг улетучилось из головы все нынешнее, что его окружало. Черная Криница, вишневый сад, такое родное синее небо – все ушло от него. И земля, по которой ступали его босые ноги, существовала сейчас лишь потому, что на ней стоял этот заброшенный сарай.
3
Мать не стонала, не двигалась, лежала вверх лицом на каком-то тряпье. Грицко припал к ней, и словно что-то оборвалось внутри – так безудержно полились слезы. Было в них все: и гнев, и жалость, и бессилье. Как молчаливый упрек стояло перед глазами прощанье с отцом. «Эх ты!.. – скажет он, когда вернется. – Не уберег... Зря я доверил тебе маму, сынок...»
Грицко терзался недетской мыслью о том, что несчастье произошло по его вине. Немец не выгнал бы мать из хаты, не посмел, если бы не отлучился он, не ушел за водой.
Но что это? Не слезами ли помог? Мать еле слышно вздохнула, дрогнули ресницы. Грицко обхватил ее за голову, прижался к щеке.
Вспомнил...
Взрывы гремели беспрерывно. Прошло уже больше часа, как красноармейцы отступили за околицу Черной Криницы, а враг все еще не решался войти в село, потому что две атаки на рассвете обошлись ему очень дорого. За Коровьим седлом – огромным двухгорбым курганом – тяжело вздыхали орудия. Над хатой стонало небо: невидимые человеческому глазу, неслись встречь друг другу в обе стороны снаряды. Иногда за огородами так грохотало, словно кто колотил кувалдой по железным корытам, слышался пронзительный свист и совсем неподалеку воздух разрывался в клочья: хрясь! Будто из маминого буфета упали разом штук десять тарелок и разлетелись вдребезги. Грицко знал: это стреляют немцы из минометов.
Отец тяжело шаркал сапогами по хате, молча курил папиросу за папиросой. На высокой деревянной кровати из-под простыни виднелось полотняно-белое лицо больной матери. Она шевелила спекшимися губами, что-то неразборчиво шептала. С каждым взрывом тревожно звенели стекла, раскачивалась подвешенная к потолку лампа.
Грицку хотелось посмотреть, что там происходит за селом. Не каждый день выпадает случай увидеть настоящий бой. Сидя на лавке, он потихоньку двигался поближе к двери. Уж совсем было собрался незаметно улизнуть, но как раз в эту минуту мать подняла голову и впервые за последние сутки раскрыла большие, густо-синие очи. Сейчас они были неузнаваемы – столько тоски в них собралось, столько боли...
– Тихон! – позвала мать дрогнувшим голосом.
Отец бросился к ней, опустился на колени.
Грицко не поверил глазам, заморгал от удивления и тут же забыл о своем желании ускользнуть на улицу: его отец, большой и сильный, плакал. Он прижался к матери и нежно гладил мозолистыми руками ее черные, почти синие, свившиеся на подушке пряди волос.
– Иди, Тихон, – прошептала мать. – Спасайся...
Поблизости грохотнуло, и взрыв этот будто стал сигналом: отец сразу же выпрямился, торопливо извлек из-под печки приготовленную котомку, впихнул туда пару нижнего белья, ковригу, завернутый в газету кусок сала... И снова замер перед кроватью.
– Прости, Варя, что покидаю тебя в такой горький час... Прости и пойми...
Припал к губам жены и словно застыдился, поспешно натянул на голову фуражку.
Только теперь Грицко догадался, что отец уходит на войну. Прыгнул с лавки, уцепился обеими руками за штанину.
– Сынок! – голос отца задрожал. – Отныне хозяином в доме ты. Я не могу больше здесь оставаться... А тебя прошу: побереги мать. Занедужила наша мама...
Отец говорил серьезно, как со взрослым, прямо глядел в глаза, и Грицко почувствовал, что его подхватила какая-то могучая сила, подхватила и несет... И не было уже Грицка, десятилетнего мальчишки с черной, давно не стриженной головой. На его месте стоял крепкий парняга, который никому не даст мать в обиду. И все это произошло с ним потому, что так велел отец...
Минуло полгода, как ушел с красноармейцами отец. С тех пор не знал Грицко покоя, отрекся от детских забав, а мать все не поднималась с постели. Смотрела на клочок весеннего неба за окном, и в синих глазах ее никогда не отражалось солнце.
Грицко кормил мать, как мог, спасибо добрым людям – не забывали. Она, опершись на локоть, кое-как ела, глотала через силу, нехотя, но старалась, видно, очень хотела выжить. Как-то произнесла:
– Не видеть мне света белого. И может, не противилась бы уже судьбе... Как хотелось бы дождаться тебя, Тихон!.. Взглянуть хоть раз на тебя, коснуться... А потом уже и помереть...
Грицко разозлился на мать за эти страшные слова, заревел, просил не говорить так больше...
И вот теперь мать едва жива, лежит в сарае, потому что не смог он, не сумел уберечь.
– Позови Марусю, – прошептала мать. – Скорее, сынок.
– Сейчас, мама, я мигом. А вы водички попейте. Вот...
Во двор въезжало еще одно накрытое брезентом чудовище, а немец в голубых подтяжках, присев на корточки, стучал топором по стволу вишни, пропуская машину в глубь сада. Вишня содрогалась всем телом, до самых верхних веточек, крупные капли дождя, притаившиеся в листьях с ночи, падали от этих ударов будто слезы.
Грицко закрыл глаза, отвернулся, не хотел видеть, когда упадет дерево: сначала оно будет понемногу наклоняться, затем затрещит на сгибе и рухнет бессильно на землю, прощально прошелестев ветвями, а нежно-розовые лепестки подхватит ветер.
Грицко всхлипнул и перевалился через соседский забор.








