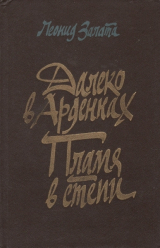
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
1
– А у меня радость, – Антонина всхлипнула. – Иван письмо прислал. Как дальше у нас пойдет – н‑не знаю... Хотя бы одно слово о прощении – и сразу камень с души... А он все про танки да про товарищей...
– Значит, не пришло еще к нему это слово, потерпи.
– Да уж потерплю, все вытерплю!
На уставшем лице Антонины болезненно блестели глаза, запавшие щеки занялись румянцем. Цветастое платье, то самое, в котором она приехала из Кустаная, висело на ней, будто с чужих плеч.
– Наголодалась без меня?
– Не до еды...
– Ну и дура... Ключицы вон повылазили. К приезду Ивана из тебя весь дух вылетит.
Как привезла ее Надежда из степи, трое суток ни на шаг не отходила. Ножом разжимала сцепленные зубы, поила бульоном, пичкала порошками. Приезжал из Джагытар доктор, сухощавый старичок, известный на всю область тем, что в шестнадцатом году был в отряде знаменитого тургайского сокола Амангельды Иманова.
– Эта женщина хочет умереть, – сказал он, покачав головой.
Но Антонина не умерла, возможно благодаря стараниям Надежды Щербак. На четвертый день она открыла наконец глаза.
– Зачем... спасли?
Долго еще Надежда боялась оставить Антонину одну, уходя из дома, запирала ее на ключ, пока однажды Антонина, потупив голову, не сказала:
– Не бойтесь... Не пойду я больше топиться... Страшно.
К Надежде привязалась, будто к матери. Не благодарила, не извинялась, но ловила каждое ее слово, ибо были те слова испытанные болями сердца, простые, врачующие.
– Пропаду я здесь без вас, – сказала она с грустью.
– Думай об Иване. Жди его, жди... Это большое счастье – ждать.
– Когда уезжаете?
– Завтра. С делами уже управилась... Слышала – Мелитополь взяли наши? А это же рукою подать к моим Сивачам.
Надежда не раз любовалась гусями, летящими высоко в небе. Через горы и долины в синюю даль, в края теплые... А может, и через фронт летят, им что. «Гуси, гуси, гусенята, вiзьмiть мене на крилята...» Славная детская песенка. А гуси летели и летели над Карачаевкой и, должно быть, над Сивачами. Падало на землю, будто пожелтевшие листья с тополей, их прощальное «кур-лы».
Надежда пошла к Махтею попросить, чтобы отковал железную розу.
– Еду домой. А там могилка Корнея... Вы же знаете.
– Ну вот, не хватало мне еще и на Украине кладбищенской славы.
Но все же принес старик розу. Была она из двух бутонов: один – полураскрытый, другой – еще в завязи, а на черенке и листья, и колючки – ну, прямо тебе живая, настоящая!
– Вот... Себе ковал.
– Себе? Неужели и вы о смерти думаете?
Махтей подергал черную бороду, сердито кашлянул.
– А кто же о ней не думает? Только не из боязни все это. Не смерть страшна – думы о ней. А так – все по природе: и жизнь, и смерть.
...День выдался солнечный, хотя и холодный. Антонина пекла хлеб. В хате от пышущей жаром печи было душно.
И хотя на проводы пришло немного людей – Махтей с бабкой Ивгой, Стефка с мужем и Цыганков, – стол все же пришлось выдвигать из красного угла на середину избы.
Надежда – в сиреневом платье с короткими рукавами, в шелковой косынке, – выпив рюмку вина, раскраснелась.
Махтей водил по сторонам синими белками глазищ, гудел:
– Эх, Егоровна! И куда только мужики смотрят?! Не будь со мной рядом моей верной бабы-яги, не отпустил бы я тебя из Карачаевки, ни за что бы такую птаху из клетки не выпустил.
Махтеиха возмущенно замахала руками.
– Цыц, дед. Не то – бороду повыдергиваю!
– Да какой же я дед! – зашелся смехом Махтей. – Я около дед. Разве в бороду уходит мужская сила?..
– Тьфу на тебя! – уже совсем озлясь, расходилась старая Ивга. Ее полные щеки округлились, будто дыни. – Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Надежда от этих слов смутилась и тайком посмотрела на Цыганкова. Тот сосредоточенно ковырялся вилкой в тарелке с квашеной капустой.
Выручил Станислав. Он извлек из кармана сопилку, подморгнул Стефке.
За горою
За крутою
Всходит ясная заря.
Ах, пленила
Полонина
Молодого овчара.
Голос у Стефки не бог весть какой, но когда он слился с нежной трелью дудочки, в хате сразу стало тихо, Махтей и тот склонил на грудь лохматую голову, заслушался. Он пыжился даже подпеть, но бабка Ивка, еще не остыв от перепалки, опять шумнула:
– Только тебя здесь и не хватало!
Так и сидели под песней, пока Юрась не подогнал к калитке подводу.
– Ну, вот и наступил час расставания, – с грустью сказал Цыганков. – Сколько врагов ты нажила здесь, у нас, за два года, Надежда Егоровна?.. Не знаешь? А я знаю – ни одного!.. А сколько друзей?.. Да все, кто тебя знает, – твои друзья! Вот и выходит, что хороший ты человек, Надежда. Очень жаль, конечно, тебя отпускать, да что поделаешь – надо. Ну, а если же глянуть пошире, не с карачаевской колокольни, то не грустить нужно, а радоваться. Недавно проводили домой донбассовцев, ты едешь уже дальше, на Херсонщину, а там, глядишь, и эта молодежь полетит на свою полонину. Давайте же выпьем за счастливое возвращение домой мужей и жен, отцов и сыновей, братьев и сестер. За полную победу над проклятым Гитлером!..
– Ой, как хорошо вы сказали, Андрей Иванович! – вскрикнула Стефка. – Дайте я вас за это расцелую. Ну-ка, дударик, отвернись, кому говорю!
– Да, грех не выпить за такие слова, – загудел, поднимаясь, Махтей. – Налей-ка, женушка, сколько не пожалеешь. А я посмотрю, какая ты у меня щедрая.
Надежде захотелось подойти к Цыганкову и сказать ему что-нибудь ласковое, чтобы посветлели его глаза, которых она так упорно до сих пор избегала. И возможно, осмелилась бы, подошла, но он сам шагнул к ней, тихо спросил:
– Можно, я отвезу тебя на станцию?
Надежда молчала.
– Чего молчишь – боишься?
Нет, не его боялась Надежда – себя. Показалось ей в тот миг, будто в доме, кроме ее самой и его, нет больше ни души.
А потом, когда дроги выкатились на Бугрыньскую до когда исчезла вдали Карачаевка и они в самом деле остались с глазу на глаз, каждый из них ждал первого слова, а оно не рождалось почему-то.
Тем временем кони бежали и бежали, пока не привезли их, таких молчаливых, к вокзалу.
Челябинский поезд уже стоял на перроне. Цыганков сходил за билетом, и только тогда пришли наконец долгожданные слова.
– Сколько нам с тобою лет, Надя? – спросил он. Надежда поняла и его слова, и все, что таилось за ними.
– По семнадцать, – сказала она, и вдруг какая-то неведомая сила бросила ее к нему. – Прости, прости меня…
Губы Цыганкова были обветренные, жесткие, а слезы Надежды соленые...
2
Сто двадцать партизан, скорбно склонив головы, полукругом обступили только что вырытые могилы. В лесу бушевал холодный ветер, гнал на север рваные тучи. Пахло свежеструганными сосновыми досками.
Шесть гробов стояло на краю свежих могил, шесть бойцов, товарищей по оружию, лежали в них неестествено белые, словно загримированные под цвет досок, и первый – Жозеф Дюрер, человек, которого знали все Арденны. В густых, кустистых бровях партизанского командира запуталась желтая былинка с привядшим цветком – последний дар бельгийской земли.
Смерть Дюрера свалилась на Антона Щербака неожиданно, как гром среди ясного неба.
Он привел свою группу на базу, радуясь наперед, как доложит Жозефу о разгроме эсэсовского гарнизона, об уничтожении моста и блокгауза, о трофеях. Однако докладывать было некому.
В ту ночь, когда Щербак силами интернациональной роты атаковал станцию Пульсойер, Жозеф Дюрер возглавил диверсионную операцию под Гамуаром. И здесь все удалось нападающим, партизаны уже поднимались к себе в горы, когда с левого берега, из-за моста, по ним ударили орудия бронепоезда...
Вышло так, что лейтенанту Щербаку пришлось самому принимать доклад от Фернана, если можно назвать это докладом. Фернан плакал, размазывая рукавом слезы на небритых щеках, и Антону пришлось понервничать, успокаивая друга, пока услышал от него подробности...
– Прощай, ами, – тихо молвил Антон.
Шесть рыжеватых холмиков, обложенных дерном, поднялись рядком на опушке, шесть столбиков с выжженными раскаленным штыком именами прибавилось к двум прежним, вкопанным раньше, успевшим пожелтеть от солнца и ветров.
Эхо прощального салюта скатилось по горам в каньон, взметнулись в испуге над вершинами деревьев вороньи стаи.
...На базу партизаны возвращались напрямик через лес. Под ногами мягко шуршала сухая хвоя, трещал хворост. В кустах свистели дрозды.
Щербак догнал Довбыша, дотронулся до его раненого плеча:
– У Мишустина был?
– А, пустое...
– Это он так сказал?
За частоколом деревьев блеснуло болото. Партизаны один за другим ступили на кладь, вышли на остров.
– Не нравится мне настроение ребят, повесили носы, – проворчал Довбыш. – Бери-ка ты, лейтенант, вожжи в свои руки. Ты же заместитель у Жозефа...
– Одно дело заместитель, другое – командир, – после некоторого молчания произнес Щербак.
– Не вижу более подходящей кандидатуры.
– Надо обо всем доложить Центру, да вот послать к Люну некого. Нам с тобой появляться там сейчас нельзя.
Холодный ветер ерошил поверхность озера мелкой рябью. Начал накрапывать дождь. Щербак, поколебавшись, открыл двери командирского барака. В нем было все на месте, словно в ожидании хозяина. На столе лежала карта провинции Льеж, на карте – разноцветные карандаши и миллиметровая линейка. Казалось, даже овечья шкура на топчане еще хранит тепло тела Дюрера.
Щербак вздохнул.
– Давай-ка, матрос, думать, как жить дальше.
– Кликнуть Фернана?
– Нет, Фернана потом. Сначала позовем Балю.
Когда в дверях появилась тучная фигура Балю, Щербак поднялся навстречу:
– Салют, Франсуа! Помните нашу первую встречу на Лысой горе?
Широкое лицо Балю расплылось в смущенной улыбке.
– Не очень приятная была встреча.
– Да чего уж там. Вы же нас с Фернаном вином угощали.
– Верно, угощал... А сам думал: принесла их нелегкая на мою голову!
– Теперь, надеюсь, думаете иначе? Я слышал, вы служили в штабе.
– Две недели. Помначштаба одиннадцатого отдельного батальона. С четырнадцатого по двадцать восьмое мая тысяча девятьсот сорокового года.
– А потом?
– Потом армия сложила оружие и батальон перестал существовать.
– А офицер королевских войск Франсуа Балю?
Балю пожал плечами. Щербак посмотрел на Довбыша: что ты, мол, на это скажешь? Но Егор молчал, он еще не взял в толк, к чему весь этот разговор.
– Так вот, лейтенант Балю, берите бумагу и карандаш. Я продиктую, а вы запишете. Потом оформите это как приказ. Пусть это будет приказ номер один по партизанскому отряду «Урт-Амблев». Суть его такова: я, лейтенант Щербак, в связи со сложившимися обстоятельствами, временно, до получения распоряжения Центра, приступаю к командованию отрядом. Записали?.. Теперь дальше. Начальником штаба назначаю лейтенанта Балю.
Рука Балю вздрогнула:
– Меня? Но вы... вы же меня не знаете! Вы коммунист, а я социалист. Считаю своей обязанностью поставить вас в известность.
Щербак улыбнулся.
– Ну и что? До сих пор нам это не мешало воевать вместе против оккупантов. Разве не так? Пометьте себе дальше: на базе отряда формируются две боевые роты. Командир первой – Довбыш, командир второй – Ксешинский. Начальник разведки – Фернан. Хозяйственный взвод возглавит Марше, начальник медсанчасти – Мишустин. Подумайте, кому сколько надо выделить людей. Ну и все прочие формальности, вы ведь знаете, как это делается.
Окончив диктовать содержание будущего приказа, Щербак подошел к столу.
– Есть ли у начальника штаба какие-либо возражения, вопросы?
Балю оторопело переводил взгляд то на бумагу, то на Щербака.
– Возражений нет, – проговорил он наконец. – Хочу лишь повторить: для меня лично мое назначение является полной неожиданностью. И еще одно: полагалось бы позаботиться о караульной службе. Думаю, для охраны необходим специальный взвод.
– Вот теперь я вижу, что у нас есть настоящий начальник штаба, – улыбнулся Щербак. – Только не разбросайте мне строевых людей по вспомогательным службам. Главное – боевые роты. Утром зачитаете приказ перед строем отряда. Штаб, если вы не против, разместим здесь... Ну, вот, кажется, и все.
Балю поднялся, старательно сложил вчетверо лист бумаги, сунул его в карман. Вид у него был все еще растерянный.
– Значит, я пошел... за вещами?
– Идите.
Довбыш едва дождался, пока за квадратной спиной Балю закроется дверь.
– Не подложит ли он нам свинью? Не рубишь ли ты, Антон, с плеча?
– Кривую линию гнуть не дадим. А начштаба из него получится. У нас с тобой головы горячие, а он человек осторожный...
– Осторожный или трус?
– Я сам прежде так думал. Но в Ремушане он за чужую спину не прятался. Так сказал мне Фернан, а его в симпатиях к Балю не приходится подозревать.
– С приказом номер один у тебя получилось здорово, – сказал Довбыш. – Я даже рот раскрыл. Но смотри, не стань бюрократом. Начнешь строчить всякие бумажки...
– Постараюсь. Теперь слушай приказ номер два: командиру первой роты Егору Довбышу ежедневно ходить на перевязку. Если пожалуется Мишустин – спуску не дам, не посмотрю, что друг.
– Круто забираешь, мсье командант, – хохотнул Довбыш и лукаво повел глазами. – Ладно, у тебя приказ, у меня – просьба: возьми в адъютанты Ваню Шульгу. Парень молодой, проворный, и вообще...
Щербак вспомнил, как Иван просил разрешения «добавить чуток и от себя» коменданту станции Эсню. Чем-то был он похож на Василька. Своей молодостью?
– Сбегай, Егор, за Фернаном... Я буду ждать его на берегу. Балю об этом пока еще говорить не следует. Хотя он отныне и начальник штаба...
Вечером того же дня после длительного разговора с Щербаком Фернан покинул партизанскую базу, намереваясь до рассвета прибыть в Шанкс.
3
Черные круги плывут в закрытых глазах, сцепляются один с другим, мельтешат неожиданно красными точками, хотя на дворе глубокая ночь и в единственное окно барака не проникает ни капли света. Через стол напротив сопит Франсуа Балю, широкие ноздри начальника штаба раздуваются, как хорошо загерметизированный насос; ближе к дверям чмокает губами во сне Шульга, я словно вижу его по-девичьи припухлый, раскрытый в улыбке рот.
Мне не спится. Слишком много событий произошло в моей жизни за последние дни. Легко сказать: я, Антон Щербак – командир партизанского отряда. Не так просто заменить погибшего Дюрера, который был здесь поистине отцом, непререкаемым авторитетом для молодых и пожилых. Каждое слово Дюрера было законом для партизан, ему не решались перечить и самые строптивые. За командиром шли без колебаний.
Хотя Жозеф был человеком сугубо гражданским, он словно родился для схваток, в нем чувствовалась рука настоящего воина. В отряде бельгийцы и русские, французы и украинцы, поляк, трое голландцев, есть даже немец – фольксдойч из Комбле-о-Пона. Отряд похож на интернациональную бригаду. Когда-то в подобной бригаде Люн сражался с франкистскими фалангистами. Жозефу Дюреру партизаны верили. А мне? Поверят ли мне?
Меня поддерживает сознание того, что я – советский офицер. Один из тех, на кого теперь с надеждой смотрит Европа... Я полномочный представитель Красной Армии здесь, в Арденнах, и буду им, пока не упаду, как Василек, как Симон, как Николай или – Жозеф...
Мама, ты слышишь меня? Если бы кто знал, как я часто разговариваю с тобой, наверняка посмеялся бы над моей привычкой. И зря. Ведь ты для меня не просто женщина, которая подарила мне жизнь, ты значительно больше, несравнимо больше! Ты все, что есть дорогого у меня, ради чего я живу, во что верю и чему присягаю на верность. Это и ты сама, моя ласковая, мудрая мать, и наша хата с голубями на крыше, и безмерно щедрая, родная земля, и старенькая отцовская буденовка – теперь она уже не сползла бы мне на глаза, как тогда, – помнишь? – и все, что было у меня и еще будет, все-все...
Если суждено мне встретиться с тобой, я, быть может, и не смогу, не сумею высказать всего словами, что говорю и говорю мысленно тебе сейчас... Я просто упаду к твоим ногам...
Здесь у нас вот-вот блеснет рассвет. А там, над тобой, уже светит солнце. Оно придет сюда от тебя, мама. Помнишь, у Шевченко: «Сонце йде i за собою день веде»?..
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
1
Где-то далеко, наверное у Перекопа, тяжело вздыхали пушки. Дрожал густой и сизый от осеннего тумана воздух, призрачным облачком над низиной повисли метелки камыша. Вдоль разбитой дороги стояли жилистые акации, ветер позванивал жухлыми гроздьями перезревших стручков.
Солдаты шли утомленные, неразговорчивые, скрипели колеса обозов, рычали тягачи. Их обгоняли вертлявые командирские «виллисы». Голова колонны уже вытянулась за околицу Сивачей и круто свернула влево на широкий Чумацкий шлях, а хвост ее все еще терялся в лабиринте кривых улиц.
До глаз закутанные в платки девчата стыдливо ловили взгляды молоденьких красноармейцев, а женщины жадно всматривались в лица бойцов и, наивно полагая, что в армии все знают друг друга, как в деревне, спрашивали проходивших воинов о своих мужьях и сыновьях...
– Надька!.. Побей меня бог, Надька...
– Кыля! Подруженька моя.
– Надька!.. Ой, задушишь, бес тебя побери! Откуда ты взялась?
– Да красноармейцы, спасибо им, подвезли! Не брали, не брали, а когда сказала, что домой спешу, еду из эвакуации, сразу смилостивились.
– Такая радость, кума! Вчера Федя письмо прислал, и сегодня вот ты...
– Федя?.. Дай же я тебя еще раз поцелую, на счастье. Где же он, твой Федя?
– А кто же его знает – полевая почта... Орденов, пишет, груди не хватает. А я, кума, чего только не передумала. Ведь два года ни слуху ни духу... Ты смотри! Тот самый чемодан?
– Тот самый, Кыля, бессменный...
Так они и говорили друг другу, задыхаясь от собственных слов, вперемежку о важном и о мелочах, потому что в ту минуту, освещенную радостью встречи, для них не существовало мелочей, все было значительным и каждое слово находило в душе отклик.
Тем временем из-за развалин маслобойни, что была перед войной гордостью села, показался хвост солдатской колонны в окружении крикливой детворы. Мальчишки прыгали перед бойцами, как воробьи, просили на память звездочку. Самый старший из ребятишек пристроился к солдатам и зашагал вместе с ними, стараясь идти в ногу. Солдаты смеялись...
Проскакал на коне молодцеватый офицер.
– Подтяни-и-ись!
– Идут соколики. Вот так и Федя мой... А куда идут?
– На Крым. Слышишь, как там громыхает?
– Чтоб его холера взяла, басурмана проклятого! Натерпелись мы тут, кума, от немчуры, ох и натерпелись... Когда наши пришли, каждого солдатика обцеловали. Тут такое творилось!..
– Как там хата моя? Стоит?
– Ты еще и дома не была? Цела, цела хата. Только сбежали эти басурманы – я ее на замочек. Чувствовало мое сердце, прибьешься ты к дому...
Несказанно много вмещает в себя один человеческий взгляд: давно не беленную, в дождевых подтеках, хату с почерневшей трубой над черепичной крышей, желтые пеньки среди истоптанного бурьяна, где раньше был вишневый сад, замшелый сруб колодца и пузатую кадку с поржавевшими обручами возле него, одинокую грушу у забора, где маленький Антошка любил собирать грибы, – все это и бездну других мелочей отразил в глазах мгновенный сполох, как бывает во время грозы, в воробьиную ночь, когда небесный огонь выхватывает из мрака знакомые контуры, очень четкие и в то же время призрачные.
Она лежала, разбросав руки между опавших стеблей лебеды, вдыхая терпкий запах листвы, рассыпчатой земли и еще чего-то необъяснимого, что заполнило грудь дурманящей, щемящей болью. Где-то там, в недрах влажной земли, пульсировали невидимые токи, колотилось полное печали и радости сердце. Одно на двоих. Земля жила, что-то шептала ей, поздравляла с возвращением домой, а возможно, и жаловалась. В голове звенело тихой одинокой струной, качалось и плыло, плыло...
– Вставай, кума, с сырой землей, мы еще на том свете сколько твоя душа желает наобнимаемся.
– Где же вишни, Кыля? Они снились мне...
– Вырубили твои деревца проклятые фашисты. Они людей не щадили, что им вишни.
Будто во сне переступила Надежда порог родной хаты, беспомощно оперлась плечом на облупившуюся притолоку. Из сеней дохнуло холодом и сыростью. Двери в горницу были полуоткрыты – крашеная лавка от окна до окна да тисненный медью комод, случайно когда-то купленный Корнеем на ярмарке, – вот и вся мебель. «Господский, – хвалился Корней. – Вон сколько на нем забавок!» Земляной пол истоптан, изрыт каблуками, у печи какие-то лохмотья.
«И это моя хата? – подумала с ужасом Надежда. – И они здесь топтались, ели, пили, смеялись?.. Нет, не может быть, чтобы смеялись. Смеяться умеют люди, а зверю не дано».
У спальни сохранился обжитой вид. Платяной шкаф, над этажеркой овальное зеркало с трещинкой на краю, старенький коврик с затертым до неузнаваемости узором на стене над кроватью. И сама кровать под боковым окном. Постель разобрана, как будто Надежда только что спала в ней и поленилась убрать.
– Был тут один. Плешивый такой, весь в крестах, – сказала Кылына. – Свирепый, как бешеная собака.
– Какой плешивый? – Надежда думала о своем. И вдруг ужаснулась: – Он что – спал здесь? Да как же это? Сожгу, все сожгу, чтоб и духом его не пахло!
– Чистенькой хочешь быть? – сказала Кылына. – Конечно, ты была там, в Казахстане, к тебе ничего не прилипло. Это нам, грешным, не отмыться, не отмолиться.
– Кыля...
Женщины обнялись, прижались друг к другу щеками, притихли.
– Не хотела я, Кыля. Не гневайся... Уйдем отсюда, душно здесь.
Солдатская колонна уже исчезла за селом, оседала пыль. Улица вытянулась вдоль балки по-осеннему сиротливая. Хаты, такие знакомые взгляду, то выбегали на край дороги, то прятались в огородах, и было в них что-то новое, безрадостное, тяжелая печать страданий и запустения лежала на окнах и карнизах. В окнах пятнами желтела вместо стекол фанера. Будто птица с перебитым крылом, торчал на холме полуразрушенный ветряк.
– И что же это делается на свете? – тихо произнесла Надежда. – Ехала сюда, насмотрелась на пожарища, на развалины... Истоптал, изувечил нашу землю Гитлер. А как жили мы, Кыля, до войны, как жили! Зависть взяла его, проклятого... – Надежда всхлипнула. – Не дождусь я, видать, весточки от Антона. То верю в нее, то не верю.
– Слезливая ты стала, Надька! Раньше, бывало, не разжалобишь тебя – не любила мокроглазых. Может, он не знал, где тебя искать, и теперь сюда напишет? Как Федя мой... И Никифоров сынок недавно объявился. Неподалеку проходила его часть, отпустили на день. Такой парень! Сама видела. Кому что суждено...
Голос Кылыны был таким спокойным и уверенным, что у Надежды вдруг отлегло от сердца, ей стало радостно, будто это не Никифоров сын объявился, а ее Антон. Едва ль не впервые за этот день отошла от груди щемящая боль, и все, что до сих пор казалось разрушенным, безвозвратно потерянным, обернулось вдруг к ней светлой стороной, будто она разглядела зеленый побег на пне, который будет расти и расти, пока не превратится в новое дерево, стройное и красивое, как воспоминание о былом.
– Думал, затопчет нас... А не дождется! – вскрикнула вдруг Надежда и засмеялась, радуясь обновлению в душе. – Поднимемся, как верба из поломанной ветки!
По дороге к дому Кылыны Надежда кланялась односельчанам и вся светилась от счастья при встрече с знакомыми лицами, пока Кылына не дернула ее за рукав:
– Что же ты отбиваешь поклоны, как заводная! Да ты знаешь, с кем сейчас поздоровалась?
– Уж кого-кого, а кривого Карпуху помню! Думаешь, отшибло?
– Отстала твоя память. На целых два года. Гришка, сынок Карпухи, – полицай. Таким паном ходил здесь – не подступишься.
Надежда невольно обернулась. Карпуха подслеповато щурился вслед ей из-под замызганной ушанки.
– Гришка... Вот не думала. А где же он теперь?
– Сбежал. Кому служил, с теми и смылся. Руки его в крови. Стрелял по всякому, на кого фашист пальцем укажет.
– А как же отец, мать?
– Кто их разберет! – вздохнула Кылына. – И там горячо и здесь больно.
– Дивно для меня все это, Кыля, – задумчиво произнесла Надежда. – Дивно и непонятно. В одном селе жили, в одном колхозе работали.
– То-то и оно: война просеяла через решето, отделила зерно от половы.
Хата у Кылыны – мазанка. Собирался Федор Сахно новую поставить, уже и кирпича привез, а тут война, и пошел на фронт колхозный бригадир, первый друг и бывший ординарец буденновского комэска Корнея Щербака.
Посреди хаты стояла девушка, расчесывала косы, тонкими пальцами перебирала волосы, которые словно водопад струились по плечам, обтекали бедра. Были они, как шелк, блестящие и волнистые. Это, пожалуй, от них в хате тонко пахло фиалкой.
– Я в окошко выглядала, русу косу заплетала, – лукаво, будто сама для себя, пропела Надежда.
Серые дымчатые глаза посмотрели на вошедших раз и другой то ли удивленно, то ли изучающе, недоверчиво. И вдруг упал на лавку гребень.
– Тетя Надя!..
Кылына хлопотала около печи, варила кашу из тыквы, а они сидели рядышком и вспоминали, вспоминали...
Какое это было чудесное время до войны – и хлеб был, и к хлебу, а люди жили весело, не зная горя. Говорили обо всем, только об Антоне не обмолвились ни словечком.
Заплетая косы, Катя все время старалась спрятать от Надежды свои руки. Они были в шрамах, почти по локоть красные, будто меченные проказой.
– Где это ты подхватила такую пакость? – сокрушенно спросила Надежда. – Болят?
Катя молчала, пальцы ее забегали быстрее.
– В кипяток их сунула, – хмуро пробурчала от печи Кылына. – Вскипятила воду в тазу и...
– Мама! – вскрикнула Катя. – Неужели лучше бы в Германию?
Надежда погладила шероховатые ладони девушки, поцеловала ее.
– Страшно было?
– Страшно, тетя... А ехать на чужбину еще страшней.
– Я тебе гостинец привезла. От зайца...
– От косого...
– От куцего...
– От серого...
– У-ша-сто-го...
Они заулыбались, вспомнив давнюю игру.
Надежда достала из чемодана косынку, подарок Антонины. Косынка была оранжевого цвета, прозрачная, как паутинка.
– Ой, спасибо щедрому зайчику!
Катя потерлась щекой о щеку Надежды – это тоже был ритуал – и бросилась к зеркалу.
– Можно я в ней пойду? Сегодня комсомольцев собирают.
– Собрание не посиделки.
– При чем здесь посиделки? Вы, мама, как скажете!
– Да уж как умею. Надень вон теплый платок, а то из хаты не выпущу, слышишь? Небось не весна на улице...
Пока Кылына ворчала, извлекая чугунок из печи, двери, ведущие в сени, тихо закрылись, а за окном промелькнула будто цветущая шляпка подсолнуха.
– Вот так всегда. Раз-раз – и исчезла. – Кылына вздохнула, жесткие волосинки на розовой родинке под носом сердито шевельнулись, но в глазах, когда-то голубых, а теперь выцветших, как небо в жарынь, таилась усмешка. – Садись, кума, кашу есть. Все немец выгреб, а тыквы на возах не уместились.
– Это он, должно быть, не распробовал, – засмеялась Надежда.
Кашу запили узваром из кислого терна.
– Посмотри, что я привезла.
Тихий звук, будто кто-то встряхнул стеклянные палочки, трепетно поплыл в воздухе и вскоре растаял.
– Господи, что это? – испугалась Кылына. – Аж сердце зашлось.
– Розы, – сказала Надежда. – Кованые цветы для Корнея.
И вдруг она поняла, что уже никогда не вернется в Карачаевку, не увидит Стефку, Кыз-гюль, Усманова, Махтея, Цыганкова...
И на сердце стало тяжко-тяжко.








