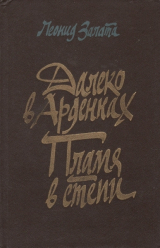
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
15
Оккупанты облепили криничанские улицы воззваниями, в которых сообщалось, что никакого, мол, «районного комитета» не существует, а прокламации распространили двое присланных большевиками комиссаров, один из которых уже арестован, а другой разыскивается. Населению приказывалось всеми способами помогать властям «установить твердый порядок без провокаций и паники». Тем, кто станет читать большевистские листовки, угрожали страшными карами, в том числе и конфискацией имущества.
Выходившая время от времени в Азовске газетенка оккупантов «Приморский вестник» поместила снимки ленинградских улиц, «по которым недавно торжественно прошли немецкие войска».
Бугров только что разжился на почте свежим номером «Вестника», просмотрел на скорую руку колонку объявлений и, сложив газету вчетверо, сунул в карман. Нужного объявления снова не было. Это начинало беспокоить Гната Петровича. Пора уже, давно пора. Не произошло ли чего непредвиденного? Пока не будет сигнала, нельзя ему появляться в Азовске. А как же тогда с элеватором?
Отступая осенью сорок первого года, наши саперы должны были взорвать элеватор на станции Ксеевка. Однако заряд сработал неравномерно и гигантское сооружение было только повреждено, немцы теперь спешно заканчивали его ремонт. Среди других заданий Гната Петровича было и такое: исправить ошибку саперов. Сам он, естественно, сделать этого не мог, потому и ждал с нетерпением обусловленного сигнала местного подполья.
Ветер принес волну запахов разомлевшей на солнце сирени, затих, снова подул, защекотал ноздри, будто где-то поблизости брызнули из флакона одеколоном. Гнат Петрович проследил глазами, откуда несет эту парфюмерию. Сирень поднялась вдоль забора кипами ветвистых побегов, увенчанных пышными гроздьями звездчатых лепестков. За сиренью стояла яблоня в цвету. Старый ствол кто-то срубил, но яблоня не смирилась, пустила ростки, выбросила над пеньком пучок новых веточек и теперь расцветает...
Неожиданно подумалось: вот у кого надо учиться стойкости! Природа не сдает однажды завоеванных позиций. Невидимые человеческому глазу, спрятавшиеся в недрах земли соки дают жизнь растению. И яблоня жадно пьет, стремясь жить, да и не просто жить, а цвести, чтобы дать плоды – подняться еще на одну ступеньку к будущему. Законы бессмертия... А мы? Кто мы? Разве не часть природы? Не за это стремление к будущему кладем голову?..
Гнат Петрович вздохнул. Достав из кармана листок бумаги, он еще раз перечитал официальный вызов в комендатуру.
Мысли были тревожные: «Каким образом я попал на глаза этой арийской оглобле – Альсену? И что он от меня хочет? На арест не похоже, в таких случаях не вызывают. Очень неприятное знакомство, но ничего не поделаешь, придется идти».
Отряхнув выгоревшую на солнце гимнастерку, Бугров направился к помещению комендатуры.
Гауптман Бруно Альсен занимал здание бывших детских яслей – небольшое, чистенькое, недавно побеленное. Одна половина, выходящая на улицу, была рабочим кабинетом, комнаты другой, окнами в сад, служили ему жильем. В дальнем углу огороженного забором двора, где прежде была кухня, разместился комендантский взвод.
Часовой у калитки, которому Гнат Петрович показал повестку, вызвал молоденького унтер-офицера, одетого так, будто он готовился к параду. Унтер пробежал глазами по листку бумаги, пробормотал: «Следуйте за мной!» – и повел Бугрова по выложенной кирпичом тропинке в сад.
Гнат Петрович и раньше слыхал, что Альсен не только сам знает украинский язык, а, к большому неудовольствию всего комендантского взвода, и подчиненных заставляет изучать «местный язык». «Крепко берется за свое дело немчук, – рассудил Бугров. – Надолго оседает здесь, если в изучение языка ударился... Нет, не серенькая птичка залетела в таврийские края».
Гауптман стоял под вишней без мундира, в расстегнутой рубашке, в одной руке держал ведро, в другой – щетку и старательно белил ствол известью. Бугров был удивлен: не белоручка, не брезгует сам взяться за щетку. Откуда было знать Гнату Петровичу, что Бруно Альсеи сделал это специально для него, уж очень он любил произвести впечатление на посетителя. Вызовет, бывало кого-нибудь к себе, а сам – за молоток и постукивает. Смотри, мол, какой я простак, не только командую, но и мозоли натираю. Начальству Альсен объяснял свои привычки так, что это, дескать, сближает его с «туземцами».
И сейчас Альсен строил из себя вконец захваченного работой. Не сразу обернулся на стук каблуков унтера. И, лишь услышав доклад помощника, отставил ведро в сторону, не торопясь положил сверху щетку и повернулся к Бугрову. Вид у него был недовольный, будто в самом деле оторвали от очень увлекательного занятия.
Унтер-офицер подал повестку, еще раз щелкнул каблуками и, поймав жест коменданта, оставил их наедине.
– Имею к вам разговор, господин Бугров, – сухо начал гауптман. – Вам известно, ради чего гауляйтер Украины разрешил многим русским военнопленным свободно поселиться в Таврии? Причем немецкие власти закрыли глаза на тот немаловажный факт, что вы служили в большевистской армии и наверняка убивали наших соотечественников.
– Мне пока ничего неизвестно, – спокойно ответил Гнат Петрович. – Как вы сами понимаете, господин гауляйтер лично мне ничего о своих целях не сообщал.
– В этом нет никакого секрета. – Альсен прищурился. – Таврия должна кормить армию фюрера. Ваше дело – растить хлеб: сеять, жать, молотить... Мне доложили, что вы отказались выйти в поле. Выходит, вы не хотите помогать армии фюрера?
– Как можно, господин комендант! – с притворным испугом воскликнул Бугров. – Это было бы неблагодарностью немецкой армии, которая даровала мне жизнь, отпустив из концлагеря. Однако по профессии я столяр, ко мне часто обращаются с просьбами помочь по дому. Те же сеятели просят, кто выходит в поле. Кому стол, кому табурет...
– Мне, господин Бугров, нужен хлеб, а не табуреты. Зарубите это себе на носу. А еще хочу вам напомнить: немецкие власти умеют не только миловать за прежние грехи, но и наказать, если необходимо.
– Власть – палка о двух концах, – как бы рассуждая вслух, сказал Гнат Петрович, понимающе покачав головой. – Гуманность необходима, а необходимость гуманна. Такие вот дела... Но при освобождении из лагеря мне сказали, что я могу поселиться в любом районе Херсонщины, на выбор. К сожалению, в Черной Кринице мне не понравилось, да и нет у меня здесь родственников... Придется искать другое место.
Комендант нахмурился.
– Много позволяете себе, господин Бугров! Несмотря на дарованную вам свободу, вы остаетесь военнопленным. Мне тоже нужна рабочая сила. Понимаете? Ра‑бо-ча‑я си‑ла! А если вы и дальше будете отлынивать от полевых работ, придется вам кое о чем напомнить. – Альсен сделал неопределенный жест пальцами.
«Ого, господин фельдкомендант, или как там ты называешься, ненадолго тебя хватило, ненадолго, – усмехнулся мысленно Гнат Петрович. – Куда и девалась твоя маска вежливости. На простачков рассчитываешь». Умышленно не торопясь, Бугров извлек из кармана листок бумаги с гербовой печатью, подал Альсену.
– Подписано господином Эрлихом, – сказал Бугров. – Вам, возможно, знакомо это имя?
Имя Эрлиха конечно же было известно Альсену, он тут же сменил гнев на милость. Знал, что оберштурмбанфюрер СС Эрлих за спасибо таких документов не раздает.
– О, господин Эрлих! Это совсем другой разговор! Совсем-совсем другой. Какое имеете задание?.. Впрочем, можете не говорить. Я понимаю, я все понимаю.
Гауптман похлопал Гната Петровича по плечу, перевел разговор на вишни, которые обещают хороший урожай, сорт, мол, чудесный, у себя дома, в Тюрингии, он такого не знал.
– Как там у вашего Шевченко: «Садок вишневый коло хаты, хрущи над вишнями гудут...»
Гната Петровича передернуло, он едва сдержался, чтобы не бросить в лицо коменданта что-то гневное, такое, чтобы судорогой свело его холеное лицо, окончательно сорвало напускную маску. «Шевченко, гад, трогает! Да он бы тебя...» Сцепил зубы, промолчал.
Выйдя из комендатуры, Бугров напряженно обдумывал свой разговор с Альсеном, припоминал каждое слово. Не переиграл ли? Этот гауптман – штучка, пальца в рот не клади.
Большие капли дождя падали в пыль, подпрыгивали шариками ртути. Радостно зашелестели деревья, травы, за один миг обновились заборы, будто окропил их дождь свежей краской.
Спрятавшись под крышу разваленной хаты, Бугров корил себя на все лады. Ну почему, почему ни разу не вышел в поле? Вот и получай теперь! Вел бы себя как все, не потребовалась бы эта встреча. Документы сделаны на совесть, и все же козырять ими без крайней нужды не полагается. Вряд ли этой жерди взбредет в голову послать запрос к Эрлиху, которого, к слову сказать, Гнат Петрович и в глаза не видел. Побоится. А если не пересилит любопытства?.. Как бы то ни было, надолго задерживаться в Черной Кринице опасно.
16
Грицко запер хату на замок и совсем переселился в сарай. Так посоветовала Маруся. Будет там – и у нее причина почаще наведываться. Да и лейтенанту пособит мальчонка.
Раненый быстро набирал силы. Крепким оказался человек! Не тело – ствол дерева, мышцы на руках выпирают узлами. Глядя на него, Маруся не раз вспоминала и своего Миколу: шутя крестился двухпудовой гирей. Надо же – и этого зовут Миколой. Или, может, все Миколы похожи друг на друга? Только характер у этого оказался на редкость мягкий, покладистый, не в пример мужу. Грицка и того слушается, будто взрослого!
Гнат Петрович больше не появлялся, зато Маковей забегал часто, подолгу сидел, расспрашивал.
Вот и сегодня пришел.
Достал из кармана кисет, послюнив клочок газеты, скрутил козью ножку.
– Курнем, Коля?
– Не уважаю. Не глянулось мне как-то курево, не соблазнился, да и вред от этого зелья нашему брату летчику.
Сидели в темноте. Лишь самокрутка мерцала.
– Скоро ноги на плечи?
– Терпения нет! Бока отлежал... Всю ночь глазами хлопаю – ребята из эскадрильи мерещатся. Где они сейчас? Кто патрулирует над аэродромом, кто на дальнем задании, кому ждать приказа... Меня, наверное, в списки погибших занесли, упаду им как снег на голову: «Здорово, орлы!» Случалось и такое у нас.
Николай сладко потянулся.
– Эх, завидую тем, кто в небе! – пробормотал Маковей. – Там все ясно: впереди цель, силуэт вражеского самолета. А здесь... Только и дела, что жди!
– А ты и жди, если так приказано, – осуждающе сказал лейтенант. – Помнишь, Суворов говорил: научись подчиняться, прежде чем повелевать другими... Если ты и перед своими товарищами вот так, извини за крутое слово, хнычешь.
Василь затянулся дымом, проговорил глухо, обрывая фразы:
– С товарищами я – как ты вот со мной. А самого тем временем червь подтачивает. Может, прав Матюшка? Оружие добыли бы. Кое-что и сейчас имеется. Собираем понемногу. В самый раз пора настала соли на хвост фашистам подсыпать. Да холуев ихних к праотцам в гости... Этих тварей я не меньше, чем немцев, ненавижу. Бил бы смертным боем!
– Понимаю тебя, парень, ох как понимаю, – почти с нежностью сказал лейтенант. – Всем сердцем. А башка, – постучал кулаком себя по голове, – башка остепеняет: стой, браток, не туда правишь. Дай сердцу волю – заведет в неволю. Присказку эту здесь услышал, умно, между прочим, сказано.
Надолго замолчали. Во дворе бесновался ветер, пошумывал в саду листьями. Навалился посреди улицы на колодезный журавль, раскачивал его, тот скрипел пересохшей уключиной, бряцал цепью по срубу.
– Ждать, Вася, полагается. Вот и я жду своего часа. Сяду за штурвал, тогда мы с ними и потолкуем на равных. Отомщу гадам и за ястребка своего, и за тех, кто в неволе.
Маковей горько улыбнулся.
– Знаешь, есть такая присказка: труднее всего ждать да догонять, старый дом плотить, отца с матерью кормить. Что касается отца с матерью, здесь явный перебор, устарела присказка, а остальное очень даже в точку.
В уголке на старом матраце посапывал сонный Грицко.
17
Когда Гнат Петрович сказал Ковбыку, что в Черной Кринице ему работа не с руки, плата – на еду не хватает, староста расшумелся:
– А ты что – мармеладов захотел? Цацкаются с вашим братом! Вон видишь сук? – ткнул пальцем в окно. – Как раз для тебя. Оставили живым освободители – искупи свою вину, потрудись на великую Германию, а ты еще и носом воротишь – скудны заработки.
Ковбык, покрасневший до шеи, бегал по комнате и, гневно посматривая на Бугрова, продолжал выкрикивать угрозы. А тот стоял, седоволосый, в вылинявшей гимнастерке, комкал в руках фуражку и с презрением думал: «Откуда берется такая сволочь? Притаились, отсиживались, выжидали, и вот теперь... В половодье, ясное дело, всякое дерьмо всплывает. Всплыли и ковбыки».
– Мармелада не употребляю, – сказал Бугров. – Слишком сладок. Пойду в Булатовку, на свежую копейку.
– Не дам аусвайса! На косилку некого сажать, а он, видишь ли, бурлачить надумал.
Гнат Петрович намекнул, что комендант в курсе дела и не возбраняет ему передвижения, куда захочет.
Ковбык потер двумя пальцами сизый нос, что-то обдумывал, возможно, засомневался – верить или не верить этому бродяге. Ведет себя слишком независимо: то отказался выйти в поле, а теперь и вовсе надумал в отход.
– Ты, мужик, случаем, не того? Ну, в самом деле, с господином Альсеном объяснение имел?
– И не того, господин староста, и в самом деле.
Ковбык сел за стол, заглянул в ящик, все еще колеблясь.
– Говоришь, не возражает? Садись, чего стоишь... А я разве возражаю? Да боже упаси! Я только о том, что и в Черной Кринице можно жить припеваючи. Обосновал бы собственную мастерскую, патент на руки и – греби денежки... В конце концов, столяры нам тоже нужны. Жаль отпускать специалиста, да что поделаеить, – затарахтел Ковбык, подавая подписанный документ. – Если бы моя воля...
– Да уж как-нибудь обойдетесь, – не сдержал иронии Гнат Петрович. – Будьте здоровы, господин староста. Возможно, когда-нибудь еще и встретимся.
На улице темнело. Солнце давно уже нырнуло за горизонт, только реденькие кисейные облачка в высоком небе светились его отражением. У околицы кто-то отчаянно наигрывал на гармошке, горланил пьяным голосом частушки.
Гнат Петрович шел к Маковею. Сегодня наконец-то прочел в «Вестнике» долгожданное объявление. Настал и его час. За время пребывания в Черной Кринице успел привыкнуть к ее кривым, но просторным улицам, которые в мае утопали в вишневом цвету, а сейчас стояли наполненные белой пеной акаций. Поймал себя на мысли, что не хочется покидать тихое село. Стареешь, Гнат, стареешь. Тишина, глубокий тыл... Ничего, скоро зашевелится и этот тыл – уборочная, хлеб! А в чьи закрома?..
– Ты понимаешь меня? В чьи закрома – вот как стоит вопрос, парень, – говорил Гнат Петрович Василю Маковею, когда спустя полчаса они лежали под яблоней, вдыхая терпкий запах разомлевшего за день от солнца разнотравья.
– Хотя и сеяли дедовским способом, а уродило, – хмуро ответил Василь. – Весною мы агитировали против посевной, однако мало кто нас поддержал. Крестьянин не любит пустующей пашни. Да ведь и надеются люди на освобождение.
– Не поддержали потому, что вы, ребята, палку перегнули. Чего захотели – не сеять! Врагу не отдать хлеб – это одно. А самим-то тоже есть нужно! Детворы сколько. Людей уберечь надо от голода, товарищ секретарь. Это все наши советские люди! Ну, затесался среди овса овсюг – ничего, прополется...
– Гнат Петрович, может, в хату или в сарай перейдем? Безопасней...
– Наоборот. Здесь нас никто не подслушает. Кто идет – издалека увидим... Весной тебя не поддержали, и это понятно. А крикни сейчас: поменьше хлеба немцам, прячьте на току, в ямы, в степи!.. Для Красной Армии запасайте хлеб, – ого сколько найдется понятливых! Только делать это надо осторожно, с обдумкой, а то и делу не поможешь, и себя и других погубишь... Я сегодня покидаю Черную Криницу. Получил уже и разрешение.
– Гнат Петрович! – растерянно вскрикнул Маковей. – А как же мы?
– Неужто тебе показалось, что я в приймы сюда пришел? И так слишком задержался. – Бугров усмехнулся. – Знаешь такую присказку: в первый день гость – золото, на другой день – медь, а настал третий – домой едь. Это, конечно, шутка, но если серьезно, то... «Приморский вестник» читаешь?
Маковей сплюнул.
– Помойка!
– Там у нас свой человек. Слушай, что нам приказано...
18
С фотографии на нее смотрели немного лукавые глаза Миколы. Левая бровь приподнята вверх. На щеке такая знакомая черная родинка – сколько раз нежно касалась ее губами!
– Прости, Коля, прости, – шептала Маруся. – Живой ли ты, а возможно, и нет уже на свете, все равно прости. Сама не знаю, что со мной сталось...
Упала на подушки, горько заплакала.
Сегодня, поздно вечером, покинул свое убежище лейтенант Николай Кремчук. Выздоровел, набрался сил. Нарядили его под сельчанина, положили в котомку еды – ушел искать дорогу через фронт. А где он, тот фронт? Дойдет ли?
Прощались по одному. Василь, Матюша...
Так уж получилось, что остались они вдвоем... Она беспокоилась, что малый Калина где-то запропастился. Прибежит – захнычет, обидится.
Моргала коптилка, тускло, подслеповато, в сарае плыл запах горелого масла. Все приличествующие в таком случае слова были уже сказаны, пора трогаться, но Кремчук стоял около дверей, будто не хватало сил отлепиться от косяка.
– Мария! Вы так много для меня сделали... Я никогда вас не забуду.
Взял за локоть, несмело придвинул к себе.
И она не сопротивлялась, сама обняла его, сама целовала, так целовала, будто был это совсем другой Микола. Пригрезилось такое на минуту – словно позвал из небытия – или властно заявило о себе женское одиночество, но только, мама родная...
Хорошо, что Грицко прибежал и своевременно положил конец этому сумасшествию.
Уже стихли шаги лейтенанта, ночь проглотила его ладную фигуру, а она стояла около сарая, прислушиваясь к взволнованному стуку сердца. Еле разобрала, о чем спрашивает мальчик.
– Подоила, Грицык, подоила... Вон там в горшочке, свеженькое...
В хате опустилась на колени перед портретом Миколы, виновато смотрела ему в глаза, в крепко сжатые губы, будто ждала, что они скажут ей какое-то слово. Не сердись, Коля, на того лейтенанта, не виноват он, что похож на тебя, это я бестолковая, нашло что-то на меня, примутило разум...
На другой день Маруся пришла к Маковею. Пока в хате сновала по домашним заботам мать, говорили о том о сем, едва ушла – Василь подскочил к ней:
– Что случилось? Я запретил приходить без вызова...
Она потупилась.
– Ничего не случилось, не волнуйся. Я, может, тоже, как Танька, соскучилась по тебе. Этого конспирация не запрещает?
– Оставь шутки! – еще больше нахмурился Маковей. – Говори быстро!
– Ну, замужняя я, так что – не живая? Уже и влюбиться не могу?
Василь растерянно смотрел на нее.
– Какой комар тебя укусил?
– Дай задание... трудное... наитяжелейшее. И не расспрашивай, прошу тебя как друга. Можешь сейчас же поручить мне самое-пресамое?
Под глазами круги, не спала или плакала – не разберешь. Никогда еще Василь не видел ее такой.
– За нарушение правил конспирации объявляю выговор. Вот так... А задание есть, Маруся, и очень сложное. Сам хотел идти к тебе...
19
Стоял июнь 1942 года. По селу ползли слухи, как огромные тени от туч.
– Немцы на Кубани...
– Немцы подошли к Волге...
– Окружен Ленинград...
Супрун замесил глину, давно надо было подправить глухую стену – зацепило еще осенью снарядом. Однако, услышав такие вести, махнул рукой. Матюша сам взялся за мастерок, но отец выхватил из рук, швырнул в чертополох.
– Пусть она совсем развалится! – закричал гневно. – Судьба народа решается, а мы халупой занялись! На черта тебе эта мазанка, когда целые города ворог рушит под корень.
Матюша слушал эти слова, почти проклятия, и протестовать не хотелось. Жаль только было своего же труда – пропадает замес.
– Рано, отец, веру теряете, – сказал Матюша. – Помните снимки ленинградских улиц? По ним, мол, прошли солдаты фюрера. А вышло: сплошное вранье. Сами рассудите: два месяца тому назад захватили, а теперь, видите ли, окружили. Не сходятся концы с концами!
Матюша шумно засопел, затем поплелся в чертополох, вернулся с мастерком.
– Куда ни посмотри, – забормотал отец, теребя черную бороду, – все Кутузовы, все заманивают в глубь страны. Сколько можно заманивать?
– Кто вам сказал, что заманивают? – удивился Матюша.
– Ктокало! Вот был бы ты генералом, тоже не сказал бы – отступаю, а сказал бы – выбираю лучшую позицию. Дай мастерок!
– Спрячете теперь?
– Это уже мое дело, тебя не спрошу... Так говоришь, концы с концами не сходятся? А что, может, и врут. От кого ждать правды? И все же не слышно «грому», значит, фронт далеко уже. Раньше хоть самолеты объявлялись, теперь и их не слышно. – Отец вздохнул. – И в Крыму не гремит...
– Утихло, – с горечью согласился Матвей.
– И те, что листовки на праздник... притихли. Всего на один раз пороха... Эхе-хе, только на это и хватило чернил?..
Матюша искоса посмотрел на отца. Неужели догадывается? А попал точно в глаз. Да, слишком они засиделись в девках.








