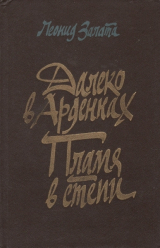
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
4
Маруся Тютюнник сидела на треногом табурете. Руки ее уверенно вращали крылатое веретено, подергивали из кудели шерсть. Делала она это машинально, не подымая глаз, и одновременно разговаривала с незнакомым мужчиной в гимнастерке с расстегнутым воротником, из-под которого выглядывала крепкая, жилистая шея. Мужчина сидел на лавке у окна и ловко забивал деревянные гвозди в оторванные подошвы хозяйкиных сапог.
Возникший у порога Грицко сказал, зачем пришел. Маруся быстро смотала пряжу, швырнула на кровать, принялась натягивать на ноги старенькие туфли. Во дворе тоскливо завыла собака.
Маруся, продолжая ранее начатый разговор, сказала:
– В войну, Гнат Петрович, не только люди поумнели. Понаблюдайте за моим Шариком. Совсем уж вознамерилась сдать на мыло. Какой-то дедок открыл частную живодерню... А пес, будто кто ему на ухо шепнул, целыми днями воет под окном, просит пощады...
– Зачем вы его? Неужто не жалко?
Маруся обернулась уже на пороге.
– Вы что – с неба свалились, Гнат Петрович? Забыли о собачьем налоге?
Бугров растерянно поднял брови.
– Слишком дорого обходится этот Шарик. – Маруся вздохнула. – Вот и избавляются от собак люди. Глядишь: кусок мыла будет...
Грицко поплелся за соседкой, у крыльца остановился. Сзади двора простирался пустырь. На нем росло лишь несколько акаций. Пустырь пересекала неглубокая балка. Весной талые воды заливали ее, подмывая глинистый косогор, поэтому вблизи балки никто не решался селиться. В тени акаций стояли машины, солдаты сбрасывали на землю толстые резиновые круги. Грицко понятия не имел, что это такое. Карие глазенки искрились от любопытства.
Скрипнули двери. Бугров встал за его спиной, кашлянул.
– Чудо-юдо, хлопец?
Положил руку на плечо Грицка.
– Дядя, а что это там у них? Сроду такого не видел.
Гнат Петрович наморщил смуглый лоб, щурясь сурово, смотрел на зеленые фургоны, на суетившихся солдат.
– Понтоны, хлопец. На них кладут доски и – айда через реку. Футбол гонял? Вот так и «колбасы» эти накачивают воздухом, да так, что не тонут на воде, хоть машину по ним пусти, хоть пушку. Видишь – мокрые еще. Наверное, с Днепра сняли, а теперь в Крым или еще куда перебрасывают... Без них через воду техника не перейдет. Словом, плавучий мост, вот что это такое.
Грицко вспомнил, что обещал матери обернуться мигом, заторопился, уже на бегу спросил:
– Значит, воздухом? Как футбол? А если... – испуганно замолчал. И уже не так уверенно закончил: – Если случайно проколются, будет пшик?
Гнат Петрович усмехнулся, почесал затылок.
– Да как тебе сказать, казаче... Наверняка пшик! Но если и в живот штыком пырнут, тоже выйдет пшик. А уж на такие дела фашисты мастера.
Хотел еще что-то добавить, но мальчонку будто ветром сдуло.
5
Вечерело. Ветер разносил по улицам пуховую метелицу. Немецкие солдаты потрошили кур, уток, в каждом дворе пылали костры. Наколов общипанную птицу на шомполы, смолили добычу над огнем, переговаривались, дымили сигаретами.
Гнат Петрович все еще стоял на крыльце Марусиной хаты. Ему хорошо были видны забитые машинами дворы, кучки суетившихся солдат около костров, слышны их разговоры.
Сначала он не понял, почему немцы оставили без внимания Марусин двор, потом догадался: двор-то голый, два кустика сирени у забора не в счет. И хотя костры жгли под открытым небом, машины были надежно упрятаны под деревьями, а кое-где даже укрыты сверху зелеными ветками. Таков, должно быть, приказ.
Бугров потому и зашел в Марусин двор, что здесь не было немцев. Казнил себя. Полез на рожон, а ведь ясно было, что колонна свернула в село. Документы, правда, у него – не придерешься: военнопленный, сдался добровольно, разрешено поселиться в одном из районов Таврии. Однако мозолить глаза оккупантам едва ли разумно: загребут на хозяйственные нужды...
В комнате уютно, аккуратно, со вкусом прибрано, видны заботливые руки хозяйки. С портрета на стене на Гната Петровича смотрел чернявый военный с двумя треугольниками в петлицах.
– Муж?
– Да уж не отец крестный!
Ответ показался грубоватым. Но не обидным.
– Спрятала бы подальше от греха. Еще прицепится кто-нибудь.
– Дуракам закон не писан, – ответила Маруся опять сердито.
– Дураков не сеют и не жнут – сами родятся. А кроме дураков есть еще и враги.
Маруся посмотрела на Бугрова так пристально, словно спросила: а ты кто будешь? Сказала твердо:
– Портрет моего Миколы будет висеть. И не подумаю снимать. А если не нравится...
Не договорила, но все и без слов было ясно. Бугров поднялся, взял в руки котомку, поискал глазами шинель.
– Эх, дочка, дочка... Думал определиться к тебе на постой, да видно, не ко двору... Зря ты так на старого солдата.
– Солдата?..
Маруся произнесла это слово с такой насмешкой, что кровь бросилась в лицо Бугрова. Едва стерпел.
Маруся обернулась от печи, раскрасневшаяся от огня, а может, и от разговора. Мысленно отметила, что захожий и в самом деле не молод. Не только виски, а и борода, даже брови седые. Сник, будто от удара. А ведь ударила-таки, больно припечатала, и стало ей жаль человека, потерпевшего на войне. Еще неизвестно, как он там и в плен попал. Разве признается?
– Ну, ладно, – произнесла извинительно. – Погорячилась я. Обиделась за Миколу. Оставайтесь, и мне не так боязно будет. Одна я сейчас, как былинка...
Неожиданно для себя всхлипнула.
Гнат Петрович снял с плеча котомку, хотя и чувствовал себя неловко. Что мог он сказать жене красного бойца, который наверняка и сейчас где-нибудь под вражескими пулями? Если, конечно, жив. Обманывать не хотелось, а говорить ей все не имел права.
Затолкал котомку под лавку, сел. Слово за словом – разговорились в лад, по-доброму. А когда Бугров, заметив на хозяйкиных сапогах дырки, отыскал под печью консервную банку с березовыми щепками, просмолил дратву, попросил шило и цыганскую иглу – в хате и совсем распогодилось. Марусе вспомнилась смешная история с Гансом, денщиком немецкого коменданта гауптмана Альсена.
И денщик, и сам комендант обожают «коктейль-шнапс». Приготавливают они его по собственному рецепту: сахар, яйца и... водка.
– Ну, что за вкус у людей? – удивлялась Маруся. – Дед Крыхта, который сторожем сейчас, а до войны был колхозным шорником, сбрую ремонтировал, не безразличный к чарке, решил как-то попробовать этого зелья. Намешал, глотнул и до сих пор плюется. Какие, говорит, сами, такое и пойло их поганое. Только харч переводят.
На плите что-то зашипело. Маруся бросилась к чугунку, обожглась, проворно окунула палец в блюдце с маслом.
– Однако речь моя не о Крыхте, пусть ему сладко икнется, а о Гансе, денщике, значит, комендантовом. Каждое воскресенье Ганс опускает в карман пузырек с сахарином, берет в руки по корзине и шастает по дворам – меняет сахарин на яйца. Капитан Альсен, видите ли, корчит из себя справедливого человека, не разрешает денщику брать безвозмездно, поэтому тот и определил плату: за крохотную таблетку сахарина – два яйца. Другая хозяйка, глядишь, рада: где сейчас сладость добудешь?.. Так вот, двинулся Ганс в очередной обход. Притопал к Супрунам, а ихняя усадьба, к слову сказать, обнесена высокой оградой. Только к хате, а из-за хлева таким, знаете, басом: «Гав!»
Как ни старалась Маруся удержаться, зашлась смехом, даже слезы на глазах выступили. «Нет, брат, шалишь, – думал, глядя на нее, Гнат Петрович, – пока жив человек, не убить в нем чувство юмора. А человек, умеющий смеяться даже в горе, – силен духом. Право же, она молодец, эта женщина. Да и ее Микола, даже по фотографии видать, мужик что надо... Счастливая была пара, и хороши оба, очень хороши...»
Маруся тем временем, промокнув глаза уголком фартука, продолжала:
– Мама родная! Как крутанется Ганс на одной ноге назад к калитке: дерг, дерг! С перепугу не сообразил, что надо сначала щеколду откинуть. А Букет тут как тут. Бросил Ганс корзины, сиганул через ограду и – штанами зацепился. Одна нога, значит, на улице, а другой пес играется. Пока Супрун не прибежал на шум да из беды не вызволил.
– Досталось старику?
– Вызывали в комендатуру. Супрун уже и крест на себе поставил, есть там такие, что жизни лишат запросто. Но вот под вечер объявляется. «Обошлось, говорит, приказали отхожее место соорудить во дворе комендатуры. А мне-то что? Эта штука ох как бывает нужна!»
Теперь уже смеялся и Гнат Петрович.
После этого разговора как-то теплее взгляд стал у Маруси. Не корила уже едким словом Бугрова.
Гнату Петровичу предстояло разыскать человека по фамилии Маковей, но спешить с этим делом ему было не с руки. Завтра пойдет сначала к старосте, зарегистрируется. Марусе будет спокойнее, да и ему нет нужды рисковать. Поначалу нелишне осмотреться.
6
Умерла...
На полке чадила сальная свеча. Молча хлопотала Маруся, по небеленым стенам сарая метались неспокойные тени. Грицко застыл у порога, боялся подойти к матери.
Умерла...
Заплакать бы. Куда девались слезы? Лишь тяжелый, горячий комок сдавил дыхание, застрял в горле и не хочет вырваться наружу. А может, это сердце рвется из груди?
Умерла...
«Где ты, отец? Почему не спешишь домой? Ты же обещал! Зря на меня надеялся, не сберег я маму, не сберег...»
Широко открытыми глазами бессмысленно глядел в темный угол, страшно было посмотреть в ту сторону, где лежала мать, и все же краешком ока видел что-то белое, неподвижное.
– Ты, мальчик, беги в мою хату, – ласково молвила Маруся. – Иди, а я позову женщин.
...Глухая ночь лежала над Черной Криницей. Небо, наверное, укрыли густые тучи, потому что не было видно ни одной звездочки. Солдаты утихомирились, ни шума, ни ругани. Лишь в одном дворе тарахтел двигатель да моргал круглым глазом фонарь.
Грицку не раз приходилось играть в «белых» и «красных». Разделятся, бывало, с ребятами на две кучки и ведут бои. Ходил в ночную разведку, ползал по-пластунски, как делали это в кино красноармейцы, бежал в атаку. Случалось после таких «жестоких боев» приносить домой и синяки. Царапина, синяк – не беда. Плохо, если навалятся двое или трое, скрутят руки и скажут: в плен взяли... У ребят нет большего позора.
Тайком пробирался Грицко и сейчас, как прежде в игре. Впрочем, не совсем так, ведь это не игра и вокруг не ребята с сельской улицы, а настоящие враги, фашисты. Те, кто довели до смерти мать, кто вызвал на бой отца...
Вот и пустырь. Небольшой ров с топким днищем, а за ним длинный ряд понтонов. Подполз совсем близко и тут же испуганно отдернул руку. Показалось, что коснулся лягушки, холодной и мокрой. Пересилив страх, навалился животом на резину и замер, потому что качнулась она и зашуршала, как живая.
Часовой у машины то ли шум уловил, то ли просто так скользнул лучом фонарика вдоль понтонов.
– Вер ист дорт?
Сердце колотилось гулко. Грицко лежал, притаившись, пока не наступила опять тишина. Тогда крепче сжал в руках шило и изо всех сил загнал его чудищу в бок, в податливо-мягкое тело. Переползал от понтона к понтону, колол, ковырял, поддевал острием, пока не устали руки. Пожалуй, еще никогда, ни в одной своей ребячьей затее так не старался.
«Это вам за маму! За маму», – мысленно приговаривал Грицко, чуть не плача...
На рассвете немецкие понтонеры шумно засобирались в дорогу, грузили просохшие резиновые «колбасы», бранились спросонья. Из курятника вылез все тот же немец в голубых подтяжках, деловито покопался в кабине своей машины и принялся выкладывать из карманов яйца в чемоданчик. Несколько штук не поместилось, он покрутил их в руках, о чем-то раздумывая, потряс возле уха и, ловко стукая о подножку, одно за другим отправил в рот.
С первыми лучами солнца немцы покинули Черную Криницу. Машины выстроились в длинную колонну и взяли курс на перекопский шлях.
Хозяйки облегченно вздохнули.
Во дворе умершей Варвары Калины хлопотали женщины, а в вишневом садике прятался десятилетний мальчик, поглядывая вслед удаляющейся колонне карими глазенками, полными слез и ненависти.
7
– Могу ли я видеть Петра Николаевича Маковея?
– Не можете, его нет.
– Жаль. Очень мне нужен... А когда вернется?
– Он не вернется. Полгода как погиб.
– Как это – погиб?
– Не знаете, как погибают люди?..
Сколько раз Гнат Петрович рисовал в своем воображении встречу с Маковеем, знал наизусть каждое слово пароля, но ему и в голову не приходило, что все может обернуться таким вот исходом. Лететь через фронт, прыгать ночью с парашютом, угодить в ледяную воду Молочной, добраться с таким трудом сюда, чтобы услышать о гибели человека, с которым надлежало рядом жить и умереть, если придется! Было от чего впасть в отчаяние. Бугрова, конечно, ждали не только в Черной Кринице, но начинать намечалось отсюда. Чувствуя, что молчание слишком затянулось, спросил, лишь бы что сказать:
– А ты, юноша, кем Петру Николаевичу доводишься?
– Сын, Василь, – ответил парень, а сам смотрел на гостя таким взглядом, будто боролся с желанием тоже о чем-то спросить.
Бугров, видимо, понял это, зажег трубку, пыхнул дымком, а когда сизое облачко поплыло от лица, сдержанно сказал:
– Были мы когда-то знакомы с Петром Николаевичем. В далекой юности. Забрел вот в ваши края, дай, думаю, загляну...
Поговорили о том о сем. Гнат Петрович попрощался и ушел. Парень стоял у окна, задумчиво смотрел гостю вслед.
Вечером, когда стемнело, Василь вышел из дома. Пробирался огородами, чтобы не попасть на глаза патрулям. В последнее время полицаи лезли из шкуры, выслуживаясь перед оккупантами, наверное, потому, что фронт откатывался все дальше на восток. Уже не слышно, как грохочут в Крыму орудия, и от этой зловещей тишины все больше угасала надежда. Отступают наши... До каких пор?
Василь прилег на тропинке, долго прислушивался. Бывало, гудит земля, еле уловимо вздрагивает – и на душе легче: значит, бьются, и еще неизвестно, чья возьмет, может, свои вернутся. А сейчас тихо. Ни звука, ни огонька, лишь звезды мерцают вверху, разливая над Черной Криницей холодный свет. Нет им никакого дела до земных забот.
С такими невеселыми мыслями Василь обогнул скирду соломы, прошел мимо колодца и почти на ощупь проник в небольшой палисадник, огороженный, будто частоколом, подстриженным кустарником желтой акации. Прислушался, постучал в окно.
В хате ждали его. У стола с мандолиной в руках сидел Ваня Климчук, смуглый, похожий на китайца, парень. Таким он казался из-за узких с косой прорезью глаз. Склонив голову набок, Ваня наигрывал грустную мелодию из «Наталки-Полтавки», мурлыча себе под нос «Солнце низенько, вечер близенько...».
Около печи на табурете примостился Матюша Супрун, ближайший друг Василя. Когда-то был вьюн, а не парень, но перед самой войной случилось несчастье: заснул в поле под копенкой ночью и проходивший трактор отдавил ногу. Помаялся Матюша по больницам, жить не хотел. Но война приглушила боль, большая беда растворила в себе маленькую. Однако «вьюна» больше не стало, ходил на деревяшке, не по годам горбился и все молчал. Только светились болезненным блеском еще больше потемневшие глаза. Вот и сейчас Матюша сидел, упершись локтями в колени, а ладонями – в подбородок, и трудно было понять: слушает он Климчука или же думает о своем. На лоб свалился клок русых волос.
На кровати по-домашнему разместились две девушки. Маруся Тютюнник, у которой поселился Гнат Петрович, только что открыла Василю двери и, пока он вытирал в сенях сапоги, успела снова забраться с ногами на кровать и смеясь что-то рассказывала шепотом подруге на ухо. У нее были пышные волосы, цвет их можно было сравнить и с золотом, и с лепестками подсолнуха, а брови, будто для того чтобы подчеркнуть белизну лица, угольно-черные.
Подруга ее ловкими движениями тонких пальцев теребила кончик косы. Когда Василь переступил порог, она бросила на него взгляд украдкой, зарделась, на щеках при этом обозначились ямочки.
Маруся сердито мотнула головкой-подсолнухом, всплеснула руками:
– Таня, ты же меня совсем не слушаешь! Говорю, говорю...
– Ну что ты, Маруся, я ведь слышу, – смутилась Таня. – Знаешь, давай лучше поможем Ивану, а то он скоро шапку пустит по кругу: «Подайте Христа ради...»
В мягкий юношеский басок, почти затихающий на низких нотах, вплелись звонкие девичьи голоса. В комнате сразу будто посветлее стало, повеяло весенним ветерком, только Матюша вроде и не слышал песни, сидел, погруженный в свои раздумья.
Лица озарились, глаза заблестели, взволнованно бились сердца. Перед глазами проплывали безграничные просторы Родины, по которым «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей» шагают они, ровесники из Черной Криницы, друзья.
Ваня Климчук перебирал струны мандолины и видел себя в неприступных горах Сибири с рюкзаком за плечами и геологическим молотком в руках. Давняя мечта, с детства. Сбудется ли она теперь? А если да, то когда? Кто может сказать что-нибудь определенно?
Василь тем временем думал о другом. Ему не давал покоя разговор с безвестным другом отца. Кто он такой? Может, это и есть тот самый человек, о котором вспомнил перед смертью отец? Как проверить? В душу не заглянешь...
Несколько минут молчали под впечатлением песни, потом заговорили, засмеялись все разом.
– Вы не знаете, девчата, кто первым сказал, что песня – это крылья?
Ваня осекся под тяжелым взглядом пронзительных глаз Матюши.
– Довольно! – выкрикнул Матвей. Вскочил с места, да так проворно, что табурет кувырком отлетел к печи. – Хватит, говорю! До каких пор будем бренчать, песенками забавляться?
В хате повисла гнетущая тишина, лишь безучастные ко всему постукивали на стене ходики.
– Песню ты, Матюша, не трогай, – сказал Василь. – Ваня верно говорит, песня – это крылья...
– Ну и лети на этих крыльях под окно к Альсену щебетать романсы! – гневно закричал Матюша. – А с меня хватит, напелся вот так! Мне бы гранату в руки – и в самую гущу, в кубло ихнее швырнуть! Чтобы знали гады...
Скрежетнул зубами и, тяжело стуча деревяшкой, направился к дверям.
– Стой! – сурово приказал Василь. – Дело есть, да и о дисциплине не забывай. Без нее нельзя сейчас.
– Дисциплина, – насмешливо процедил Матюша. – Она существует не для того, чтобы принуждать человека песни петь, когда ему плакать хочется.
– Остынь... Именно для того и существует, товарищ Супрун. По крайней мере, может сложиться и такая ситуация.
Василь обнял друга за плечи, усадил опять на табурет и надолго умолк. Чувствовал в гневе Матвея правду. На сердце уже так наболело – кусок хлеба в горло не лезет. Бросить бы все и податься на восток, вдогонку фронту. Шел бы ночами, не спал, не ел, на четвереньках передвигался, лишь бы своих догнать. А тогда... тогда уже ничего не страшно. Плечом к плечу. В руках оружие. Любое... Хоть на смерть... А здесь? Да, Матюша говорит правду, кулаки сжимаются сами собой, когда видишь, как в Черной Кринице хозяйничают чужеземцы. Надменные, самоуверенные. Что хотят, то и делают. Сцепишь зубы и молчишь. До поры...
Таврия! Сивашские степи... Равнина – негде спрятаться. Не зря немцы так спокойно чувствуют себя здесь. Разве что в плавни к Логвиненко податься? А может, в Крым?..
Василь вздохнул. Понимал, что и Ваню Климчука, и девушек гложут сомнения, и сердился на них: почему молчат, будто воды в рот понабирали? Иван перекладывает в руках мандолину так, словно это горячий утюг, в больших Таниных глазах – молчаливый упрек, не поймешь, кто перед нею виноват: Матвей или он, Василь. Впрочем, Таня вообще неразговорчивая, отроду такая. Но Маруся, почему эта сорока умолкла? Разглядывает Матюшу, будто впервые увидела.
Василь сдернул с головы кепку, ударил в сердцах о лавку. Волосы его вздыбились причудливым нагромождением, и Маруся, не удержавшись, взорвалась смехом. Это было так непонятно и неожиданно, что поразило не меньше, чем Матвеева вспышка.
Василь растерялся. Почему она хохочет? Какой недалекий у нас руководитель? Это хочет сказать Маруся? Если так, пусть выбирают другого, он снимет с себя обязанности секретаря подпольного райкома комсомола. Подняли на смех – дальше ехать некуда... И Таня, и Климчук, Матюша и тот улыбается, а Маруся...
Взгляд Василя упал на зеркало, висевшее над этажеркой. А будьте вы неладны! Расчесал пятерней на голове петушиный хвост и так громко вздохнул, будто сбросил тяжелый мешок с плеч.
– Докладываю райкому, – сказал Иван, и все притихли. Климчук умел находить момент, когда к месту было вставить и свое слово. – Вчера был на водокачке. Дальше медлить нельзя, зерно мокрое, прорастает.
– Раздать многодетным, – предложил Василь. – Разве не для этого прятали? К Первому мая подарок от советской власти. Кому пуд, кому два...
Мысль всем понравилась, девушки были в восторге. Комендантский взвод гауптмана Альсена будто веником повыметал все сусеки, мало кому удалось что-нибудь припрятать. В Черной Кринице щелкал зубами голод. А тут такая радость, да еще на праздник!
Набросали список вдов и солдаток, лишь вокруг одной фамилии разгорелся спор. До войны в Чернокриничанской МТС работал инженером-механиком коммунист Павел Иванович Литке, из немцев-колонистов. Машины не успели вывезти в тыл, пришлось сжечь. Кое-кто из бывших колонистов подался на службу к пришельцам из фатерлянда, а Литке уже полгода прячется. Альсен обещает ему помилование и прибыльную должность, но Павел Иванович не откликается ни на посулы, ни на угрозы. Ходят слухи, что комендант намерен в отместку расправиться с семьей Литке.
Матюша хмурил брови и упорно не соглашался с товарищами.
– Фриц он и есть фриц, хоть спереди на него взгляни, хоть сзади. Прикинет, что к чему, и прибежит к Альсену за подачкой.
– Ну, знаешь! – возмущенно заморгала пушистыми ресницами Таня. – Тельман тоже немец.
Матюша растерялся:
– Так это же Тельман!
– Кондратова расстреляли, – сообщил Василь. – Позавчера на глинищах. Приезжал какой-то высокий чин из Азовска, думали, с собой заберет. Обычно они всех туда сперва волокут, но на этот раз...
– Антона Семеновича? Откуда ты взял? Он же успел эвакуироваться.
– Не успел. С самой осени прятался, изредка домой заходил. Какая-то сволочь выследила.
Антона Кондратова знали все. Несколько лет он руководил сельскими комсомольцами, в канун войны взяли его инструктором в райком партии. Сельчане любили Кондратова за отзывчивую душу, за справедливость, случалось, и суровую, но всегда честную.
– Вот видишь! – опять вскипел Матюша. – Пока мы сидим на печи, фашисты бьют без промаха. Такого человека... А Яхненко? А Свириков? Ковальчук?.. Сколько хороших людей замучили, постреляли. К мести! К мести они взывают!
И снова застучал деревяшкой по хате.








