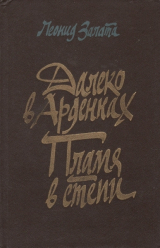
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
Небо утратило голубизну, обвисло. По террасам и каньонам в долины сползали туманы. По утрам на скалах, на отполированных ветрами валунах и развороченных камнях поблескивала седая изморозь. В воздухе все чаще кружились белые мухи. В бараках стало так холодно, что Антон Щербак приказал обшить стены досками, а нары застлать сеном.
Франсуа Балю просыпался чуть свет, ополаскивал лицо ледяной водой из кружки и с наслаждением покрякивал, растирая покрасневшую шею полотенцем.
– Вот бугай, – с завистью говорил Щербак своему адъютанту Ивану Шульге. – Егору пара, хоть в одно ярмо запрягай...
На душе у Антона было неспокойно. Прошло две недели, как Фернан вернулся от Люна, а Центр все еще молчал. Возможно, потому, что не подыскали человека, который хорошо знал бы не только Арденны, но и расстановку политических сил на атлантическом побережье, умел бы ориентироваться в сложной игре, которую ведут между собой партии, группировки и разного рода формирования.
Да, обстановочка не из простых. Придя к такому выводу, Щербак наконец успокоился и с головой ушел в свои новые – хотя бы и временные, как ему казалось – обязанности. До поздней ночи засиживались они с начальником штаба, изучали списки личного состава отряда, сколачивали боевые подразделения, подбирали бойцов в хозяйственный взвод, для караульной службы, в разведку и медсанчасть.
Савдунин облюбовал уютную полянку в подлеске у самого болота и так горячо доказывал, что лучшего места под партизанский арсенал не сыскать, что в конце концов и Щербак в это поверил.
Вскоре команда саперов начала строить там подземный склад.
...Разведка донесла, что в Спремо́ прячутся двенадцать беглецов из шахт Мишру – ищут связи с партизанами.
Щербак обрадовался этому известию и хотел уже было немедленно послать к ним проводника, но его остановил Балю:
– Вы знаете этих людей, командир?
– Беглецы. Такие же, как я, как вы...
– Допустим. А если среди них окажется провокатор? Энке дорого заплатил бы за то, чтобы пронюхать расположение отряда. Разрешите, я сначала сам познакомлюсь с каждым из них. Наш каптенармус родом из Мишру, приглашу его в помощники.
Щербак хотел сказать, что, пока Балю дознается, беглецов приберет к рукам «Арме Секрет», но передумал.
– Хорошо. Пусть будет так. Я только прошу вас, Франсуа, помнить: мы не должны препятствовать людям, которые вырвались на свободу, чтобы мстить своим кровным врагам. Да и нет у нас иной возможности пополнять свои ряды.
В двери вкатился коротконогий мужчина в кожушке, подпоясанном немецким ремнем с пряжкой, ловко подбросил короткие пальцы к козырьку меховой шапки.
– Мсье командант!.. Вызывали?
Щербак повернулся к начальнику штаба:
– Полюбуйтесь на нашего командира хозяйственного взвода. Молодец! А? Картинка! Так и просится в объектив фотоаппарата или же на Северный полюс... Где это вы так основательно экипировались, Марше? И нам с начальником штаба завидно.
Марше самодовольно окинул себя взглядом.
– Подарок знакомого фермера, давнего приятеля. Сочувствует нам.
– Вот как! Значит, сочувствует и выразил это посредством кожушка для командира хозяйственного взвода. – Щербак побагровел. – А вы, Марше, в свою очередь не сочувствуете ли, ну, скажем, караульным? Я проверял ночью посты. Люди мерзнут, понимаете, Марше, коченеют на постах – нас с вами берегут... Одеты кто во что горазд, у одного я видел сапог с дыркой...
Пока Щербак говорил, Марше все ниже склонял голову, теряя еще недавний бравый вид.
– Даю вам три дня! Через три дня караульная служба должна быть обеспечена теплой одеждой. И имейте в виду, я привык проверять, как выполняются мои приказы.
Марше облизал пересохшие губы.
– Для этого мне необходимы полномочия.
– Полномочия? Какие именно?
– На право реквизиции.
Щербак вопросительно посмотрел на начальника штаба.
– Марше в какой-то мере прав, – рассудил Балю. Продукты питания фермеры дают охотно, была бы расписка. Эти расписки в случае необходимости они предъявляют в свое оправдание немцам. Но вот излишка одежды у крестьян не бывает. Здесь придется потрусить лавочников.
– Ну что ж, – сказал Щербак, немного подумав. – У лавочников есть возможность доказать свой патриотизм. Подготовьте необходимые документы.
Когда Марше, взбодренный наличием предписания штаба, залихватски щелкнул каблуками и вышел, Щербак спросил Балю:
– Как вы думаете, Франсуа, я не слишком круто обошелся с ним? Парень он вообще-то находчивый – термосы раздобыл...
Они вышли из командирского барака. Тусклый, едва различимый в тучах кружок солнца был похож на золотой перстень. На опушке, в кустах вечнозеленого багульника, низко пригнувшись, перебегали партизаны. Это Довбыш проводил тактические занятия. Бойцы второй роты стремглав выскакивали из бараков по тревоге и выстраивались в шеренги. Збигнев Ксешинский переступал длинными, как у цапли, ногами и недовольно смотрел на часы.
– Другой раз просто не верится, что Ксешинский вчерашний парикмахер, – сказал Балю. – Сквозь эту его кожанку проглядывает мундир офицера.
– Кажется, раньше вы не очень ладили с ним? – не утерпел Щербак.
Балю прислушался к командам Довбыша на опушке, измерил взглядом расстояние.
– Да-а, боцманский басок, – сказал он. – Хоть на побудку, хоть на страшный суд... Что же касается Збышека, то он настаивал на активных действиях, а я... Я был тогда под влиянием капитана Гро.
– Гро?.. Вы знаете капитана Гро?
– Еще бы, – сказал Балю. – Он был моим комбатом.
Щербак не сразу собрался с мыслями.
– Почему же тогда вы не пошли с ним? – спросил он. – Разве Гро не предлагал?
– Предлагал. И очень даже настойчиво... – На квадратном лбу начальника штаба собрались морщины. – Гро – честный служака. Он привык точно выполнять распоряжения старших. В иных обстоятельствах это могло бы характеризовать его только с положительной стороны. Он не выполнил лишь один, зато очень важный приказ – приказ короля о капитуляции. Мы разошлись с ним во взглядах на будущее Бельгии...
– Интересно, – сказал Щербак.
– Интересно? – переспросил Балю. – Не думаю, чтобы это что-нибудь значило для вас.
– Почему, Франсуа?
– Рано или поздно война закончится. И вы вернетесь домой, в Советский Союз, разве не так?
– Если останусь жив.
– Все мы ходим под богом, говорила моя матушка, ревностная католичка. Вы вернетесь домой и обо всем забудете...
– Обо всем? И о том, как вместе воевали? Хоронили Жана, Жозефа?.. Что с вами, Франсуа?
– Возможно, я не совсем правильно выразился. Этого вы, конечно, не забудете. И я не забуду. Но настанет новая жизнь, у вас появятся иные заботы. А нам оставаться здесь, с глазу на глаз с нынешними врагами. Нет, давайте лучше поговорим об этом как-нибудь потом.
Начальник штаба козырнул и направился к Ксешинскому, оставив Щербака в смутных размышлениях.
Значит, лейтенант Балю и капитан Гро товарищи по службе. А не кроется ли за этим какая-либо опасность для отряда? Может, он поспешил с назначением Балю на должность начальника штаба?..
3
– Дезаре!
– Антуан!
А, черт! Жизнь иногда умеет преподносить и приятные сюрпризы.
– «Мы кузнецы, и дух наш молод...»
Улыбка Дезаре была красноречивей любых слов. В широких плечах, во всей его массивной фигуре чувствовалась неистраченная сила.
Это был он, мой названый брат. С его строгих, будто резцом очерченных губ тихо, еле слышно, слетали слова песни, которая давно стала паролем нашей дружбы и еще чем-то бо́льшим, значительно бо́льшим, что подвластно скорее чувству, а не разуму.
– Дезаре...
Наверное, со стороны смешно было видеть, как двое мужчин топчутся друг перед другом, словно боксеры, волтузятся, дергают за полы одежды, хохочут. Давно уже подмечено, что в радости взрослые люди похожи на детей.
...Я приказал адъютанту созвать командиров и набросился на Дезаре с расспросами:
– Скорее же, говори что-нибудь!
– О чем?
– Да обо всем! Мы так давно не виделись. С лесничеством небось покончено?
Дезаре улыбнулся:
– Лальман наконец-то сдался. Отныне я на нелегальном положении. Офицер штаба по особо важным поручениям.
– Ого! Поздравляю! Сюда добрался без приключений?
– У меня, друг, надежные документы. Подписанные самим начальником брюссельского СД. Действуют безотказно.
– Ты, кажется, знал Дюрера?
Дезаре склонил голову.
– Жозефа знала вся партия, – заявил он после небольшой паузы. – Лальман, услышав о его гибели, плакал, а к Диспи нельзя было подступиться... Такая потеря!
Начали сходиться командиры. Последним пришел Савдунин.
– Привет уважаемому товариществу! – весело с порога прокричал он, едва прикрыв двери, но, увидев за столом незнакомого человека, умолк и смущенно отступил за широкую спину Довбыша.
– Все, – сказал я. – Можно начинать.
Дезаре поднялся.
– Ами, – произнес он, отвинчивая каблук от ботинка. – Позвольте представиться. Мое имя Рошар. Я привез приказ главкома Диспи. Вот мои полномочия, а вот приказ. Командиром полка назначен лейтенант Щербак.
– Полка? Вы не ошиблись? – переспросил я. Мне показалось, что в присутствии всех как-то неудобно обращаться к представителю Центра на «ты».
– Нет, не ошибся. Штаб проводит реорганизацию вооруженных сил. Армия поделена на корпусы и полки. Отныне вы – 4‑й полк Льежского корпуса.
Командиры зашумели.
– Но у нас людей едва хватит на батальон! – воскликнул Балю. – О каком полке может идти речь?
Дезаре успокаивающе покачал рукой:
– Штаб формирует полки с расчетом на перспективу. К вам будет присоединен отряд Герсона, действующий на левобережье в районе Аукс-Тура. Кроме того, есть разрешение пополняться за счет рефрактеров, которых немало скрывается в окрестных лесах. Подпольным организациям на шахтах дано указание организовывать побеги военнопленных. А это готовые бойцы, закаленные, обученные и полные ненависти к врагу. Им только дай оружие...
– С оружием у нас не густо, – бросил Балю. – Что в бою добыли, тем и пользуемся.
– К сожалению, других источников нет, – сказал Дезаре. – До сих пор нас выручал завод в Герштале. Но сейчас там провал за провалом, видимо, в подполье пробрался вражеский лазутчик. Принимаем меры...
Дезаре говорил долго. О сложной обстановке в стране, о пассивной позиции «Арме Секрет», которая выполняет задания эмигрантского правительства Пьерло в Лондоне.
Я смотрел на своих товарищей по оружию, они жадно ловили каждое слово Рошара. Балю хмурился, большие, навыкате, глаза Егора Довбыша светились интересом, Марше ерзал на лавке, будто никак не мог усесться поудобней, на тонких губах Ксешинского застыла ироническая усмешка, он то и дело шептал что-то на ухо Фернану, начальник караульной службы Денелон растирал пальцами виски – после ранения в Ремуштане ему не давали покоя головные боли, а Савдунин выглядывал из-за спины Довбыша так, будто порывался, но никак не осмеливался о чем-то спросить Дезаре.
Я тоже не мог до конца понять всевозможные нюансы и тайные пружины запутанной политической обстановки в Бельгии, однако утешал себя мыслью, что Лальман, Диспи, Терф, Балиган не дадут себя обвести вокруг пальца различным псевдопатриотам. Я никогда не видел их, но был уверен, что это опытные сведущие политики, а главное – стойкие коммунисты, смысл жизни их – непримиримая борьба за освобождение народа.
– Советская Армия продолжает успешно наступать, – говорил тем временем Дезаре. – Освобождены Запорожье, Днепропетровск, Киев...
При этих словах нас будто подбросило – Довбыша, меня, Савдунина. Радостно замахал руками Збышек. Мы давно не получали вестей с фронта, потому что приемник бездействовал: даже проныра Марше пока не мог раздобыть батарейки взамен вышедших из строя.
– Даешь Одессу! – гаркнул Егор.
– Когда же наконец откроется второй фронт? – вырвалось у Савдунина.
Дезаре на миг задержал взгляд на богатырской фигуре Довбыша, затем повернулся к Савдунину:
– При первой же встрече с лордом Уинстоном Черчиллем я передам ему ваш вопрос.
Рошар выждал, пока утихнет смех.
– Мне поручено сказать вам, – торжественно произнес он, – что Центральный Комитет партии и штаб партизанской армии высоко оценили боевые действия отряда «Урт-Амблев». Выведя из строя железнодорожную магистраль Люксембург – Льеж, вы тем самым надолго перерезали очень важную артерию врага. Подготовлена реляция на имя будущего правительства Бельгии о награждении Жозефа Дюрера наивысшим орденом посмертно.
– Почтим его светлую память, – сказал я.
Мы поднялись и молча постояли, прислушиваясь к унылому завыванию ветра за окном.
Дезаре извлек из кармана тугой сверток и одним махом, как факир на сцене, развернул его. На стол упало шелковое полотнище.
– Ни один полк не может существовать без боевого знамени, – сказал он. – Не мы создавали эту традицию, не нам ее и нарушать.
...Всю ночь пролежали мы с Дезаре без сна. Мысли и слова тянулись как бесконечная пряжа. Франсуа Балю, поняв, видимо, что нам хочется побыть вдвоем, пошел проверять посты и не возвращался до самого рассвета.
Утро выдалось тихим и морозным, сквозь клочья туч робко проглядывало солнце. Партизаны выстроились вдоль берега. Оловянная поверхность болотного озера отсвечивала холодными мартовскими блестками.
– По-олк!.. К выносу знамени... Сми‑и‑рно‑о!
Знамя нес плечистый Мишель Денелон в сопровождении двух бойцов караульной службы. Лица суровые, торжественные. Шелковое полотнище трепетало, переливаясь на солнце тремя цветами – белым, желтым и красным. Мой взгляд был прикован к красному. Мне казалось, что здесь частица знамени моей Родины.
От Дезаре я знал: боевой штандарт для 4‑го полка вышивала Эжени...
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
1
Две скифские могилы, не подвластные времени часовые давних-предавних тайн, в гордом одиночестве господствуют над степью. На их вершинах любят отдыхать ястребы и пустельга, иногда садится черный коршун.
Желтые одуванчики на покрытых дерном склонах припорошены пылью проезжей дороги, полукружьем охватившей подножье кургана. А вокруг, до самого горизонта, ровное, будто ток для обмолота, поле – зеленое руно озимых, жирная пашня, прошлогодняя пажить, усеянная цветастым разнотравьем – прозрачная даль, манящая просинью, словно распахнутая настежь. Лишь на север от одичавшей лесополосы вильнула кривая полоска рыжеватой глины в царстве чернозема, глубокая балка, старица, где мальчишки собирают весною вымытые талыми водами зубчатые наконечники стрел из сизого кремня.
Надежда Щербак стоит на вершине кургана, а степь расстилается у ее ног многоцветным ковром, который посилен лишь человеческому воображению.
Если бы ее спросили, почему эта степь, эта неоглядная даль так волнуют сердце, она, пожалуй, не смогла бы объяснить толком. Степь та же самая, что жила в ней, в ее душе, с детства и в которой жила она сама, и вместе с тем иная. Понукание скотины, бряцанье, беспорядочный скрежет и скрип наполняют полуденную тишину. Мычат в упряжках коровы, жалуясь на свою не коровью судьбу, всхлипывают женщины, гладя заскорузлыми ладонями разбитые ярмом, мокрые от пота холки буренок.
И все же нет ничего роднее этой степи, Надежда ощущает себя частью ее, именно здесь, на знакомых до боли равнинах, ее и Корнея, первого председателя колхоза, незабываемое прошлое.
Надежде вдруг вспомнился день, когда перепахивали межи, бежали вслед за трактором люди, сносили указательные колья к огромному костру, а старый Шрамко, задрав голову к небу, крестился и сипел простуженным басом:
– Что же оно будет, люди добрые, а? Какая-никакая земелька, но своя. А теперь? Куда это все пойдет?
И как тот самый Шрамко стоял у тела мертвого Корнея, сгорбив натруженные плечи, и допытывался у Надежды:
– Довгани? Ну, что ты будто окаменела? Ты же знаешь! Ты видела! Скажи, это Довгани? Эти проклятые куркули?! Оба были? Отец и сын?
А потом неизвестно куда исчез. Домой вернулся через три дня, бросил под ноги берданку, поклонился людям:
– Судите. Взял грех на душу... Застрелил обоих... как бешеных собак.
Потом, спустя годы, Шрамко стал колхозным бригадиром. А в сорок первом, перед нашествием с запада, погнал стадо к Дону в эвакуацию и погиб на переправе от бомбежки...
– Эй, Щербачиха! Ты чего там икрами светишь? В статуи записалась?
Это Оришка, дочь Шрамкова, ширококостная, как мужик. Взвалила на плечо маркер, будто крест с обломанной вершиной, ступает размашисто, туго натягивая юбку на узловатых коленях.
В колхозном стане, на краю дороги, звенят подойники, около бочки шум голосов. Надежда слышит, как клокочет горло Клима Гаевого:
– За тобою, Улька, грачи пешком ходят. Чего бы это, не знаешь?
– Приглянулась! – хохочет краснощекая Улька. – Ты слепой, а они глазастые.
– Да, они глазастые, – размахивает руками бригадир. – Им видно, как ты зерно присыпаешь, будто краковяк танцуешь. Ходят следом и склевывают кукурузу. Что же взойдет на твоих рядках? Что взойдет, спрашиваю? Бурьяны?..
Клим задыхается, простреленное горло с трудом пропускает сердитые слова.
Улька ищет глазами Оришку.
– Попробуй сам за нею угнаться – штаны упадут.
Оришка вроде и далеко была, однако же услышала.
– После обеда ты будешь таскать! – кричит она. – Посмотрим, что с тебя упадет.
Улька стоит, подбоченившись, ждет смеха. Но никто не смеется.
– Да ну вас, – машет рукою Улька и набрасывается на Оришку. – Зачем ты это надгробье на себе волочишь? Не бойся, никто не украдет.
– Стояк расшатался, – примирительно Оришка.
Вдвоем они идут к возу, копаются там, отыскивая молоток. Улька оборачивается.
– Климентий! – кричит она. – Ты, между прочим, сам на грача похож, а за мною не бегаешь.
Улька хохочет, довольная, что последнее слово осталось за ней.
Надежда неохотно спускается с кургана, перескакивая на склонах через осыпавшиеся траншеи. На дне их – медные гильзы, пустые пулеметные ленты.
– Что это ты за тряпку подобрала? – спрашивает ее Кылына. Она сидит на мешке с кукурузой, ноги крест-на-крест, жует черную, из высевок, лепешку с луком, густо посыпая ее зернистой сивашиской солью.
– Какая же это тряпка? Пилотка.
В пилотке видна дырочка – если бы не ржа вокруг нее, можно и не заметить. За отворотом почти истлевшая иголка с остатками нитки.
– Аккуратный был мужик, – тихо говорит Надежда.
– В окопе подняла? – вздыхает Кылына. – А самого нет?.. Могилки, говорю, нет?.. Значит, унесли. Может, и живой где-то. Садись есть.
Выдоенные коровы хрумкают молодой травой, что проткнулась меж прошлогодним жнивьем, на костлявых крупах светится под лучами бурая шерсть.
– Коров в ярмо... Как подумаю, душа разрывается, – вздыхает Кылына. – А сколько до войны было тракторов, автомашин и всякой всячины... Куда все подевалось?
– Придет время, будут и трактора, – отзывается Надежда. – А сейчас танки нужнее.
– Бабы! – хрипит Клим. – Досеем кукурузу – два дня на передых. Я щедрый!
– Ходь, щедрый, ко мне. Молочком угощу, слышишь?
Это все та же неугомонная Улька.
...Сумрачный вечер опускается на колхозный стан, огромной паутиной опутывает курганы. Дорога вдали кудрявится призрачной дымкой, словно гонят по ней отару овец. Приложив к глазам ладони, женщины всматриваются, отгадывают:
– Может, наше стадо с Дона возвращается?
– Соседнее из «Южной степи» давно уже вернулось, а наше, как погнали, да будто в яму.
Кылына собирает в подол крошки, бросает их жаворонкам на дорогу.
– Послепли вы, что ли? Это же люди.
– Господи, немцы!.. Может, фронт прорвали? Бежим!
– А ну, без паники! – кричит Клим. – Где тот фронт? Газеты надо читать. На вожжах их ведут, не видите, что ли?
И в самом деле, впереди и по бокам колонны идут с автоматами солдаты в краснозвездных пилотках, идут весело, вроде бы и не глядя на немцев, которые плетутся дорогой по четыре в ряду. Во взглядах покорность и что-то большее, чем покорность, возможно, осознание приятной мысли, что вместе с пленом для них закончилась и война, не придется больше рыть осточертевшие окопы и ежеминутно ждать смерти. По крайней мере так подумалось Надежде.
Молоденький сержант с русыми усиками сверкнул зубами.
– Смотрите, девчата, на этих вояк! Смотрите. Они теперь смирные!
– Знаем мы этих смирных, чтоб их...
– Сегодня смирные, а вчера вешали да расстреливали!.. У‑у, гады ползучие!
Кто-то ругается, кто-то плачет, бросают комья земли в колонну, а Ульяна выхватила у Оришки маркер и замахнулась им на ближнего в ряду.
– Назад! – оттесняет ее конвойный. – Нельзя!
– Пусти! Я хоть одного огрею! – вопит Улька. – Ты не видел, как они здесь над нами измывались! Ты целенький еще, ни пулей ихней, ни нагайкой не меченный!
– Ко-лон-на-а-а, хальт! – командует сержант. – А ну-ка, готмитунсы[37]37
На пряжках солдатских ремней у немцев было выбито: «Гот мит унс» – «С нами бог».
[Закрыть], что скажете про Гитлера?
– Гит-лер капут! – заученно рявкнули в первых рядах.
Сержант улыбается, подмаргивает Ульяне:
– Слышали, девчата? Сами немцы говорят... Вот такая музыка... Ко‑лон‑на, шагом марш!
И снова зашаркали сотни ног, поднимая тяжелую пыль. Оришка будто опомнилась, протянула перед собой посиневшие жилистые руки, запричитала:
– Верните Настеньку! Куда вы дели мою доченьку, ироды?!
Колонна отдалялась, гудела по деревянному настилу над акведуком, а Оришка все бежала вслед за ней и причитала. Косынка упала с ее распатланной головы и валялась на обочине дороги, зацепившись за сухие стебельки татарника, белая и трепетная, как подстреленный лебедь.








