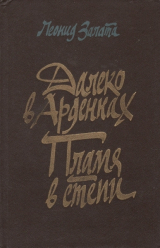
Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"
Автор книги: Леонид Залата
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
12
Колодец покинутой водокачки дохнул из глубины таинственной тишиной, запахами прелого зерна и плесени. Ржавые ступеньки вели вглубь, к едва различимой в полумраке нише, где стоял двигатель, разобранный любопытной ребятней по гайке. Исчезли также трубы. Сиротливо чернел засаленной крышкой пустой ящик для инструментов.
В сентябре сорок первого советские части, отступая за Перекоп, подожгли бурт пшеницы под крытым навесом. Сгорел, однако, лишь верхний слой. Василь Маковей в то время уже собирал вокруг себя молодежь. Возникла мысль – припрятать хоть немного зерна про черный день. Вот тут и пригодилась заброшенная водокачка километрах в десяти от села. Когда-то вблизи нее находилась колхозная бахча, а теперь колодец совсем затерялся в бурьянах.
С потолка на цементный пол гулко упала капля. Маруся чуть не уронила свечку.
– Трусишь? – засмеялся Климчук.
Маруся смутилась.
– Да ну тебя! Потише не можешь?
– На десять верст ни души. Чего бояться?
– Чего, чего... Нет у нас права рисковать – вот чего. Сами-то выкрутимся, если кто застанет: мол, для себя спрятали. А задание?
– Ох, и умница же ты, моя разумница, – иронически откликнулся Ваня. – Все предвидела. А впрочем, ты права. Давай помолчим.
Климчук насыпа́л в мешки зерно «пуда по два», как наказывал Василь, Маруся пристроила на ржавом вентиле свечу. Огромная Иванова тень металась по заплесневевшим цементным стенам.
Когда выбрались наконец с клунками наверх, облегченно вздохнули. Вокруг, сколько хватает глаз, простиралась безлюдная степь. Предмайское солнце повисло над горизонтом, замерло, будто не желая опускаться ниже. В небе свирепствовал ястреб, гоняя стаю голубей.
Пригибаясь в бурьянах, шли к лесополосе. Кусты маслины, дикие абрикосы, молоденькие клены и белая акация хотя и не успели еще покрыться буйной зеленью, однако уже надежно скрывали от постороннего взгляда. А Ивану и Марусе было видно все: и степную колею, что разрезала поле напрямик до Черной Криницы, и шоссе на Каховку.
В поле не заметно было весеннего оживления, не слышался привычный гул моторов. Лишь кое-где зазеленели посевы. На току одиноко стояла будка трактористов, ее называли здесь матросским словом «палуба».
Когда уже приблизились к селу, увидели две пары круторогих волов, запряженных в скоропашку. За нею шел, лениво помахивая кнутом, Матюшин отец. Женщины с лопатами и тяпками плелись следом, копали ямки, заравнивая в них кукурузные зерна.
– Как при царе Горохе, – печально усмехнулся Иван. – Возвращаемся в средневековье.
В конце гона старый Супрун распряг волов, не снимая ярма, пустил на выпас. Сам оседлал скоропашку и полез в карман за кисетом. Женщины тоже присели рядом, извлекли из узелков ячменные коржики, запивали кто молоком, кто свекольным квасом.
– Раньше только в книгах читал о такой сельской жизни, – продолжал тем временем Климчук. – Волы, тяпки, сею-вею-повеваю... Теперь своими глазами довелось увидеть.
Маруся ничего не ответила, шла за Иваном протоптанной в лесополосе тропинкой, а в мыслях была далеко-далеко.
...Звенит над головой жаворонок, дыханье ветерка доносит из-за холма хриплое урчание тракторов. Там, на паровом клине, ее Микола. А здесь, куда ни глянь, белое как снег поле. Из распахнувшихся коробочек рвется на свободу хлопок. Разбрелись в межрядьях девчата, проворно подхватывают мягкое как пух волокно, набивают этим добром фартуки. А впереди она, Маруся Тютюнник, известная на всю Херсонщину звеньевая.
Посреди поля – огромный курень, неподалеку от него старательно обмазанная глиной площадка. На ней гора хлопка, а девчата все несут и несут наполненные фартуки, мешки, растет белая гора. Но как ни стараются, однако далеко им до Маруси.
От жары прятались в курене; пили прямо из бутылок молоко, извлекали из лужи под телегой водовоза манящие сладостной прохладой арбузы.
Вечером девчата идут с поля и поют так, что катится по степи эхо. Идут будто с прогулки, а не с работы. Маруся выводит старательно, звонко, чтобы услышал на бригадном стане любимый. И если Миколе не заступать в ночную, седлает свой мотоцикл и мчит вдогонку за певуньями.
Девчата хохочут, не пускают его к Марусе, глядишь – так разойдутся, что и в пыли вываляют. Микола никогда на то не гневался. Подождет, пока уймутся насмешницы, подхватит ее на руки и – к мотоциклу.
Встречный ветер срывает с Марусиной головы косынку, играет золотыми волосами, остужает ноги, а она крепко держится за широкие плечи Миколы, щекочет горячим дыханием его смуглую шею...
Тревожный голос Вани Климчука будто отрубил сладкие воспоминания:
– Смотри, кого несет сатана! Да присядь!.. Кому сказано?!
Из села мчалась тачанка. Кучер только помахивал над головой кнутом, пара вороных куцехвостых лошадей сама неслась резвой рысью, оставляя за собой клубящуюся пыль. Откинувшись на кожаную спинку, в тачанке сидели два немца. Один, приставив к глазам бинокль, издали разглядывал сеятелей.
– Сам гауптман Альсен, – сказал Иван. – Сельскохозяйственный комендант района. Лопнет от злости, что наши сидят обедают. Сволочь, новоявленный рабовладелец...
Тачанка остановилась, гауптман спрыгнул на землю, заорал, взмахнул нагайкой. Женщины бросились врассыпную, один лишь Супрун как сидел на скоропашке, так и остался недвижим. Дымил самокруткой, хмуро поглядывая на немца.
А комендант уже стоял на тачанке, похлопывал нагайкой по лоснящимся голенищам и, показывая на солнце, что-то выкрикивал.
– Зашло бы оно для тебя навеки, – прошептала Маруся. – До каких же пор это будет продолжаться, Ваня? Нет больше терпения...
13
Впечатление было такое, что ночь, как темная тарелка водой, всклень наполнена прозрачной тишиной. Но вот тишина переливается через край, и тогда где-то далеко слышны глухие раскаты грома.
Таня замерла, прислушиваясь. Когда уже загремит и над Черной Криницей? Когда очищающая от скверны гроза промчится над степями Таврии, смоет зеленую саранчу, что заполонила родную землю и пожирает ее плоды и ее душу?
Стежка вела через огороды. Сколько раз Таня ходила по ней в школу, знала ее так, что хоть глаза закрывай и иди, а нынче все пугало: то колючка неожиданно уцепится за юбку, то мелькнет за деревьями неясная тень.
Вдали, похоже над станцией, полыхали зарницы зенитных взрывов, удивительно легко и не спеша плыли вверх разноцветные строчки трассирующих пуль. Где-то там, в той стороне, Василь.
Таня прислушивалась к окружающим звукам и расклеивала на заборах, на стенах хат листовки. Старалась не думать о том, что произойдет, если из темноты вынырнет полицейский патруль. Василю еще труднее: станция забита войсками, каждую минуту можно попасть в руки врага. Была горда, что Маковей выбрал себе самое опасное задание. «Смелый он у меня, – подумала и улыбнулась: – У меня...»
Вспомнился далекий зимний вечер под Новый год. На занятиях школьного литературного кружка Василь Маковей читал свои стихи. Возможно, были они и «не на высоте», как сказал руководитель кружка Кирилл Сергеевич, но читал их Василь с чувством, в хорошем настроении. Ему аплодировали, просили прочесть еще что-нибудь. Не больше ли остальных хлопала в ладоши она, а потом поднялась, сказала об одной оплошности, еще об одной и так увлеклась, что от стихов Василя не оставила камня на камне. А закончила тем, что не знает, мол, выйдет ли из Маковея поэт, зато декламатор – наверняка.
– Разрешите, Кирилл Сергеич, задать товарищу Гречко всего лишь один вопрос, – поднял руку Василь. – Сложила ли она сама хоть несколько стихотворных строк? Интересно бы послушать.
– А я готовлюсь в критики. Критикам не обязательно сочинять... Или, по-твоему, нельзя критиковать других, если у самого не получается?
Маковей покраснел. Остаток вечера просидел тихо, украдкой поглядывая на нее, а когда расходились, предложил проводить домой.
Говорили о кружке, о поэзии, о том, как возвышает порой душу одна лишь гениальная строка. И не сразу разглядишь, где кроется «секрет» самых обычных слов, поставленных рядом... Потом беседа приняла совсем неожиданное направление.
– Вчера было холодно, а сегодня вроде бы теплее.
– Да. Я тоже заметила.
– Лютый[61]61
Лютый – февраль (укр.)
[Закрыть] не оправдывает своего имени.
– Лютый? Ах, вон ты о чем! А я и не задумывалась над этим никогда.
– Над чем?
– Что лютый – это злой или что-то вроде.
– А квитэнь[62]62
Квитэнь – апрель, квиты – цветы (укр.).
[Закрыть] – квиты...
– А травэнь[63]63
Травэнь – май (укр.).
[Закрыть] – травы...
Перебрали весь календарь, смеялись...
Дома она наспех поужинала, бросилась в кровать, охватила обеими руками подушку и принялась перебирать в памяти весь вечер, до мелочей. О чем говорили... В самом деле, о чем? Бог знает о чем. Несла глупости и не замечала. Наверное, потому он и смеялся. Какой позор! А впрочем, почему это меня так беспокоит?..
Через день они встретились снова. И Василь, радуясь, что на морозе не видно, как он краснеет, прочитал стихи, посвященные ей, Тане. Мало сказать, что стихи понравились, она чувствовала себя в ту минуту счастливой, Это так возвышало ее в собственных глазах... Стихи для нее!.. Это же нужно сидеть, придумывать... Чувствовать нужно!
В тот вечер они впервые поцеловались.
Сейчас Василь Маковей точно так же, как она, крадется темными улицами. Страшно. Однако надо. Даже необходимо! Потому что завтра Первое мая...
А Марусе Тютюнник выпало на эту ночь иное. Восемь мешков, восемь тревожных маршрутов по селу согласно списку, составленному на заседании райкома. Чуть не нарвалась на полицаев. Сначала на одного, затем на другого. Посветлело на горизонте, когда вернулась домой и забылась неглубоким, клочковатым сном.
14
Старые люди помнили: когда-то, еще при царе, это слово произносили шепотом. Расплата ждала каждого, кто имел к нему хоть какое-нибудь отношение. А потом, при советской власти, его начали забывать, сдали в архив как принадлежность истории.
И вот оно родилось снова и взорвалось как бомба.
Листовки!..
Черная Криница загудела.
Было солнечное первомайское утро, и, хотя по улицам не шли пестрые колонны демонстрантов, а над крышами не развевались праздничные флаги, село охватило торжество: тихо, украдкой вымолвленными поздравлениями, воскресной одеждой, молчаливым крепким рукопожатием и этим таинственным словом «листовки». Прилепились они белыми голубями на стенах и заборах, на телеграфных столбах. Толпились люди, жадно читали пылкие, гневные слова, с которыми впервые за долгие дни оккупации к ним обращались непокоренные, свои.
«...Приближается время, когда Красная Армия вышвырнет захватчиков с родной земли. Оккупанты будут биты еще не раз, как были они биты под Москвой...»
Листовки остро высмеивали германских курощупов, суля им за подвиги по ограблению населения деревянные кресты, каких немало уже стоит на полях Украины и Белоруссии, взывали к мести душегубам... Под листовками подпись: «Районный комитет».
В тот день сельский староста Ковбык с самого рассвета сидел в управе и ковырялся в бумагах. Три недели назад его вызвал к себе гауптман Бруно Альсен на разговор, после которого Ковбыка до сих пор трясла лихорадка.
...Комендант сидел за столом и собственноручно готовил коктейль-шнапс. Перед ним стояла корзина с яйцами, бутылки с водкой, одна пустая посудина и ваза с сахаром.
– А-а, господин Ковбык! Ласкаво просымо в гости! – весело крикнул он. Гауптман знал украинский язык, не русский, а именно украинский, и этим бравировал.
До прихода нацистов к власти Бруно Альсен успешно закончил курс филологии в Геттингене и специализировался на славянских языках, не предполагая притом, что через десяток лет будет практиковаться непосредственно с аборигенами Украины. По меньшей мере именно это любил он подчеркивать в разговорах с друзьями. Но бывшие мечты о карьере ученого ушли в сферу воспоминаний. Альсен теперь относился к ним с нескрываемой иронией.
– Як ся маетэ?[64]64
Как себя чувствуете? (укр.)
[Закрыть] – прищурил Альсен глаз. Руки тем временем быстро работали: стукнет яйцом о пресс-папье, разломает скорлупу и аккуратно – белок в тарелку, желток в водку.
– Живу вашей лаской, господин комендант, – учтиво произнес Ковбык, теребя в руках фуражку. – Велено прийти?
– Велено, велено, – удовлетворенно повторил Альсен. – Хорошо звучит это слово. Как музыка! Мне оно нравится больше, чем немецкое «befahl».
Он набирал ложечкой сахар и тоненькой струйкой сыпал в бутылку.
– Скажите-ка, господин Ковбык, прежде чем нести хлеб ко рту, что полагается сделать?
Староста наморщил лоб, белые щеточки бровей сбежались подковкой к переносице.
– Нарезать скибками? – попытался он угадать.
Комендант скривился.
– Вероятно, все же полагается хлеб сначала испечь, а чтобы испечь – сжать, а чтобы сжать – посеять. Разве не так?
– Истинно так, – качнул головой Ковбык, поняв уже, куда клонит Альсен.
Гауптман посмотрел на бутылку против света, заткнул пробкой и принялся взбалтывать.
– «Истинно так», – передразнил он старосту. Серые глаза Альсена снова прищурились, стали колючими. – Почему же вы так нерадиво сеете? Может, есть не хотите?
Ковбык сник под его взглядом, вобрал голову в плечи.
– На мне пот не высыхает, господин комендант. Святой крест! – Староста для верности махнул пальцами со лба к плечу.
Альсен всхохотнул.
– Что я вижу? Господин Ковбык – верует! Ха-ха! – вдруг оборвал смех и вкрадчиво спросил: – А в тридцать первом вы умели креститься? Ну, в той поре, когда священника отправили к праотцам, а он, не будь дураком, воскрес и указал на вас пальцем?
«Знает, все знает чертов немец, – перепуганно подумал Ковбык. – Откуда? Не иначе кто-то копает под меня... Но кто?»
– Так ведь тот попик оказался красным агитатором! Другие попы были как попы, а этот закатывал с амвона такие речи – большевикам на зависть!
– За это вы с ним и схлестнулись?
– Ну да! А люди не верили, трепали языками о сундуке с золотом.
В глазах Альсена сверкнула заинтересованность.
– Сколько же вы загребли?
– Загреб? – Ковбык зло скривился. – Попик совсем голым оказался – ни алтына в запасе... Ряса в латках! Десять лет – вот что я получил за большевистского законослужителя!
Гауптман опять зашелся смехом.
– Развеселили вы меня, староста. Значит, комиссары упекли вас в Сибирь за попа?
– Так и вышло! Говорят: поп не поп, а убивать не положено. При Советах насчет этого было строго... Накануне войны и выпустили.
– Строго, говорите? – переспросил Альсен. – Так, так... Вот что, господин верующий староста... Если за три недели не будет засеяна вся вспаханная площадь, быть вам опять в лагере, только на этот раз в немецком. А оттуда, сообщаю для сведения, нет возврата.
От такого поворота в разговоре Ковбык опешил. Одутловатое лицо его сначала побледнело, затем на нем обозначились бурые пятна.
– Как можно, господин комендант! – дрожащим голосом начал он. – В колхозе было столько машин, а сейчас не то что трактора – лошади захудалой не найдешь. Ярма на коров надеваем.
Альсен опустил бутылку на подставочку у стола, обозрел свое изделие и тут же наполнил стакан.
– До ваших трудностей мне нет дела. Большевики не думали о вашем будущем, когда вывозили и жгли технику, на них теперь и жалуйтесь... Помощь крестьянам фюрер обещает только при уборке урожая. Вскоре пустим завод в Мелитополе – косилки получим, из обоза подбросят лошадей.
«Поможешь ли собрать – неизвестно, а забрать – факт, – думал, слушая коменданта, Ковбык. – Однако немец крепко себя чувствует, если завод пускает».
– Чем засевать-то? Осенью фронт стоял здесь, не до посевной было, остались без озимых, а яровой пшеницы кот наплакал... Разве что кукурузой? Да и то поздновато, кочан не успеет вызреть.
Альсен опорожнил стакан, причмокнул языком.
– Сейте что заблагорассудится. В хозяйстве фюрера все пригодится. Ясно? Будет в чем задержка или мешать станут – докладывайте.
Глаза гауптмана смотрели почти весело, однако Ковбык чувствовал, что никогда ни перед кем он не выглядел так ничтожно...
После встречи с комендантом Ковбык целыми днями мотался по полям общины, как назывался теперь колхоз, лез из шкуры, лишь бы хоть частично осеменить пашню.
Сегодня отведенный для посевов срок истекал, старосту трясло с рассвета.
Проснулся – побежал в управу. Сидя будто на иголках, подсчитывал, чего, где и сколько посеяно, округлял цифры в надежде, что Альсен поверит на слово. Наконец сложил бумаги в папку, напялил на лысую голову фуражку и вышел на крыльцо.
Уже на пороге что-то заставило его насторожиться. Заметил, что людей на улицах непривычно много и все они выглядят как-то иначе, чем в другие дни. За боковой стеной управы, разместившейся в бывшем здании сельпо, у доски объявлений и приказов табунились старые и малые.
«На что они там глазеют? – встревожился староста. – Приказ коменданта? А может, мой? Что же это я такое интересное написал? Подавиться мне вареником, если помню».
Приосанившись, Ковбык направился к толпе. К нему подскочил Смола:
– Господин Ковбык! Свирид Михайлович! Засвидетельствуйте, что я первый. Никто из наших еще не видел, а я сразу заметил, первым обнаружил...
– Что ты обнаружил?
– Да вот – большевистская листовка! – ткнул в руки старосте Смола мятый листок. – Иду по улице, а она прямо на столбу, у всех, значит, на виду...
Староста почувствовал, что под фуражкой у него зашевелились волосы, да так ощутимо, словно на лысой голове вмиг выросла густая шевелюра. Вспомнил мысленно недобрым словом матерь божью и уставился в поданный ему листок.
– Да вот на ваших дверях еще одна! – ахнул полицай. – Прямо обнаглели. А вы с ними все уговорами да лаской!..
Ковбык оглянулся. На дверях управы белела еще одна такая же листовка.
– Засвидетельствуйте, господин староста, я первый... – напомнил Смола.
– Это же... черт знает что! – выкрикнул опешивший Ковбык и вдруг заорал на полицая: – Первый, первый! Разболтался! Ну и что с того? Дурак ты первый, вот кто ты! Надо было ночью ворон не ловить. Где был, когда по селу листовки эти расклеивали? У самогонщицы под юбкой блох ловил? Так и доложу, что ты первый блохолов!.. А люди чего собрались?
– Читают, господин староста.
– Что читают?
– Да прокламацию же... Ту самую, что у вас в руках.
Ковбык гневно глянул на полицая желтыми глазами:
– А ты, прохвост, рот раззявил? Гони их сейчас же, чтобы и духа не было!
– Приказывал разойтись – не слушаются. Вот разве что вы накричите, – угодливо сказал Смола, стараясь утаить обиду на старосту.
Ковбык начал вежливо, издалека:
– А чего это вы, люди добрые, базарите? Ну-ка по домам!.. Ай-я-яй! Читать большевистские листовки запрещено законом.
Задние чуть отступили, но никто не уходил.
– Оглохли вы, что ли? – насупился Ковбык. – Какой-то выродок нацарапал черт знает что, а вы и прилипли, как мухи к меду. Марш по домам!
Ближе других к листовке стоял коренастый дедок с лохматыми бровями, что будто стрехи нависали над его по-стариковски запавшими глазами. Дедок обернулся, подморгнул соседу, прокашлялся. Ковбык узнал Крыхту, каверзного мужичонку, не раз уже изводившего его хитроумными насмешками.
– А кого это вы, староста, выродком обзываете? – спросил Крыхта. – Разве не видите: читаем приказ господина Альсена?
– Что-о? Какой там еще приказ?
Ковбык протиснулся к доске объявлений. Рядом с листовкой действительно прилепился приказ коменданта, Где сообщалось, что до конца месяца «каждый владелец коровы обязан сдать три килограмма масла на бутерброды немецким солдатам-фронтовикам». Так и было написано: «на бутерброды».
Староста растерянно заморгал и, услышав за спиной сдержанный смех, наконец понял, как ему следует поступить. Гневно впился ногтями в листовку, содрал ее, шикнул на толпу:
– Вот теперь и читайте приказ сколько влезет!
– А мы уже выучили на память, – сказали за спиной. – Можно и по домам.
Люди стали расходиться, только Крыхта топтался на месте, задумчиво почесывая затылок.
– А ты что торчишь, философ? – заорал Ковбык. – Ишь, размечтался!
– Как же не задуматься, господин староста... Его германское благородие пишут: гони по три кила на бутерброды. Оно бы ничего, конечно, хлебец намазать пожирнее. Я и сам не против. Да как быть, если, к примеру, у меня во дворе не корова, а коза? С козиного молока...
– Да ты что? – взъярился Ковбык. – Над властью насмехаешься? Я т-те-бе покажу!
– Какой смех, господин староста? Тут слезы, если разобраться. Сто солдат фюрера получат бутерброды, а сто первый только оближется. И все через эту чертову козу.
– Молчать! Смола, отведи его в управу, пусть там помечтает в темном закутке.
Смола резво подскочил, положил руку на плечо старику:
– Топай, дед, в северном направлении!
Крыхта шевельнул плечом, сбрасывая руку.
– Убери! Сам дорогу знаю! А что, господин староста, может, уборную приспело время копать? Которая Супрунова – уже полная?
– Могилу себе выкопаешь, – пробормотал Ковбык и, взглянув на часы, заспешил к комендатуре.
Неизвестно, о чем шел разговор у Ковбыка с гауптманом Альсеном, однако вернулся он в управу побледневший, с трясущимися губами и тут же пригласил к себе начальника полиции Шефнера. Шефнер не очень-то уважал старосту, но в этот раз прибыл без промедления, понимая, что сейчас не время делить власть с Ковбыком. Не дай бог, комендант узнает, что начальник полиции смотрел в эту ночь с его машинисткой приятные сны, опростав перед тем бутылку самогона. Именно тогда, когда «комитетчики» расклеивали большевистские листовки, ему было особенно приятно зоревать с заезжей блудницей.
Черную Криницу заполонили полицейские патрули.
В тот же день произошло еще одно событие, незаметное для постороннего глаза. Соседка Тани, Ольга Ивченко, муж которой находился в Красной Армии, обнаружила утром под дверями мешок с пшеницей. В мешке листовка и коротенькая записка: «Примите, Ольга Михайловна, небольшую помощь от советской власти. Районный комитет».
Ольга разволновалась, заплакала. Тоненькие, как стебельки, руки дочки копались в зерне, а старший, пятилетний Саша, лепетал:
– Ма! Хочу пирожков! Это папка хлебушка прислал, правда, папка?
– Да, сынок, папка, – ласково погладила Ольга мальчика. – Только об этом нельзя никому говорить. Никому-никому!
Слезы капали на пшеницу. Значит, жива наша власть, здесь она, среди людей, и о том помнит, что в ее хате и крошки не осталось. Вчера из высевок пекла коржики, а они разваливаются еще на сковороде...
Такие же подарки под своими дверями нашли еще семеро криничан. И только старый портной Фалько, который жил под одной крышей с многодетной невесткой, посчитал приблудившееся зерно за чей-то подвох и хотел было спровадить даровой харч в управу.
– А что, дочка, если это уловка? Они, фашисты, мастера на выдумки. Сегодня принесли, а завтра скажут: расплачивайся... Тебе же и придется топать на каторгу за эту пшеницу.
Но невестка так горячо уверяла, что подарок из чистых рук, что его прислал в самом деле «районный комитет», а на деда смотрело столько голодных глаз, что он в конце концов махнул рукой.








