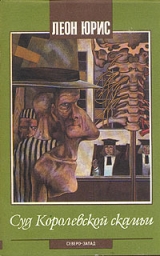
Текст книги "Суд королевской скамьи"
Автор книги: Леон Юрис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
– Если вы соблаговолите заглянуть дальше, то убедитесь, что речь идет всего лишь о скрытых формах рака, которые не проявляли себя девять или десять лет.
– Я предполагаю, что для заключенного-врача, который видел, сколь неумело проводилось облучение, его результат вполне обоснованно вызывал опасения.
– Звучит, словно вы извиняете меня.
Хайсмит почувствовал, что ему лучше остановиться.
– Вопросов больше не имею.
Встал О'Коннор.
– Сэр Френсис, откуда вы взяли статистические данные, которые вы использовали в этой работе?
– Из сведений американской Комиссии по изучению последствий атомной бомбардировки.
– И к какому вы пришли заключению?
– Заболевания лейкемией среди лиц, подвергшихся облучению, составляют менее трети процента.
– И эти данные стали известны только спустя много лет после войны.
– Да.
– Знакомы ли вы с посвященными. этой же теме данными процессов над врачами – военными преступниками в Нюрнберге?
– Да.
– И какие вы сделали выводы?
– Что нет никаких доказательств, свидетельствующих, что облучение может стать причиной раковых заболеваний.
19
Даниэль Дубровский, который ныне представлял собой печальное подобие некогда крепкого, сильного человека, явился живым доказательством уничтожившей его трагедии, существом, ведущим полурастительный образ жизни, который двадцать лет назад забыл, что такое смех. Снова и снова Баннистер и судья переспрашивали его, когда он тихим, почти неслышным голосом рассказывал, что живет в штате Кливленд в Америке, а родился в Волковыске, который в то время принадлежал Польше, а ныне входит в состав Советского Союза. К началу второй мировой войны он был женат, у него было две дочери и он преподавал романские языки в еврейской гимназии.
– Чем был отмечен для вас 1942 год?
– Меня с семьей отправили в Варшавское гетто.
– И впоследствии вы приняли участие в восстании?
– Да, оно началось весной сорок третьего года. Те из нас, кто к тому времени остался в живых, скрывались в бункерах глубоко под землей. Схватки с немцами длились больше месяца. В конце концов, когда все гетто было объято пламенем, по канализационным трубам мы вышли за его пределы и добрались до лесов, где и присоединились к группе польских партизан.
– И что было потом?
– Поляки не хотели, чтобы среди них были евреи. Нас предали. Мы попали в руки гестапо и были отправлены в Ядвигу.
– Можете ли вы продолжать рассказ? И, пожалуйста, говорите погромче.
Даниэль Дубровский опустил голову и всхлипнул. Зал суда застыл в молчании, и репортер записал: «Свидетель не в силах совладать с волнением». Гилрой предложил объявить перерыв, но Дубровский лишь молча покачал головой, справившись с охватившими его чувствами.
– Не будет ли мой ученый коллега и ваша честь возражать, если мы избавим мистера Дубровского от необходимости излагать детали гибели его жены и дочерей?
– Не возражаю.
– Могу ли я предложить свидетелю изложение хода событий?
– Не возражаю.
– Правильно ли я передаю, что дальше случилось с вами? В конце лета 1943 года с военного завода вас перевели в третий барак, после чего подвергли облучению в пятом бараке вместе с той же группой, в которой был предыдущий свидетель, и изъяли у вас яичко.
– Да, – прошептал он, все совершенно правильно.
– И при операции присутствовал доктор Тесслар, который позднее выхаживал вас.
– Да.
– Через три месяца после первой операции, вы и Моше Бар-Тов, который был тогда известен под именем Германа Паара, были вторично подвергнуты облучению.
– Да.
– Из показаний мистера Бар-Това мы можем сделать вывод, что в первый раз он не был полностью стерилизован, в силу чего полковник Восс хотел второй раз подвергнуть вас облучению, и, может быть, вы тоже не были тогда стерилизованы до конца. Дольше ли длилось второе облучение?
– Примерно такое же время, но я слышал, как они говорили о большей интенсивности.
– Можете ли рассказать милорду и суду, что последовало потом?
– После второго облучения у нас не осталось сомнений, что это только вопрос времени, когда нас снова прооперируют и мы окончательно станем евнухами. Менно Донкер, – сказал он, имея в виду Питера ван Дамма, – уже был полностью кастрирован, и мы ждали, что нас постигнет та же участь. Как-то утром рядом с нами умер сосед по бараку, и доктор Тесслар подошел ко мне поговорить – есть возможность подкупить капо, который выпишет фальшивое свидетельство о смерти. Имелось в виду, что в него будет вписан или Герман Паар, или я. Потому что мы оба ждали второй операции. И я решил, что спасти нужно Паара. Он моложе меня, и у него был шанс выжить. А я уже пожил, и у меня была семья.
– Таким образом, Паар был записан как умерший и никогда не подвергался второй операции, как довелось вам. Паар знал об этом вашем решении?
Дубровский пожал плечами.
– Прошу прощения, – сказал судья Гилрой,– но стенографист не может записать, что означает этот жест.
– Он был всего лишь мальчиком. Я никогда не говорил с ним на эту тему. Я считал, что, как человек, я должен так поступить.
– Можете ли рассказать нам о второй операции?
– На этот раз на меня набросились четверо эсэсовцев. Меня избили, связали, заткнули кляпом рот, после чего поволокли в пятый барак. У меня вытащили кляп изо рта, когда я уже почти задохнулся. Они стянули с меня штаны и вогнали иглу в спину. Хотя я был связан, но продолжал бороться, а тут закричал и упал на пол.
– Что случилось?
– Сломалась игла.
Большая часть участников процесса уже не могла сдерживать тошнотные спазмы. Глаза присутствующих обращались к Адаму Кельно гораздо чаще, чем ему хотелось, и он стал избегать смотреть в зал.
– Продолжайте, сэр.
– Я скорчился на полу. Затем услышал, как кто-то у меня над головой говорит по-польски. По его внешнему виду и голосу я понял, что это тот самый врач, который оперировал меня в первый раз. Он был в длинном халате, и лицо его закрывала хирургическая маска; он стал возмущаться, что ему приходится ждать пациента. Плача, я обратился к нему...
– И что он сделал?
– Он ткнул мне пяткой в лицо и обругал по-польски.
– Что он сказал?
– «Przestan szezekat jak pies itak itak mrzesz».
– И что это значит?
– Перестань гавкать, как пес. Так и так сдохнешь.
– Что произошло затем?
– Мне сделали другой укол и положили на носилки. Из последних сил я молил больше не оперировать меня. Я сказал: «Dlaczego mnie operujecie jeszcze raz prziciez juzescie mnie ras operowali». Почему вы хотите снова меня оперировать? Меня уже оперировали! Но он продолжал все так же грубо и жестоко обращаться со мной.
– В Ядвиге было принято говорить по-немецки?
– Всегда и всюду.
– Но вы были поляк, как и этот врач.
– Не совсем. Я был евреем.
– С каких пор ваша семья считалась гражданами Польши?
– Примерно тысячу лет.
– Предполагали ли вы, что врач-поляк ответит вам подобным образом?
– Во всяком случае, я не удивился. Едва только я услышал его, как понял, что имею дело с поляком-антисемитом.
– Я вынужден обратиться к присяжным, – вмешался Гилрой, – с просьбой не обращать внимания на последнюю фразу. Вы хотели бы оставить ее без комментариев, мистер Баннистер?
– Да, милорд. Продолжайте, мистер Дубровский, – Вошел Восс в эсэсовской форме, и я обратился к нему. Врач теперь говорил со мной по-немецки. Он сказал: «Ruhig».
– Вы свободно владеете немецким?
– В концлагере пришлось узнать много немецких слов.
– Что он имел в виду, говоря вам «Ruhig»?
– Заткнись.
– Я вынужден вмешаться, – сказал сэр Роберт.– Данные показания полны необоснованных намеков, что лицом, которое проводило операцию, был доктор Кельно. На этот раз мой досточтимый коллега даже не предполагает, что им мог быть доктор Тесслар, исходя лишь из того, что, по мнению свидетеля, тот же Врач оперировал его и раньше. Это предположение получает свое подтверждение только благодаря тому, что разговор велся на польском языке. И я предполагаю, что нам пришлось столкнуться с более чем вольным переводом. Например, слово «ruhig» употребляется в поэме Гейне «Лорелея» в значении «спокойно». Спокойные струи Рейна. Если бы он хотел сказать «заткнись», то, скорее всего, употребил бы выражение «halte maul».
– Я приму во внимание вашу точку зрения, сэр Роберт. Я вижу, что сегодня доктор Либерман занял место среди присутствующих в зале. Будьте любезны подойти сюда и не забывайте, что вы все еще находитесь под присягой. Немецкий – ваш родной язык, не так ли, доктор Либерман?
– Да.
– Как бы вы перевели слово «ruhig»?
– В данном контексте оно звучит как требование заткнуться. Любой, кто пережил концентрационный лагерь, может это подтвердить.
– Чем вы занимаетесь сейчас, мистер Дубровский?
– У меня склад готовой одежды в негритянском районе Кливленда.
– Но вы по-прежнему считаете себя преподавателем романских языков?
– У меня не осталось никаких желаний. Может быть, дело в том... почему я и пошел на вторую операцию вместо Паара... я почувствовал, что все во мне омертвело, когда мне довелось расстаться с женой и дочерьми.
Моше Бар-Тов был вынужден выйти в соседнее помещение, и, пока Дубровский подвергался перекрестному допросу, доктору Либерману и Абрахаму Кэди также пришлось покинуть зал суда. Бар-Тов в первый раз услышал о жертве, которую ради него принес другой человек.
– О Боже мой, – сотрясался он в рыданиях; он колотил кулаками в стену, не в силах сдержать слез. Немного погодя открылась дверь и вошел Даниэль Дубровский. Моше Бар-Тов повернулся к нему.
– Я думаю, что нам лучше оставить их наедине,– сказал Эйб.
20
Они все уезжают, кроме Хелены Принц, женщины из Антверпена. С ней постоянно находится доктор Сюзанна Парментье, так что за Принц можно не волноваться.
Они возвращаются в Израиль, Голландию и Триест. Мне будет чертовски не хватать доброго и спокойного доктора Либермана.
Моше Бар-Тов не может прийти в себя от потрясения во время процесса. Он пригласил Даниэля Дубровского к себе в киббутц, чтобы отблагодарить его там всей своей любовью и оплакать жертву, которую ради него принес этот человек.
Я чувствовал себя полностью опустошенным, расставаясь с ними. Прощальный обед, тосты, маленькие подарки на память и потоки слез. То, что они тут совершили, потребовало от них такого мужества, истоки которого я просто не могу понять, но знаю, что оно дало им возможность оставить свои имена в истории.
Тяжелее всего переносит расставание с ними Шейла Лем. С момента их приезда она взяла на себя обязанность сопровождать их всюду, чтобы они ни на секунду не чувствовали себя одинокими и заброшенными.
Она присутствовала при медицинском освидетельствовании женщин. Увидев их шрамы, она ничем не позволила себе проявить охватившие ее чувства.
На прощальном обеде д леди Сары Шейла внезапно выскочила из-за стола и помчалась в ванную, где и разразилась слезами. Женщины поспешили за ней. Она соврала им, что у нее вот-вот начнется менструация. Так как ни у кого из них этого уже не было, все пришли в восторг, а потом расхохотались.
Я не мог позволить себе отправиться в Хитроу, чтобы проводить их в дальнюю дорогу. Я и сам не знал почему.
Мы с Беном бесконечно прогуливались вдоль набережной Темзы, словно нас ждала разлука навечно, пытаясь понять и осмыслить все, что с нами происходило. Мы долго бродили по широким газонам Темпла.
Был уже час ночи, но в окне кабинета Томаса Баннистера и Брендона О'Коннора по-прежнему горел свет. Хотите знать, что представляли собой эти люди? За две недели, прошедших с начала процесса, О'Коннор ни одного вечера не провел со своей семьей. Он снял небольшой номер в соседнем отеле, где мог работать сутками напролет. И частенько ему доводилось засыпать на диване в своем кабинете.
Каждый день по окончании заседаний Шейла расшифровывала записи и доставляла их в Темпл. Баннистер, О'Коннор и Александер тщательно изучали их, готовясь к следующему дню процесса, встречаясь каждый вечер в одиннадцать часов и нередко засиживаясь до двух или трех ночи. Уик-энды они воспринимали как дар небес, потому что могли работать круглые сутки.
А Шейла? Ее день начинался с семи утра в отеле, где разместились свидетели. Она завтракала с ними, успокаивала перед предстоящим заседанием, работала в суде, записывая показания, обедала с ними и водила их по театрам, музеям и по нашим приемам и обедам для них, а по уик-эндам вывозила на природу. Она проводила с ними все вечера, успокаивая их и даже выпивая с теми, кто нуждался в ее компании. На моих глазах страдания, разделяемые ею, оставляли морщинки на ее лице.
Мы с Беном миновали Темпл и остановились перед Дворцом Правосудия. Я не скрывал, что люблю англичан. И я не мог себе представить, что эти люди способны выступить против меня.
Взгляните только на эти очереди, которые порой можно увидеть на Оксфорд-стрит. Ни давки, ни толкотни. Сорок миллионов людей живут бок о бок в таких ужасных погодных условиях, что скандинавы, например, просто сошли бы с ума. И при всем при этом существующий порядок обеспечивается уважением к ближнему, и жизнь англичан исполнена врожденного благородства.
Достаточно взглянуть на то спокойствие, с которым они воспринимают выходки молодого поколения. Все берет начало тут, в Англии. Мужчины с аккуратными усиками в полосатых сюртуках, в котелках и с зонтиками под мышкой, спокойно и невозмутимо стоят в очереди рядом с размалеванными девицами в мини-юбках, едва прикрывающих их зад, и рядом с молодыми людьми, которые смахивают на девушек.
Полицейский, проходящий мимо, легким движением подносит палец к шлему, приветствуя их. Оружия у него нет. Можете ли вы представить себе нечто подобное на улице Чикаго?
Даже протестующие демонстранты соблюдают неписаные правила. Их возмущение носит подчеркнуто ненасильственный характер. Они не бьют стекол и не поджигают зданий. Протест их гневен, но выражается по правилам, и, в свою очередь, полиция не применяет к ним силу.
Нет, ни один английский суд присяжных не осудит меня.
Вернувшись в свой бывший каретный сарай, Бен с отцом были готовы проговорить всю ночь.
– Что ты думаешь о Ванессе и Иосси? Может ли этот парень сделать ее счастливой?
– Он офицер парашютных войск, – сказал Бен. – Всю жизнь он провел в Израиле, прижатый спиной к морю. Ты видишь, что он несколько грубоват, И я думаю, что эта поездка пойдет ему на пользу.
Ему было очень полезно увидеть, что существуют и вежливые, спокойные и умные люди. Он старается не показывать этого, но Лондон произвел на него глубокое впечатление. А теперь, когда его глазам многое открылось, Ванесса отшлифует его.
– Надеюсь. Во всяком случае, у него есть голова на плечах. – Эйб наполнил стакан. Бен прикрыл ладонью свой, давая понять, что больше не хочет пить. – В Израиле ты приобрел плохие привычки.
Например, склонность к воздержанию.
Бен засмеялся. Смех у него был громким и искренним. Он хохотал от души. Затем он снова посерьезнел.
– И мне, и Винни не нравится, что ты ведешь столь одинокую жизнь.
Эйб пожал плечами.
– Я писатель. Я буду чувствовать одиночество и посреди веселящейся толпы. Такова уж моя судьба.
– Может быть, ты не был бы столь одинок, если бы попробовал посмотреть на такую женщину, как леди Сара, так же, как она смотрит на тебя.
– Не знаю, сынок. Мне кажется, что твой дядя Бен и я были отлиты в одной форме, из одного и того же сплава. Никто из нас не мог выносить общение с женщиной больше пятнадцати минут. С ними хорошо лишь заниматься любовью, но мало какая женщина может сгодиться на что-то еще. Наша беда в том, что мы хорошо чувствуем себя лишь в мужском обществе. Аэродромы, спортивные раздевалки, бары, клубы, где не приходится слышать женскую болтовню. И даже когда встречаешь такую женщину, как леди Сара Уайдмен, которая настолько совершенна, насколько может быть совершенна женщина, – даже она тебя не устраивает. Она не может быть одновременно и мужчиной, и женщиной. Но если даже она понимает, что. от нее требуется, не думаю, чтобы какая-то женщина вынесла тяготы положения жены писателя. Я испортил жизнь твоей матери. Если женщина готова что-то отдать, я могу опустошить ее. Я счастлив, что мне выпала стезя писателя, но не хотел бы, чтобы моя дочь вышла за него замуж.
Вздохнув, Эйб отвел глаза от сына, мучаясь необходимостью спросить то, что весь день терзало его.
– Я видел тебя и Иосси в компании военного атташе израильского посольства.
– Положение дел оставляет желать лучшего, папа, – сказал Бен.
– Черт бы побрал этих русских, – сказал Эйб.– Сукины дети. Они вечно разжигают страсти. Ради Бога, когда же нас оставят в покое?
– Лишь на небесах, – прошептал Бен,
– Бен... послушай меня. Сынок... ради Бога... не горячись в воздухе.
21
Абрахам Кэди и его сын, с красными после прошедшей ночи глазами, вошли в помещение суда. Мужской туалет размещался между двумя совещательными комнатами. Эйб направился к писсуару. Почувствовав, что кто-то стоит у него за спиной, он глянул из-за плеча. Это был Адам Кельно.
– До этой пары еврейских яиц ты так и не добрался, – сказал Кэди.
– Замолчите!
Хелена Принц, миниатюрная женщина в изящном платье, вошла в зал суда с уверенностью; которой не отличались другие женщины. Хотя, вне всяких сомнений, она была лидером среди них, но Шейла чувствовала, что Хелена на грани нервного срыва.
С помощью переводчика с французского она сообщила, что родом из Антверпена, родилась в 1922 году, и зачитала вытатуированный у нее на руке номер. Такая процедура проходила в суде уже несколько раз, но она не переставала оказывать воздействие на тех, кто был ее свидетелями.
– Вы продолжали носить свою девичью фамилию Бланк-Имбер даже после того, как в начале войны вышли замуж, – вы и ваша сестра Тина.
– Ну, на самом деле замуж мы не выходили. Видите ли, немцы высылали женатые пары, и мужа и жену, так что мы с сестрой свершили брачные обряды при раввинах втайне, но официально мы не были зарегистрированы. Наши мужья были уничтожены в Аушвице. И после войны я вышла замуж за Пьера Принца.
– Могу ли я предложить свидетелю выслушать и оценить последовательность событий? – спросил Баннистер.
– Не возражаю.
– Весной 1943 года вас с сестрой Тиной отправили в третий барак, где подвергли облучению. Это же, как теперь совершенно ясно, было произведено и по отношению к другим парам близнецов, сестрам Ловино и Кардозо из Триеста.
– Совершенно верно. Нас облучили и прооперировали как раз перед тем, как в бараке появились другие пары близнецов.
– В то время вами занималась женщина-врач, полька Габриела Радницки. Она покончила с собой, и ее место заняла доктор Мария Вискова?
– Верно.
– Итак, примерно через месяц после облучения вас отправили в пятый барак. Не можете ли рассказать нам, что дальше происходило с вами?
– Нас осмотрел доктор Борис Дымшиц.
– Откуда вы узнали, что это был именно Дымшиц? – Он представился.
– Помните ли вы, как он выглядел?
– Он был очень старым, слабым и рассеянным. Я помню, что его руки были покрыты струпьями экземы.
– Продолжайте, пожалуйста.
– Он отправил меня с Тиной обратно в третий барак. Он сказал, что мы в таком плохом состоянии после облучения, что нас нельзя оперировать.
– Кто-нибудь еще присутствовал при этом?
– Восс.
– Протестовал ли Восс? Требовал ли он, чтобы вас прооперировали в любом случае?
– Он злился, но ничего не сделал. Через две недели темные пятна исчезли, и нас снова забрали в пятый барак. Доктор Дымшиц сказал, что ему придется оперировать нас, и пообещал, что оставит здоровый яичник. Я получила укол в руку и впала в дремотное состояние. Затем, помню, меня на каталке доставили в операционную, после чего я погрузилась в сон.
– Вы знали, какого рода анестезию к вам применяли?
– Хлороформ.
– Как долго после операции вы оставались в лежачем состоянии?
– Много, много недель. У меня были осложнения. Доктор Дымшиц часто навещал нас, но в полутьме, стоящей в бараке, он почти ничего не видел. А потом он исчез.
– И вы слышали, что его отправили в газовую камеру?
– Да.
– И доктор Радницки покончила с собой.
– Да, в бараке.
– И ближе к концу года, после того как в бараке оказались сестры Ловино и Кардозо, вас снова подвергли облучению.
– На этот раз мы с Тиной пробовали сопротивляться.
Она описала сцену бедлама в предоперационной пятого барака.
– Я дралась изо всех сил. Мы с Тиной сопротивлялись тому, чтобы нас разделили, но они скрутили меня и сделали укол в спину. Но даже после него нижняя часть тела не потеряла чувствительности. Я по-прежнему все чувствовала.
– То есть укол не оказал воздействия?
– Нет.
– И когда вас доставили в операционную, вам не давали наркоза, не так ли?
– Я была в ужасе. Я все чувствовала и сказала им об этом. Я. попыталась сесть и спрыгнуть со стола. Двое закрутили мне руки и опрокинули спиной на стол. Доктор несколько раз ударил меня по лицу и рявкнул на меня: «Verlichte Judin... проклятая еврейка!» Я молила его убить меня, потому что не могла выносить эту боль. Я выжила только благодаря доктору Тесслару.
– Вы были в плохом состоянии после операции?
– Я вся горела от жара и чувствовала, что схожу с ума. Сквозь бред до меня доносились рыдания Тины... а потом я ничего не помню. Я не знаю, сколько прошло времени, пока снова начала все воспринимать. Может, прошло несколько дней. Я спросила, где Тина, и доктор Вискова сказала мне, что Тина в первую же ночь умерла от кровотечения.
Качнувшись на месте, она ударила кулаками по перильцам возвышения. Потом внезапно вскочила на ноги и, повернувшись, ткнула пальцем в доктора Кельно.
– Убийца! Убийца! – вырвался у нее мучительный стон.
Эйб рванулся по проходу, отбрасывая людей, попадавшихся ему на пути. Миновав места для прессы, он обхватил Хелену Принц руками.
– Я забираю ее отсюда, – сказал он.
Пристав взглянул на судью, который сделал ему знак оставить их в покое, и Эйб почти на руках вынес из зала суда рыдающую женщину.
Гилрой хотел сказать несколько слов присяжным относительно того, что данную сцену не стоит принимать во внимание, но он не смог этого сделать.
– Хотите ли вы подвергнуть свидетельницу перекрестному допросу, сэр Роберт?
– Нет. Она настолько расстроена, что не в состоянии вынести его.
– Члены суда видели и слышали то, что происходило у них перед глазами, – заметил судья. – И не смогут забыть этого. Леди и джентльмены, – усталым голосом обратился он к присяжным, – иного поступка, нежели тот, который сделал сэр Роберт, и нельзя было ждать от английского юриста. И когда позже я буду подводить Перед вами итоги представленным доказательствам, я попрошу вас не забывать, что данную свидетельницу не подвергали перекрестному допросу. Не объявить ли нам перерыв?
22
– Я хотел бы пригласить на свидетельское место сэра Бэзила Марвика, – известил Брендон О'Коннор.
Внешний вид и поведение Марвика выдавали в нем типичного англичанина, приверженца традиций. Он принес присягу на Новом Завете, назвал себя и сообщил, что живет на Уимпол-стрит. Суду было доложено, что ан давно считается видным анестезиологом, преподавателем и автором многочисленных трудов, которые выходят в свет вот уже четверть века.
– Будьте любезны объяснить милорду и суду присяжных, что представляют собой два основных вида наркоза.
– Существует общий наркоз, при котором пациент находится полностью в бессознательном состоянии, и местный, при котором подвергается обезболиванию только та часть тела, на которой предстоит оперировать.
– И определяет, к какому наркозу прибегнуть, конечно, сам хирург. Если же при нем нет анестезиолога, он сам может провести обезболивание.
– Да. В случае необходимости он может прибегнуть к комбинации этих двух видов наркоза.
– Какие средства использовались для общего наркоза в начале сороковых годов в Центральной и Восточной Европе?
– 3фир, этилхлорид, хлороформ, эвипал, закись азота, смешанная с кислородом, и другие.
– Я вынужден вмешаться, – сказал Хайсмит.– Мы слышали свидетельства двух хирургов из Ядвиги, что общий наркоз там, как правило, не применялся.
– О чем у нас и идет речь, – отпарировал О'Коннор.
– Понимаю, – пробормотал Гилрой. – Вы предполагаете, что в Ядвиге вполне могли давать общий наркоз.
– Из показаний свидетелей доктора Кельно мы убедились, что они были полностью в бессознательном состоянии, – сказал О'Коннор. – Вы слышали рассказ миссис Принц, что во время первой операции, которую проводил доктор Дымшиц, она была под общим наркозом. И я мог предположить, что доктор Кельно не считал нужным прибегать к общему наркозу лишь в тех случаях, когда перед ним на операционном столе оказывался еврейский пациент.
– Мистер О'Коннор, я разрешаю вам продолжать допрос свидетеля, но должен вас предупредить, что вы ступаете на опасную почву. И советую членам суда, пока данная точка зрения не получит убедительного подтверждения, относиться к показаниям доктора Марвика по этому вопросу с большой осторожностью.
Не тратя времени на высказывание благодарности в адрес судьи, О'Коннор немедля ринулся дальше.
– Значит, некоторые обезболивающие препараты используются при кратких операциях, а другие – если операция длится достаточно долго.
– Да, по выбору хирурга.
– Вы говорили нам, какие обезболивающие средства применялись в этой части Европы в сороковых годах. Не скажете ли нам, какие средства использовались для местного обезболивания?
– Прокаин, известный также под названием новокаина, который большей частью применяли зубные врачи. Затем, насколько мне помнится, перкаин, понтокаин, а также дикаин и другие.
– Все использовались при пункциях?
– Да. При введении их в спинномозговой канал соответствующие нервные отростки теряли чувствительность или омертвлялись.
– Как это делалось?
– Ну, сам я на практике старался свести к минимуму чувство дискомфорта у пациента. Перед пункцией я предварительно обезболивал данный участок при помощи очень тонкой иглы, и, когда соответствующее место теряло чувствительность, я прибегал к более длинной игле, чтобы проникнуть сквозь хрящевую ткань.
– Вернемся опять в сороковые годы. Можно ли считать привычной практикой в Польше, что пациенту перед пункцией предварительно делали укол с местным обезболиванием?
– Вне всякого сомнения. Об этом говорится во всех руководствах и в те дни, и сейчас.
– Вы слышали или читали показания четырех женщин и шести мужчин, которые были жертвами экспериментов в Ядвиге. Доведись вам в то время проводить такие операции, прибегали бы вы к предварительной инъекции морфия?
– Должен возразить, Я никогда не позволил бы себе принимать участие в такого рода действиях. Не знаю. Во всяком случае, ситуация требовала использования морфия.
– Благодарю вас. Какой вид наркоза, общий или местный, предпочитали вы во время операций?
– Ваша честь, – вмешался Хайсмит, – мы снова возвращаемся к тому же. Мой клиент уже показал, что, когда он делал спинномозговое обезболивание, он прибегал к морфию, делая предварительный укол.
– Что опровергают некоторые свидетели, – сказал О'Коннор.
– Но суду так и не представлено доказательств, что подобные операции проводил именно доктор Кельно, – возразил Хайсмит.
– В этом-то все и дело, – ответил 0'Коннор.– Все десять наших свидетелей подтверждают, что доктор Тесслар находился в операционной. И вас беспокоит заявление доктора Тесслара и то, что он готов показать в суде.
– Я вынужден снова напомнить вам, – сказал Гилрой, – что члены суда воспринимают все сказанное лишь как предположения экспертов, которые, несмотря на всю свою основательность, пока не имеют доказательной силы. Когда я буду давать инструкции, , я уточню, какие свидетельства следует принимать во внимание, решая вопрос, проводил ли доктор Кельно эти операции или нет.
– Итак, можете ли вы сказать, – продолжал настаивать О'Коннор, обращаясь к свидетелю, – что вы прибегли бы к общему наркозу?
– Да.
– А не к спинномозговому обезболиванию?
– Нет.
– Почему вы предпочли бы общий наркоз?
– Из соображений гуманности
– Болезненна ли пункция без предварительного укола?
– Исключительно болезненна.
– Сколько пункций довелось вам сделать?
– От полутора до двух тысяч.
– И, как правило, ввести длинную иглу удается без труда.
– Нет, эта процедура требует особой тщательности.
– Можете ли вы сделать пункцию, если пациент кричит и вырывается?
– Конечно, нет.
– Почему?
– Иглу надо вводить с предельной точностью. Она вводится в проем между двумя позвонками, который очень узок. Пациент должен неподвижно сидеть с выгнутой спиной, и иглу следует вводить точно по срединной линии. И врач просто бессилен что-то сделать, если пациент не помогает ему. Я бы сказал даже, что в таком случае процедура не представляется возможной. Видите ли, любое резкое движение пациента ведет к риску сломать иглу.
– Вы слышали в ходе показаний, что однажды игла в самом деле сломалась. Что происходит в таком случае?
– Если она сломалась, будучи введенной достаточно глубоко, то это очень опасно. И если ее не удастся извлечь, возникают непрестанные боли. Они могут стать невыносимыми. Конечно, если игла сломалась, едва только войдя в кожный покров, ее удастся извлечь.
– Вы слышали или читали показания, что некоторые из свидетелей и по сей день испытывают боли?
– Учитывая, какому обращению они подвергались, я склонен думать,– что так оно и есть.
– Захватили ли вы с собой в суд образцы игл, которые употреблялись в сороковые годы?
Поставив перед собой небольшой саквояж, Марвик извлек из него тоненькую иглу для предварительных инъекций, а потом иглу побольше. В виде доказательств иглы были продемонстрированы членам суда, реакцию которых нетрудно было видеть по выражениям их лиц, когда иглы переходили из рук в руки.
– Итак, спинномозговое обезболивание приводит к тому, что нижняя часть тела теряет чувствительность?
– Да. Если же потеря чувствительности доходит, скажем, до срединной линии тела, это приводит к резкому падению кровяного давления, когда мозг перестает снабжаться кислородом, в результате чего пациент может почувствовать головокружение и потерять сознание.
– Вы слышали показания мистера Бар-Това, как он впал в полубессознательное состояние. Вас это не удивило?
– Нет, насколько это явствует из его показаний.
– Всегда ли при хирургических вмешательствах дается морфий?
– Всегда.
– Можете ли вы представить себе ситуацию, при которой люди, получившие укол морфия, по очереди ждут операции?
– Конечно, нет.
– А если они в плохом физическом состоянии и подавлены грубым обращением, не будет ли морфий оказывать на них более сильного воздействия?
– Он в самом деле может практически полностью обезболить их.
– И, находясь под воздействием морфия, им будет трудно сопротивляться?
– Они, конечно, могут сделать такие попытки, но безрезультатно.








