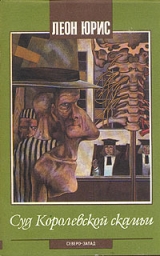
Текст книги "Суд королевской скамьи"
Автор книги: Леон Юрис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Как в результате вы себя чувствовали?
– Меня страшно мутило и рвало дня три без перерыва. На мошонке появились какие-то темные пятна.
– Сколько времени вы оставались в третьем бараке?
– Несколько недель.
– Вы точно знали, что ваших друзей постигла такая же участь?
– Да, и многих других в бараке.
– Вы говорите, что были серьезно больны. Кто ухаживал за вами?
– Доктор Тесслар. В бараке было много голландцев, и ему помогал один человек из заключенных, тоже голландец. Его звали, насколько я помню, Менно Донкер.
– Сколько времени вы провели в третьем бараке, прежде чем вас снова забрали из него?
– Должно быть, до ноября.
– Почему вы так думаете?
– Я припоминаю разговоры, что по всей Польше ликвидируются гетто, и в Ядвигу-Западную стали прибывать сотни тысяч людей. Наплыв их был столь мощным, что машина уничтожения не могла перемолоть всех. За стенами нашего барака все время шли расстрелы, и мы постоянно слышали выстрелы и крики.
– Не можете ли вы рассказать милорду и присяжным, как вас перевели из третьего барака?
– Пришли эсэсовцы и забрали шестерых из нас, которых облучали в один и тот же день. Они забрали и поляка, какого-то старика, и Менно Донкера.
– Донкер тоже подвергался облучению?
– Нет, и меня удивило, что его тоже забрали. Это я помню.
– Продолжайте, пожалуйста.
– Нас погнали в пятый барак, всех восьмерых. И еще шесть женщин с первого этажа. Там было какое-то сумасшествие. Всех раздевали догола, скручивали по рукам и ногам и держали, пока делали уколы.
– Сколько уколов вы получили?
– Только один, в спину.
– Как это происходило и где?
– В комнате, где все мы ждали. Огромный капо заломил мне руки за спину, так что я ничего не мог сделать, другой пригнул мне голову к коленям, а третий вогнал иглу в позвоночник.
– Это было больно?
– После того, что со мной сделали, боль меня уже не волновала. Я потерял сознание.
– И когда вы пришли в себя?
– Открыв глаза, я увидел рефлектор лампы над головой. Я попытался пошевелиться, но нижняя часть совершенно омертвела, и, кроме того, я был привязан к столу. Надо мной склонились несколько человек. Я знал только одного из них, Восса. Другой в белом халате и в маске держал пинцетом мое яичко, показывая его Воссу. Он бросил его на поднос, и я помню, что он прочитал номер у меня на руке и написал его на ярлычке, привязанном к подносу. Я начал плакать. И тогда я увидел доктора Тесслара, который сидел рядом и успокаивал меня.,
– И вас вернули в третий барак?
– Да.
– В каком же вы были состоянии?
– Все мы были поражены инфекциями. Хуже всего было Менно Донкеру, потому что у него изъяли оба яичка. Помню, что в первую же ночь забрали одного из ребят, Бернарда Холста. Позже я слышал, что он умер.
– Спустя некоторое время вас освободили из этого барака?
– Нет. Я продолжал оставаться в нем. Потом нас вернули в пятый барак и снова облучали.
– Вам пришлось пережить и вторую операцию?
– Нет, меня спас доктор Тесслар. В бараке кто-то скончался. Он заплатил капо, чтобы в свидетельстве о смерти было написано мое имя. Мне пришлось взять себе имя умершего, под которым я и жил, пока нас не освободили.
– Мистер Бар-Тов, у вас есть дети?
– Четверо. Двое мальчиков и две девочки.
– Приемные?
– Нет, все они мои собственные.
– Прошу простить за следующий вопрос, но он очень важен и ни в коей мере не ставит себе целью вмешиваться в ваши отношения с женой. Вас обследовали в Израиле на предмет потенции?
Бар-Тов ухмыльнулся.
– Потенция еще та. Детей у меня хватает.
Даже судья Гилрой не мог сдержать смешок, но потом, нахмурив брови, восстановил тишину.
– То есть, несмотря на то, что оба ваших яичка подвергались жесткому облучению, вы не были полностью стерилизованы?
– Совершенно верно.
– И тот, кто извлекал у вас яичко, изъял здоровый орган, а не пораженный?
– Да.
– Вопросов больше не имею.
Встав, сэр Роберт Хайсмит быстро обдумал ситуацию. Перед судом предстала третья жертва экспериментов. Можно предположить, что Баннистер приберегает основной удар на потом. Но вокруг Кельно уже сплеталась паутина косвенных обвинений, в основном связанных с именем Марка Тесслара.
Наконец Хайсмит приступил к делу.
– Мистер Бар-Тов, вам, в сущности, было шестнадцать лет, когда вы оказались в Ядвиге, так?
– Шестнадцать или семнадцать...
– Вы утверждали, что вам было семнадцать, но на самом деле шестнадцать. Это было очень давно, двадцать лет назад. И многое трудно припомнить, не так ли?
– Кое-что я в самом деле забыл. Но есть и то, что я никогда не забуду.
– Да. Вы освежили в памяти то, что вам довелось забыть, не так ли?
– Освежил?
– Приходилось ли вам раньше давать показания или заявления?
– В конце войны я сделал в Хайфе заявление.
– И вплоть до последних месяцев в Израиле вы больше не делали никаких заявлений?
– Это верно.
– Если не считать юриста, которому вы представили свои показания на иврите?
– Да.
– И по прибытии в Лондон вы оказались в компании других юристов и доктора Либермана и снова прошлись по тому, что говорили в Израиле?
– Да.
– И вы значительно освежили свои воспоминания?
– Мы уточнили ряд пунктов.
– Я вижу. Относительно морфия... то есть предварительного укола. Вы говорили на эту тему?
– Да.
– Я могу предположить, что вы потеряли сознание не из-за болезненной пункции, а потому, что в третьем бараке вам сделали укол морфия, который оказал воздействие тогда, когда вы оказались в пятом бараке.
– Никаких других уколов я не припоминаю.
– И так как во время операции вы были без сознания, вы не можете говорить ни о, жестокости, ни вообще о ходе операции.
– Я так и сказал, что был без сознания.
– И, конечно, вы не можете опознать доктора Кельно, а также других хирургов или человека, который брал у вас сперму?
– Опознать их я не могу.
– Наверно, вы видели в газетах снимки доктора Лотаки. Можете ли вы опознать его?
– Нет.
– Итак, мистер Бар-Тов, вы испытываете большую благодарность к доктору Тесслару, не так ли?
– Я обязан ему жизнью.
– Случалось, что в концлагере люди спасали жизнь друг другу. Вы знаете, что на счету доктора Кельно тоже есть спасенные жизни, не так ли?
– Я слышал.
– Продолжали ли вы поддерживать связь с доктором Тессларом после освобождения?
– Мы потеряли контакт с ним.
– Понимаю. Но вы виделись с ним, оказавшись в Лондоне?
– Да.
– Когда?
– Четыре дня назад в Оксфорде.
– Ясно.
– Как старые друзья, мы должны были встретиться с ним.
– Доктор Тесслар имеет на вас большое влияние.
– Он был для нас настоящим отцом.
– Вы были тогда совсем молоды, способность к запоминанию еще не закрепилась, и вы могли забыть какие-то вещи.
– Кое что я никогда не забуду. Вам когда-нибудь загоняли деревянную палку в задницу, сэр Хайсмит?
– Минутку, – вмешался Гилрой. – Вопросы тут задают вам.
– Когда вы впервые услышали имя Кельно?
– В третьем бараке, когда нас туда доставили.
– Кто называл его?
– Доктор Тесслар.
– И недавно в Лондоне вам был,показан полный план пятого барака.
– Да.
– Чтобы расположение помещений четко отпечаталось у вас в памяти.
– Да.
– Потому что вы не помнили в точности, в каком из его помещений вы находились в то время. Так мне кажется. Вам показывали фотографии Восса?
– Да.
– А теперь скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в киббутце?
– Я занимаюсь изучением рынка и доставкой грузов вместе с другими членами киббутца.
– А до этого?
– Много лет я был водителем трактора.
– В вашей долине очень жарко. Трудно ли работать?
– Да, жарко.
– И вы служили в армии?
– Я был на двух войнах.
– И вы по-прежнему каждый год исполняете воинскую обязанность.
– Да.
– И учитывая, что у вас четверо детей, можно предположить, что операция не нанесла большого урона вашему здоровью.
– Господь Бог проявил ко мне благосклонность. Больше, чем к другим.
Баннистер предпринял мощное наступление по всему фронту, в чем ему способствовали еще трое мужчин – голландец и два израильтянина, – которые были с Бар-Товом в ту ноябрьскую ночь. Поскольку каждая деталь их рассказов была неоднократно выслушана вне зала суда, в их показаниях встречалось все меньше расхождений. Все они свидетельствовали, что доктор Тесслар присутствовал в операционной и, когда их сила духа слабела, он оказывался рядом. Разница заключалась лишь в том, что у них не было своих детей, в отличие от счастливчика Бар-Това.
После того, как третий из них завершил свои показания, Баннистер пригласил на свидетельское место бывшего голландца, который некогда носил имя Эдгара Биитса, а ныне был известен под именем профессора Шалома из Еврейского университета.
Хайсмит внезапно почувствовал изнеможение от этой утомительной борьбы. Он поручил перекрестный допрос Шалома своему молодому помощнику Честеру Диксу.
В очередной раз профессор Шалом. восстановил последовательность событий, но его показания были на редкость четкими и ясными. Когда Дикс закончил задавать ему вопросы, поднялся Баннистер.
– Прежде чем данный свидетель покинет трибуну, я вынужден обратить ваше внимание, что мой ученый друг предпочел не задавать свидетелю некоторых вопросов, касающихся роли истца в данных событиях, и, что еще более важно, он не уточнил у свидетеля, был ли в операционном зале доктор Тесслар. И я хотел бы обратить внимание вашей чести, что никто из моих досточтимых коллег не высказал сомнений в правдивости показаний свидетелей.
– Да, я понимаю, что вы имеете в виду, – сказал судья. – Итак, что вы скажете, мистер Дикс? – Он наклонился вперед. – Я полагаю, суду присяжных хотелось бы знать, давали ли свидетели просто волю своему воображению, выдумывая все, что мы тут слышали, или же они говорили совершенно искренне, и на эти показания вполне можно положиться. Итак, каково ваше мнение, мистер Дикс?
– Я не думаю, что они были абсолютно точны,– ответил Дикс, – учитывая те сложные обстоятельства, в которых они находились.
– Но вы же не предполагаете, – сказал Гилрой, – что все, рассказанное ими, – сплошная ложь?
– Нет, милорд.
Общепринято, продолжал настаивать Баннистер, – подвергать сомнению показания свидетеля, если вы не уверены в них. Но в большинстве случаев вы не делали этого.
– Я задавал несколько вопросов относительно присутствия доктора Тесслара.
– Нет необходимости уточнять у свидетелей каждую мельчайшую деталь. Впрочем, почему бы не предоставить им возможность самим ответить, – сказал Гилрой, которого уже стала несколько раздражать настойчивость Баннистера.
– Я предполагаю, что доктора Тесслара не было в операционной, – заявил Дикс.
– Он был там, – тихо сказал профессор Шалом.
16
Через несколько секунд после того, как чешским национальным гимном в полночь закончились передачи телевидения, Арони поднял трубку, отвечая на телефонный звонок.
– Пройдите через сквер у Национального музея. Вас будут ждать около статуи.
Хотя уже миновала полночь, с улицы все еще доносились звуки музыки и смех. Как долго еще будут смеяться в Чехословакии? Арони попытался представить, какая судьба его ждет. Конечно, в полицейском управлении они детально обсуждали цель его появления в Праге. После таинственной смерти Катценбаха и этот город стал опасен.
Прямо перед ним притормозила машина, и дверца ее открылась. Он расположился рядом с молчаливым охранником. Рядом с водителем на переднем сиденье сидел Иржи Линка. Молча они пересекли Карлов мост и подъехали к неописуемо огромному зданию на Кармелитской, где у входа была вывеска «Управление археологических исследований». Но все в Праге знали что тут размещалось управление тайной полиции.
В обширном мрачном кабинете стоял длинный стол, крытый зеленым сукном. Торец комнаты был украшен привычными иконами – портретом Ленина, которого вряд ли можно было счесть героем чешского народа, и изображениями сегодняшних лидеров Ленарта и Александра Дубчека. Арони прикинул, что портреты последних не так долго провисят на этой стене.
Браник меньше всего походил на полицейского. Он был худ, раскован и добродушен.
– Вы все еще занимаетесь делами, Арони? – Я всего лишь держу руку на пульсе времени.
Кивком головы Браник дал понять остальным, что все они, кроме Линки, могут оставить их, и приказал принести напитки.
– Во-первых, – сказал Арони, – вы должны поверить мне на слово, я тут оказался по сугубо частному делу. Я не собираюсь вмешиваться в дела вашего правительства, собирать деньги и ни с кем не буду вступать в контакт.
Браник аккуратно вставил сигарету в длинный мундштук и прикурил от отнюдь не пролетарской золотой зажигалки. Он понимал, что Арони вынужден был сказать нечто подобное, если он не хочет кончить свою жизнь в реке, как Катценбах.
– Мое дело имеет отношение к процессу в Лондоне.
– Какому процессу?
– Тому самому, о котором сегодня говорится на первых страницах всех пражских газет.
– Ах, этот...
– И есть серьезные опасения, что Кельно может выиграть его, если не появится некий важный свидетель.
– И вы считаете, что этот человек в Чехословакии?
– Не знаю. Мое пребывание здесь – это последняя отчаянная попытка найти его.
– Я ничего не обещаю, – сказал Браник, – кроме того, что готов вас выслушать.
– В силу очевидных причин еврейский народ не может позволить себе проиграть это дело. Поражение будет воспринято как оправдание гитлеровских зверств. Вы нередко проявляли благородство по отношению к нам...
– Придержите красноречие, Арони, и предоставьте мне факты.
– В свое время недалеко от Братиславы жил парень двадцати с небольшим лет по имени Эгон Соботник. По отцу он был евреем, и эту же фамилию носили двадцать или тридцать членов его большой семьи. Большая часть ее погибла. Соботник был отправлен в Ядвигу, где работал медрегистратором в хирургическом отделении, вел записи. Он близко знал Кельно и, вернее всего, видел его чаще, чем все остальные. Я обратился в Израиле в чешскую ассоциацию, и только несколько дней назад удалось найти его дальнего родственника по фамилии Кармел. Он должен был бы носить фамилию Соботник, но, как вы знаете, многие иммигранты меняли свои фамилии на еврейские. Разрешите? – спросил Арони, кивая на пачку сигарет,
Браник пододвинул ему свою золотую зажигалку, и старик закурил.
– Кармел поддерживал переписку с двоюродной сестрой, некоей Леной Конской, которая по-прежнему живет в Братиславе. По данным Кармела, ей удалось скрыться от немцев в Венгрии, где она изображала из себя христианку. Какое-то время вместе с ней скрывался и Эгон Соботник, но гестапо нашло его. Могу добавить, что он был членом подполья в Ядвиге и вел записи обо всем, что делал Кельно. – Сигаретный дым в комнате уплотнился, когда к курящим присоединился и Линка. – Известно, что ему удалось выжить в лагере.
– И вы считаете, что он по-прежнему в Чехословакии?
– Это всего лишь предположение, но можно допустить, что он вернулся в Братиславу, где постарался установить связь со своей сестрой Леной Конской.
– Почему же он исчез?
– На этот вопрос может ответить только Эгон Соботник, если он еще жив.
– И вы хотели бы увидеться с этой женщиной? – Да, и если она сможет пролить свет на ситуацию и мы найдем Соботника, то хотели бы немедленно переправить его в Лондон.
– Это довольно сложно, – сказал Браник. – Мы не высказываем официального отношения к этому процессу, и ситуация с евреями довольно запутанная.
Арони в упор посмотрел на Браника, и тот не мог не ответить на этот вызов.
– Нам нужна помощь, – сказал Арони. – А в таких делах помощь может быть взаимной. Может быть, когда-нибудь она и вам понадобится.
И это «когда-нибудь» может наступить довольно скоро, подумал Браник.
Еще до рассвета они выехали из Праги, а затем повернули на юг, к зеленым долинам Словакии. Линка сидел, привалившись, плечом к задремавшему Арони. Первые проблески солнца упали на далекие очертания Братиславского замка, увенчанного четырехугольными башенками, который нависал над Дунаем в том месте, где сходились границы Австрии, Венгрии и Чехословакии и где размещалась закрытая со всех сторон единственная крупная гавань Чехословакии.
Вскоре после полудня машина остановилась около дома на Мытной, 22. На дверях квартиры номер четыре было имя Лены Конской. Женщина, которой на вид было шестьдесят с небольшим, осторожно приоткрыла перед ними дверь. С первого же взгляда Арони понял, какой красавицей она была двадцать, пять лет назад, когда ей приходилось жить по подложным документам. Да, женщин из Братиславы никогда нельзя было ни с кем спутать.
Линка представился. Она насторожилась, но страха не выказывала.
– Я – Арони из Израиля. Мы приехали к вам по очень важному делу.
17
– Милорд, наша следующая свидетельница будет давать показания на итальянском языке.
Ида Перетц, полная, скромно одетая женщина, смущаясь, вошла в зал суда. Шейла Лем, сидящая за столом адвоката, ободряюще показала ей поднятый большой палец, но та не заметила этого жеста. Пока итальянский переводчик приносил присягу, она обвела глазами зал суда и заметно успокоилась, когда увидела в задних рядах зрителей молодого человека, примерно лет двадцати; она еле заметно кивнула ему, и он кивнул ей в ответ.
Она принесла присягу на Ветхом Завете и назвала свое девичье имя.
– Кардозо из Триеста.
– Можете ли вы рассказать милорду и присяжным, когда вы оказались в Ядвиге и при каких обстоятельствах?
Растерянный обмен репликами между Идой Перетц и переводчиком затянулся, и было видно, что тот смущен.
– Возникли какие-то проблемы? – осведомился Энтони Гилрой.
– Милорд, родной язык мадам Перетц не итальянский. Он настолько перемешан с другими языками, что, боюсь, я не смогу обеспечить точный перевод.
– Она что, говорит по-югославски?
– Нет, милорд. Она использует какую-то смесь наречий, нечто вроде испанского, которого я не знаю.
Из заднего ряда зрителей Абрахаму Кэди была отправлена записка; он передал ее О'Коннору, который, посовещавшись с Баннистером, поднялся с места.
– Можете ли вы прояснить, что тут происходит? – обратился к нему Гилрой.
– По всей видимости, милорд, миссис Перетц говорит на ладино. Это средневековое испанское наречие, в какой-то мере напоминающее идиш по отношению к немецкому. На этом языке говорили в некоторых еврейских общинах Средиземноморья.
– Так мы можем найти переводчика с ладино и пригласить данного свидетеля попозже?
К О'Коннору полетела еще одна записка.
– Моему клиенту приходилось лично сталкиваться с ладино, и он говорит, что в наши дни он считается очень редким языком и, скорее всего, в Лондоне может не оказаться переводчика. Тем не менее в зале суда находится сын миссис Перетц, который всю жизнь общался с матерью на этом языке и готов оказать содействие в переводе.
– Не будет ли этот джентльмен так любезен предстать передо мной?
Сын Абрахама Кэди и подопечный Адама Кельно увидели почти своего сверстника, молодого человека типично итальянской внешности, который, протолкавшись среди стоящих посетителей, встал перед судейским столом. С балкона наверху сын ван Дамма также видел, как юноша неловко поклонился судье.
– Ваше имя, молодой человек?
– Исаак Перетц.
– Говорите ли вы по-английски?
– Я студент Лондонского экономического колледжа.
Гилрой тут же повернулся к местам прессы.
– Я должен потребовать от вас, чтобы данный разговор не получил отражения в прессе. Вне всякого сомнения, эту леди легко будет опознать. И я хотел бы объявить небольшой перерыв, чтобы обсудить ситуацию. Сэр Роберт, не будете ли вы столь любезны проследовать в мой кабинет с мистером Баннистером, с миссис Перетц и ее сыном?
Они пересекли торжественное пространство холла с сияющими полами, который отделял зал суда от кабинета судьи. Оказавшись в кабинете, Гилрой первым делом стянул парик. Расставшись с ним, он сразу же потерял строгость, присущую судье, и стал похож на обыкновенного англичанина. Они расселись вокруг стола, а пристав покинул кабинет.
– Если это удовлетворит вашу честь, – сказал сэр Роберт, – мы не против, чтобы мадам Перетц изложила свои показания прямо здесь, и мы не сомневаемся, что ее сын обеспечит нам точный перевод.
– Меня главным образом беспокоит не это. Первым делом, стоит проблема опознания, но оно будет тяжелым испытанием для них двоих. Молодой человек, в полной ли мере вы знакомы с несчастьем, постигшим в прошлом вашу мать?
– Я знаю, что усыновлен ею и что над ней в концлагере проводили эксперименты. Когда она написала, что ей предстоит давать показания в Лондоне, я посчитал, что она должна сделать это.
– Сколько вам лет?
– Девятнадцать.
– Уверены ли вы, что можете говорить на эти темы со своей матерью?
– Я должен.
– Но вы, конечно, понимаете, что очень скоро все станет известно в вашем колледже, да и в Триесте.
– Моя мать не стыдится того, что с ней было, и я не собираюсь ничего скрывать.
– Понимаю. И вот еще что... я хотел бы удовлетворить свое любопытство. Ваш отец, должно быть, очень умный человек? Студент из Триеста – не столь уж частое явление здесь.
– Мой отец – простой торговец. Родители очень надеются, что я смогу остаться в Англии или Америке, и не покладая рук трудились, чтобы я мог учиться.
В зале суда снова воцарилась тишина, когда Исаака Перетца привели к присяге и он встал за стулом матери, положив руку ей на плечо.
– Мы учитываем степень родства между свидетелем и переводчиком и то, что он не профессиональный специалист по переводу, но надеемся, что сэр Роберт проявит снисходительность.
– Конечно, милорд.
Томас Баннистер встал.
– Можете ли прочитать номер, вытатуированный на руке вашей матери?
Юноша привел его по памяти, даже не глядя на руку матери.
– Милорд, большая часть показаний миссис Перетц полностью совпадает с рассказами миссис Шорет и миссис Галеви, но, если мой ученый друг не возражает, я хотел бы коротко восстановить их.
– Не возражаю.
Снова была заслушана уже знакомая история.
– И вы уверены, что присутствовал доктор Тесслар?
– Да. Я помню его руку, гладившую меня по голове, когда мне казалось, что с лампы наверху капает кровь. Восс говорил по-немецки, он все повторял «махт шнель», то есть – быстрее, быстрее! Он говорил, что хочет порадовать Берлин сообщением, сколько операций может быть сделано за день. Я немножко знала польский от своего дедушки и понимала, когда доктор Тесслар спорил, говоря, что инструменты надо стерилизовать.
– Вы были в полном сознании?
– Да.
– Дни, когда доктор Вискова и Тесслар выхаживали их, спасая от гибели, отчетливо отпечатались в памяти.
– Хуже всего было моей сестре-близнецу Эмме и Тине Бланк-Имбер. Я никогда не забуду, как плакала и кричала Тина, прося воды. Она лежала рядом со мной и истекала кровью.
– Что произошло с Тиной Бланк-Имбер?
– Не знаю. К утру она исчезла.
– Можете ли подтвердить, что, если доктор Кельно в самом деле посещал вас в бараке, он находил вас в веселом настроении?
– Веселом?
– Он показывал, что его пациенты были, как правило, в радостном настроении.
– Господи, мы же умирали.
– И вам было не до веселья?
– Эта невозможно себе представить.
– Когда вы и ваша сестра снова приступили к работе на военном заводе?
– Несколько месяцев спустя после операции.
– Можете ли вы подробнее рассказать об этом?
– И капо, и эсэсовцы на заводе были особенно жестоки. Ни я, ни Эмма так и не смогли оправиться полностью. Нам с трудом удавалось дотянуть до конца дня. Затем Эмма стала терять сознание прямо на рабочем месте. Я выбивалась из сил, сходила с ума, пытаясь спасти ее. У меня ничего не было, чтобы дать капо взятку, ну совершенно ничего, и я никак не могла спрятать сестру. Я могла только сидеть рядом с ней, поддерживая ее и часами убеждая не падать духом и заставляя что-то делать, чтобы у нее двигались руки. Так длилось несколько недель. В конце концов она потеряла сознание, и мне не удалось привести ее в чувство. Вот... и они забрали ее... в Ядвигу-Западную, где она и была сгазована.
Слезы текли по пухлым щекам Иды Перетц. По залу пронесся шепот, а потом все стихло.
– Я могу объявить небольшой перерыв сказал судья.
– Моя мать хотела бы продолжить, – возразил юноша.
– Как пожелаете.
– Затем после войны вы вернулись в Триест и вышли замуж за Иешуа Перетца, владельца магазина?
– Да.
– Мадам Перетц, мне очень неудобно задавать вам следующий вопрос, но он представляет для нас большое значение. Произошли ли какие-нибудь физические изменения в вашем организме?
– Я нашла итальянского доктора, который проявил ко мне большой интерес, и после года лечения у меня возобновились менструации.
– И вы смогли забеременеть?
– Да.
– И что было дальше?
– У меня случилось три выкидыша, и доктор предположил, что мне лучше изъять и другой яичник.
– Давайте теперь проясним всю ситуацию. Оба ваших яичника подвергались облучению, не так ли?
– Да.
– По пять или десять минут. Правильно?
– Да.
– Но, несмотря на облучение, можно предположить, что яичники сохранили свою жизнедеятельность.
– Мои органы не погибли.
– Значит, фактически в ходе операции у вас был изъят здоровый яичник?
– Да.
Сэр Роберт Хайсмит ощутил, какое настроение овладевает присутствующими. Он перекинул записку Честеру Диксу: «Возьмите на себя перекрестный допрос и ни в коем случае не запугивайте ее».
Взявшись за дело, Дикс заставил свидетельницу признать, что она не может с точностью сказать, оперировал ли ее Адам Кельно.
– Вы и ваша мать можете быть свободны, – сказал Гилрой.
Когда женщина встала, сильная рука сына поддержала ее за талию; и все присутствующие в зале поднялись, когда они шли по проходу.
18
Когда приносил присягу сэр Френсис Уодди, в зале наступило заметное облегчение. Он был спокойным, уверенным человеком, который пользовался привычным для всех языком.
Поднялся Брендон О'Коннор.
– Сэр Френсис, вы член Королевского медицинского общества, член Королевского хирургического колледжа, член Общества рентгенологов, профессор терапевтической рентгенологии Лондонского университета, директор Уэссекского медицинского центра и директор Института радиотерапии.
– Совершенно верно.
– И к тому же, – с ударением сказал Брендон О'Коннор, – за три десятилетия выдающихся трудов вы были удостоены рыцарского звания.
– Да, я был удостоен этой чести.
– Итак, вы зачитали заявление, из которого можно сделать вывод, что если яичко или один из яичников подвергается жесткому облучению, особенно в руках неопытного техника, то другое яичко и другой яичник, скорее всего, тоже будут поражены.
– Вне всякого сомнения, особенно если речь идет о яичках.
– И что если хирургу приходится извлекать пораженные яички или яичник, то в интересах пациента необходимо извлечь оба.
– Если есть для этого основания, но в данном случае я считаю, что они были довольно беспочвенными.
– И если яички или яичники подверглись воздействию рентгеновских лучей, будь то в 1943 году или сегодня, есть ли какие-то основания считать, что это может привести к возникновению раковой опухоли?
– Ни малейших, – коротко ответил сэр Френсис.
Присяжные обратились в слух. Лицо Адама Кельно исказила гневная, гримаса.
– Ни малейших, – повторил О'Коннор. – Но, конечно, сэр Френсис, среди медиков могут быть различные точки зрения на данный, предмет.
– Ну, уж конечно, не в сорок третьем году и нигде в медицинской литературе, с которой мне довелось знакомиться.
– Следовательно, идет ли речь о 1943 годе или о сегодняшнем дне, нет никаких медицинских оснований для ампутации этих органов, подвергавшихся облучению.
– Абсолютно никаких.
– Вопросов больше не имею.
Сэр Роберт Хайсмит, оправившись от такого афронта, стал совещаться с Честером Диксом. Тот зарылся в кучи бумаг, а сэр Хайсмит с горькой улыбкой на лице приблизился к возвышению для свидетелей.
– Сэр Френсис, давайте представим себе, что два десятилетия назад в Центральной Европе опытный хирург, оказавшись в концентрационном лагере, лишился возможности следить за прогрессом медицины. Внезапно он сталкивается с серьезной проблемой радиационного поражения. Могла она вызвать у него обоснованные опасения?
– Весьма сомневаюсь.
– Добавим к тому же, что он не рентгенолог и ситуация серьезно беспокоит его.
– В то время существовала, скорее, серьезная недооценка опасности радиационного поражения.
– В 1940, 1941, 1942 годах врач фактически заперт в четырех стенах. Внезапно он лицом к лицу сталкивается с экспериментами по стерилизации.
– Если он действительно квалифицированный врач и хирург, особых сложностей ситуация для него не представляла бы. Как вам известно, и в Польше знали о рентгеновских лучах.
Хайсмит облизал губы, с трудом подавляя раздражение. Мантия сползла у него с плеч, и он воспользовался паузой, поправляя ее, чтобы сформулировать следующие вопросы.
– Попробуйте снова оценить ситуацию, сэр Френсис.
– Я могу всего лишь высказывать предположения. В то время не существовало информации, позволявшей предполагать, что облученный орган может представлять опасность для организма.
– Эта тема обсуждалась с квалифицированными медиками, и все они считают, что такой риск был.
– Я читал эти показания, сэр Роберт. Похоже, что доктор Кельно был единственным, кто высказывал беспокойство относительно рака.
– То есть вы хотите предположить, что в 1943 году никто из всех остальных врачей в Ядвиге не выражал подобных опасений?
– Думаю, что достаточно высказался на этот счет.
– В таком случае, сэр Френсис, каковы могут быть пределы поражений, которые может причинить неопытный техник?
– Во-первых, ожоги кожных покровов, а если доза радиации была достаточно велика, чтобы поразить яичники, то первым делом страдают самые чувствительные тонкие структуры.
– И возникают волдыри?
– Да, ожоги могут стать очагами инфекций, но, конечно же, они не могут быть причиной появления рака.
Честер Дике вытаращил глаза, обнаружив нечто в кипах бумаг на столе. Прикоснувшись к плечу Хайсмита, он протянул ему брошюру. Хайсмит заметно приободрился. Взяв ее, он прочел заголовок работы: «Опасность лучевого и комплексного облучения».
– Я хотел бы зачесть вам раздел, озаглавленный «Рак». Данная публикация принадлежит Королевскому хирургическому колледжу. Вы знакомы с ней?
– Еще бы мне не быть знакомым, – ответил сэр Френсис. – Я сам писал ее.
– Да, мне это известно, – сказал Хайсмит.– Поэтому я и хотел задать вам вопрос. Ибо, исходя из ваших утверждений, опасность рака все же существует.
– Мы в самом деле обсуждали риск заболевания лейкемией для пациентов, имеющих предрасположенность к этой болезни, но обыкновенный хирург не мог знать о таких специфических деталях.
– Но в разделе, посвященном раковым заболеваниям, после обследования людей, подвергшихся облучению в ходе атомной бомбардировки Хиросимы, говорится, что среди них вырос уровень смертности и увеличилось количество раковых заболеваний, особенно рака кожи и внутренних органов.








