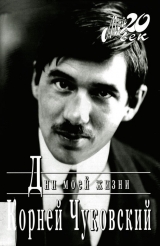
Текст книги "Дни моей жизни"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 50 страниц)
На заседании «Всемирной Литературы» произошел смешной эпизод. Гумилев приготовил для народного издания Саути{16} – и вдруг Горький заявил, что оттуда надо изъять… все переводы Жуковского, которые рядом с переводами Гумилева страшно теряют! Блок пришел в священный ужас, я визжал – я говорил, что мои дети читают Варвика и Гаттона с восторгом{17}. Горький стоял на своем. По-моему, его представление о народе – неверное. Народ отличит хорошее от дурного – сам, а если не отличит, тем хуже для него. Но мы не должны прятать от него Жуковского и подсовывать ему Гумилева.
Сегодня я написал воспоминания об Андрееве. В комнате холодно. Руки покрываются красными пятнами.
Блок показывал мне свои воспоминания об Андрееве: по-моему, мямление и канитель.
1 ноября. Сегодня Волынский выразил желание протестовать против горьковского выступления (насчет Жуковского).
Возле нашего переулка – палая лошадь. Лежит вторую неделю. Кто-то вырезал у нее из крупа фунтов десять – надеюсь, на продажу, а не для себя. Вчера я был в Доме Литераторов: у всех одежа мятая, обвислая, видно, что люди спят не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины – как жеваные. Будто их кто жевал – и выплюнул. Горький на днях очень хорошо показывал Блоку, как какой-то подмигивающий обыватель постукивал по дереву на Петербургской стороне, у трамвая. «Ночью он его срубит», – таинственно шептал Горький. Юрий Анненков – начал писать мой портрет{18}. Но как у него холодно! Он топит дверьми: снимет дверь, рубит на куски – и вместе с ручками в плиту!
2 ноября. Я сижу и редактирую «Копперфильда» в переводе Введенского{19}. Перевод гнусный, пьяный. – Бенкендорф рассказывает, что в церкви, когда люди станут на колени, очень любопытно рассматривать целую коллекцию дыр на подошвах. Ни одной подошвы – без дыры!
3 ноября. Был у меня как-то Кузмин. Войдя, он воскликнул:
– Ваш кабинет похож на детскую!
Взял у меня «до вечера» 500 рублей – и сгинул.
Секция исторических картин, коей я состою членом, отрядила меня к Горнфельду для переговоров. Я пошел. Горнфельд живет на Бассейной – ход со двора, с Фонтанной – крошечный горбатый человечек, с личиком в кулачок; ходит, волоча за собою ногу; руками чуть не касается полу. Пройдя полкомнаты, запыхивается, устает, падает в изнеможении. Но, несмотря на это, всегда чисто выбрит, щегольски одет, острит – с капризными интонациями избалованного умного мальчика – и через 10 минут разговора вы забываете, что перед вами – урод. Я прочитал ему свою статью об Андрееве{20}. Вначале он говорил: «ой, как зло!» А потом: «нет, нет!» Общий его приговор: «Написано эффектно, но неверно. Андреев был пошляк, мешанин. У него был талант, но не было ни воли, ни ума». Я думаю, Горнфельд прав; он рассказывал, как Андреев был у него – предлагал подписать какой-то протест. «Я увидел, что его не столько интересует самый протест, сколько то, что в том протесте участвует Бунин. Он был мелкий, мелочной человек».
4 ноября. Мне все кажется, что Андреев жив. Я писал воспоминания о нем – и ни одной минуты не думал о нем как о покойнике. Неделю назад мы с Гржебиным возвращались от Тихонова – он рассказывал, как Андреев, вернувшись из Берлина, влюбился в жену Копельмана и она отвечала ему взаимностью – но, увы, в то время она была беременна – и Андреев тотчас же сделал предложение сестрам Денисевич – обеим сразу. Это помню и я. Толя сказала, что она замужем – (тайно!). Тогда он к Маргарите, которую переделал в Анну.
Гржебин зашел ко мне на кухню вечером – и, ходя по кухне, вспоминал, как Андреев пил – и к нему в трактире подходила одна компания за другой, а он все сидел и пил – всех перепивал. «Я устроил для него ванну, – он не хотел купаться, тогда мы подвели его к ванне одетого – и будто нечаянно толкнули в воду – ему поневоле пришлось раздеться – и он принял ванну. После ванны он сейчас же засыпал».
5 ноября. Вчера ходил я на Смольный проспект, на почту, получать посылку. Получил мешок отличных сухарей – полпуда! Кто послал? Какой-то Яковенко, – а кто он такой, не знаю. Какому-то Яковенко было не жалко – отдать превосходный мешок, сушить сухари – пойти на почту и т. д., и т. д. Я нес этот мешок как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали. Дети пришли в экстаз.
Вчера Горький рассказывал, что он получил из Кремля упрек, что мы во время заседания ведем… разговоры. Это очень взволновало его. Он говорит, что пришла к нему дама – на ней фунта четыре серебра, фунта два золота, – и просит о двух мужчинах, которые сидят на Гороховой: они оба мои мужья. «Я обещал похлопотать… А она спрашивает: сколько же вы за это возьмете?» Вопрос о Жуковском кончился очень забавно: Гумилев поспорил с Горьким о Жуковском – и ждал, что Горький прогонит его, а Горький – поручил Гумилеву редактировать Жуковского для Гржебина{21}.
Редактирую «Копперфильда» – работа кропотливая.
Обсуждали мы, какого художника пригласить в декораторы к пьесе Гумилева. Кто-то предложил Анненкова. Горький сказал: Но ведь у него будут все треугольники… Предложили Радакова. Но ведь у него все первобытные люди выйдут похожи на Аверченко{22}. Сейчас Оцуп читал мне сонет о Горьком. Начинается «с улыбкой хитрой». Горький – хитрый?! Он не хитрый, а простодушный до невменяемости. Он ничего в действительной жизни не понимает – младенчески. Если все вокруг него (те, кого он любит) расположены к какому-нб. человеку, и он инстинктивно, не думая, не рассуждая – любит этого человека. Если кто-нб. из его близких (m-me Шайкевич, Марья Федоровна, «купчиха»{23} Ходасевич, Тихонов, Гржебин) вдруг невзлюбят кого-нб. – кончено! Для тех, кто принадлежит к своим, он делает все, подписывает всякую бумагу, становится в их руках пешкою. Гржебин из Горького может веревки вить. Но все чужие – враги. Я теперь (после полуторагодовой совместной работы) так ясно вижу этого человека, как втянули его в «Новую Жизнь», в большевизм, во что хотите – во «Всемирную Литературу». Обмануть его легче легкого – наш Боба обманет его. В кругу своих он доверчив и покорен. Оттого что спекулянт Махлин живет рядом с Тихоновым, на одной лестнице, Горький высвободил этого человека из Чрезвычайки, спас от расстрела…
6 ноября. Первый зимний (солнечный) день. В такие дни особенно прекрасны дымы из труб. Но теперь – ни одного дыма: никто не топит. Сейчас был у меня Мережковский – второй раз. Он хочет, чтобы я похлопотал за него пред Ионовым, чтобы тот купил у него «Трилогию»{24}, которая уже продана Мережковским Гржебину. Вопреки обычаю, Мережковский произвел на этот раз отличное впечатление. Я прочитал ему статейку об Андрееве – ему она не понравилась, и он очень интересно говорил о ней. Он говорил, что Андреев все же не плевел, что в нем был туман, а туман вечнее гранита, он убеждал меня написать о том, что Андреев был писатель метафизический, – хоть и дрянь, а метафизик. Мережковский увлекся, встал (в шубе) с диванчика – и глаза у него заблестели наивно, живо. Это бывает очень редко. Марья Борисовна предложила ему пирожка, он попросил бумажку, завернул – и понес Зинаиде Николаевне. Публичная библиотека купила у него рукопись «14 декабря» за 15 000 рублей. Говорил Мережковский о том, что Андреев гораздо выше Горького, ибо Горький не чувствует мира, не чувствует вечности, не чувствует Бога. Горький – высшая и страшная пошлость.
7 ноября. Сейчас вспомнил, как Андреев, получив от Цетлина аванс за собрание своих сочинений, купил себе – ни с того ни с сего – осла. – Для чего вам осел? – Очень нужен. Он напоминает мне Цетлина. Чуть я забуду о своем счастье, осел закричит, я вспомню. – Лет восемь назад он рассказывал мне и Брусянину, что, будучи московским студентом, он, бывало, с пятирублевкой в кармане совершал по Москве кругосветное плавание, т. е. кружил по переулкам и улицам, заходя по дороге во все кабаки и трактиры, и в каждом выпивал по рюмке. Вся цель такого плавания заключалась в том, чтобы не пропустить ни одного заведения и добросовестно прийти круговым путем, откуда вышел. – Сперва все шло у меня хорошо, я плыл на всех парусах, но в середине пути всякий раз натыкался на мель. Дело в том, что в одном переулке две пивные помещались визави, дверь против двери; выходя из одной, я шел в другую и оттуда опять возвращался в первую: всякий раз, когда я выходил из одной, меня брало сомнение, был ли я во второй, и Т. к. я человек добросовестный, то я и ходил два часа между двумя заведениями, пока не погибал окончательно.
Был у Горнфельда, и только сегодня заметил, что даже на стуле сидеть он не может без костылька. Был у Гумилева. Гумилев очень любит звать к себе на обед, на чай, но не потому, что он хочет угостить, а потому, что ему нравится торжественность трапезомания: он сажает гостя на почетное место, церемонно ухаживает за его женой, все чинно и благолепно, а тарелки могут быть хоть пустые. Он любит во всем истовость, форму, порядок. Это в нем очень мило. Мы мечтали с ним о том, как бы уехать на Майорку. «Ведь от Майорки всюду близко – рукой подать! – говорил он. – И Австралия, и Южная Америка, и Испания!» Пришел и домой от него (много снегу, луна), и о ужас! – у меня Шатуновские. А я уж опять наладился ложиться в 8 час. Они просидели до 11, и вследствие этого я не сплю всю ночь. Пишу это ночью. Мы беседовали о политике – и о моем безденежье. Они выразили столько участья – отчаянному моему положению (тому, что у меня шесть человек, которых я должен кормить), что в конце концов мне стало и в самом деле жалко себя. В прошлый месяц я продал все, что мог, и получил 90 000 рублей. В этом месяце мне мало 90 000 рублей, – а взять неоткуда ни гроша! – Сегодня празднества по случаю двухлетия советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: шапки вверх, делайте веселые лица!
8 ноября. Горький всегда говорит о них в нашей компании: «Да я им говорю: черти вы, мерзавцы, да что вы делаете? да разве так можно?»
Сегодня вечер памяти Леонида Андреева. Вчера я с детьми готовил афиши. Вечер возник по моей инициативе. Горький затеял сборник{25} – я сказал: «А раньше прочтем эти статьи публично». Мы сняли Тенишевский зал, Марья Игнатьевна и Оцуп – хлопочут. Кажется, публики не будет, и главное, главное, главное – я уверен, что Андреев жив.
9 ноября. Ночь. Опять не сплю – все думаю о вчерашнем вечере «Памяти Андреева» – всю ночь ни одной другой мысли!.. Вышло глупо и неуклюже – и я промучился часа три подряд. Начать с того, что было очень холодно в Тенишевском училище. Публика сидела нахохлившись. Было человек 200: но никакого единения не чувствовалось. Был Белопольский, мать Оцупа. Вся свита Горького: Гржебин, Тихонов, их жены, m-me Ходасевич, ее муж, Батюшков, конторщицы «Всемирной Литературы», два-три комиссара, с десяток студентов новейшей формации. Редько. Были мои слушатели по Студии: Надежда Филипповна, Полонская, Володя Познер, Векслер, но все это не сливалось, а торчало особняком. Литературной атмосферы не было, и температура не поднялась ни на градус, когда Алекс. Блок матовым голосом прочитал свою водянистую вещь, где слово я… я… я… я – мелькало гораздо чаше, чем слово «Андреев». Так, впрочем, и должно быть у лирических поэтов, и для изучающих творчество Блока эта статья очень интересна, но в память Леонида Андреева не годится. Потом хотели читать актеры, но неожиданно выскочил на эстраду Горький – и этим изгадил все дело. Он, что называется, «сорвал вечер». Он читал глухим басом, читал длинно и тускло, очень невнятно, растекался в подробностях и малоинтересных анекдотах, – без задушевности, – характеристики никакой не дал, – атмосфера не поднялась ни на градус… Когда он кончил, наступило шесть часов – все стали стремиться к последним трамваям, – и вот когда появились актеры, читать сцену из «Проф. Сторицына», началось истечение из залы: комиссаров, всей свиты Горького, и т. д., и т. д. Это так возмутило меня, что когда настала моя очередь, я предложил публике (осталось человек сто) либо уйти сейчас, либо прослушать чтение до конца. Все остались, многие из уходивших вернулись. Читал я очень нервно, громко, то вставая, то садясь (многое пропуская) – и чрезвычайно любя Андреева. Статейка моя вышла жесткая, в иных местах язвительная, но, в общем и главном, Андреев мне мил. Поэтому меня очень огорчила Даманская (почему-то с подбитым глазом), когда она отвела меня в сторону и сказала: «Многие недовольны, говорят, что слишком зло, но мне понравилось». Потом выступил Замятин и прелестно прочитал свой анекдот об Андрееве и зонтике. Все тепло смеялись, и температура начала подниматься, – но этим и кончилось. Я вложил в этот вечер много себя, сам клеил афиши, готовился – и потому теперь не сплю. Мне почему-то показалось, что Горький – малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке. Прежней культурной среды уже нет – она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее. Сколько-нб. сложного не понимают. Я люблю Андреева сквозь иронию, – но это уже недоступно. Иронию понимают только тонкие люди, а не комиссары, не мама Оцупа, – Горький именно потому и икона теперь, что он непсихологичен, несложен, элементарен[34]34
На полях приписано рукою К.Ч. Какая глупость. 1953.
[Закрыть].
Видел Мережковского. Он написал письмо Горькому с просьбой повлиять на Ионова – чтобы тот купил у Мережковского его «Трилогию».
Блок как-то на днях обратился ко мне: не знаю ли я богатого и Глупого человека, который купил бы у него библиотеку: «Мир Искусства», «Весы» и т. д. Деньги очень нужны.
Я хочу исподволь приучить Бобу к географии. Вчера я сказал ему, что Гумилев едет на Майорку, а мы уедем на Минорку. Я прочитал ему из «Энциклопедии Британника» об этих островах – и он весь день бредил ими. Мы рассматривали Майорку на карте. Присланные милым Яковенко сухари называются у них «Яковенки». Боба сейчас кричит: «Яковенки с чаем! Яковенки с чаем!»
11 ноября. Был в военном комиссариате у товарища Тойво – очень милый человек. Кабинет полон высоких генералов. В комнате жиденький, бледными красками написанный портрет Ленина. Заговорили о Ленине. Кто-то восторженно: А как он по матери ругается. Великолепно!
Сегодня во «Всемирке» – Амфитеатров читал своего «Ваську Буслаева». Былинный размер очень хорош, но когда переходит на пятистопный ямб – сразу другим языком. Вместе с размером меняется и стиль. Амфитеатров очень способный, но совсем не талантливый человек. Читая, он поглядывал на Горького. «Гондлу» Гумилева провалили. Потом – заседание «Всемирной Литературы». По моей инициативе был возбужден вопрос о питании членов литературной коллегии. Никаких денег не хватает – нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать. Горький откликнулся на эту тему и говорил с аппетитом. – «Да, на! Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо – пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас – оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее, и сытнее! А провизия есть… есть… Это я знаю наверное… есть… в Смольном куча… икры – целые бочки – в Петербурге жить можно… Можно… Вчера у меня одна баба из Смольного была… там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом…» – и всё в таком роде.
Был у Сазонова. Дом Искусства как будто на мази!
12 ноября. Встал часа в 3 и стал писать бумагу о положении литераторов в России. Бумага будет прочтена завтра в заседании «Всемирной Литературы». Сейчас примусь за Уитмэна. Хочу перевести что-нибудь из его прозы.
13 ноября. Вчера встретился во «Всемирной» с Волынским. Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей. Волынский: «Лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат»… – А разве Горький – дипломат? – «Еще бы! У меня есть точные сведения, что здесь с нами он говорит одно, а там – с ними — другое! Это дипломатия очень тонкая!» Я сказал Волынскому, что и сам был свидетелем этого: как большевистски говорил Горький с тов. Зариным, – я не верил ушам, и ушел, видя, что мешаю. Но я объясняю это художественной впечатлительностью Горького, а не преднамеренным планом. Повторяется то же, что было с Некрасовым. Он тоже был на два фронта оттого, что – художник{26}. Из «Всемирной» к Гржебину. Выпросил десять тысяч – и в Комиссариат просвещения к Сазонову. Гринберг обещает в ноябре полмиллиона и в декабре – полмиллиона. Оставил валенки – и с Оцупом и Слонимским к Тойво. У Тойво большой, очень чистый кабинет, на столах разложена огромная штабная карта. Он показал кому-то, что Ямбург взят, и как именно взят: – те садились на корабли, а мы их отсюда крыли артиллерией. – У него в гостях был какой-то милый красноармеец. Разговор шепотом: – Ну, а многих расстреляли в Луге? – Нет. Одного. – Ну и хорошо. Крупенникова-старика не расстреляли? – Нет. – Очень хорошо. – А белые много там напакостили? – Нет. Не успели. Они удрали, и с ними ушло много народу… Большинство евреев. – Ну, вот это хорошо. Ну их! Нам они не нужны! – Я удивился.
Вчера я лег голодный. За весь день только сухари и суп! Хочу написать рассказ – о своих приключениях.
Сегодня должно было состояться заседание по поводу продовольствия. Но – Горький забыл о нем и не пришел! Был Сазонов, проф. Алексеев, Батюшков, Гумилев, Блок, Лернер… И Тихонов запоздал. Мы ждали 1½ часа. Наконец выяснилось, что Горький прямо проехал к Гржебину. Я поговорил по телефону с Горьким – и мы начали заседание без него. Потом – пошли к Гржебину. По дороге Сазонов спрашивал: что Гумилев – хороший поэт? Стоит ему прислать дров или нет? Я сказал, что Гумилев – отличный поэт. А Батюшков – хороший профессор? О-да! Батюшков отличный профессор. Горький принял нас нежно и любяще (как будто он видит нас впервые и слыхал о нас одно хорошее). Усадил и взволнованно стал говорить о серии книг: Избранные произведения русских писателей XIX в., затеваемых Гржебиным. Предложил образовать коллегию по изданию этой серии. В коллегию входим: Н.Лернер, А.Блок, Горький, Гржебин, Замятин, Гумилев и я. Потом Горького вызвали спешно в «Асторию» – и он уехал: прибыл Боровский. Блок жаловался: как ужасно, что тушат электричество на 4 часа, – вчера он хотел писать три статьи – и темно.
14 ноября. Обедал в Смольном – селедочный суп и каша. За южку залогу – сто рублей. В трамвае – во «Всемирную». Заседание по картинам – в анекдотах. Горький вчера был в заседании – с Ионовым, Зиновьевым, Быстрянским и Воровским. Быстрянского он показывал, делал физиономию – «вот такой». Эт-то, понимаете, «человек из подполья», – из подполья Достоевского. Сидит, молчит – обиженно и тяжело. А потом как заговорит, а у самого за ушами не мыто и подошвы толстые, вот такие! И всегда он обижен, сердит, надут – на кого, неизвестно.
– Ну потом – шуточки! Стали говорить, что в Зоологическом саду умерли детеныши носорога. Я и спрашиваю: чем вы их кормить будете? Зиновьев отвечает: буржуями.
И начали обсуждать вопрос: резать буржуев или нет? Серьезно вам говорю… Серьезно… Спрашивается: когда эти люди были искренни: тогда ли, когда притворялись порядочными людьми, или теперь? Говорил я сегодня с Лениным по телефону по поводу декрета об ученых. Хохочет. Этот человек всегда хохочет. Обещает устроить все, но спрашивает: «Что же это вас еще не взяли… Ведь вас (питерцев) собираются взять». По рассказам Горького, Воровский был всегда хорошим человеком, честным, энергичным работником…
К Марье Игнатьевне Горький относится ласково. Дал ей приют у себя. Вчера: – М.И., вы идете на Кронверкский, подождите до 5-ти час., я вас отвезу, у меня будет лошадь.
Сейчас вспомнил, как Леонид Андреев ругал мне Горького: «Обратите внимание: Горький пролетарий, а все льнет к богатым – к Морозову, к Сытину, к – он назвал ряд имен. – Я попробовал с ним в Италии ехать в одном поезде – куда тебе! разорился. Нет никаких сил: путешествует как принц». Горький в письмах к Андрееву ругал меня; Андреев неукоснительно сообщал мне об этом.
Блок дал мне проредактированный им том Гейне{27}. Я нашел там немало ошибок. Некоторые меня удивили: например, слово подмастерье Блок склоняет так: родительный падеж – подмастерье, дательный падеж подмастерье – как будто это Дарья.
Мы самоуплотняемся: сдвинули всю мебель в три комнатки. Коля будет спать в комнате для прислуги. Темнеет – надо зажигать лампу, но керосину нет почти.
16 ноября. Блок патологически аккуратный человек. Это совершенно не вяжется с той поэзией безумия и гибели, которая ему так удается. Любит каждую вещь обвернуть бумажечкой, перевязать веревочкой; страшно ему нравятся футлярчики, коробочки. Самая растрепанная книга, побывавшая у него в руках, становится чище, приглаженнее. Я ему это сказал, и теперь мы знающе переглядываемся, когда он проявляет свою манию опрятности. Все, что он слышит, он норовит зафиксировать в записной книжке – вынимает ее раз двадцать во время заседания, записывает (что? что?) – и, аккуратно сложив и чуть не дунув на нее, неторопливо кладет в специально предназначенный карман.
17 ноября, воскресение[35]35
В ноябре 1919 г. воскресенье – 16 ноября.
[Закрыть]. Был у меня Гумилев: принес от Анны Николаевны (своей жены) ½ фунта крупы – в подарок – из Бежецка. Говорит, что дров никаких: топили шкафом, но шкаф дал мало жару. Я дал ему взаймы 36 полен. Он увез их на Бобиных санях. – Был Мережковский. Жалуется, хочет уехать из Питера. Шуба у него – изумительная. Высокие калоши. Шапка соболья. Говорили о Горьком. «Горький – двурушник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами – он наш. Когда он с ними – он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там и здесь». С Мережковским мы ходили в «Колос» – там читал Блок – свой доклад о музыкальности и цивилизации{28}, который я уже слышал. Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод, Блок – в фуфайке, при всяком слове у него изо рта – пар. Несчастные, обглоданные люди – слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации. Видал я Сюннерберга, Иванова-Разумника – все какие-то бывшие люди. Оттуда с Глазановым и Познером – на квартиру д-ра (забыл фамилию) – там Жирмунский читал свой доклад о «Поэтике» Шкловского. Были: Шхенбаум в шарфе до полу, Шкловский (в обмотках ноги), – Сергей Бонди, артист Бахта, Векслер, Чудовский, Гумилев, Полонская с братом и др. Жирмунский произвел впечатление умного, образованного, но тривиального человека, который ни с чем не спорит, все понимает, все одобряет – и доводит свои мысли до тусклости. Шкловский возражал – угловато, задорно и очень талантливо. Векслер заподозрила Жирмунского, что он где-то упомянул душу писателя, – и сделала ему за это нагоняй. Какая же у писателя душа? К чему нам душа писателя? Нам нужна композиционная основа, а не душа. – Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай Бог, не сказалась душа{29}. При всяком намеке на психологизм (в литературной критике) они хором вопят:
Ах, какой он пошляк! Ах, как он неразвит!{30}
Современности вовсе не видно.
Но все же собрание произвело впечатление будоражащее, освежающее. Потом с Глазановым мы пошли ко мне и читали его доклад об Андрее Белом. – У меня от холоду опухли руки.
19 ноября, среда. Вчера три заседания подряд: первое – Секция исторических картин, второе – «Всемирная Литература», третье – у Гржебина, «Сто лучших русских книг». Так как я очень забывчив на обстановку и подробности быта – запишу раз навсегда, как это происходит у нас. Теперь мы собираемся уже не на Невском, а на Моховой, против Тенишевского училища. Нам предоставлены два этажа барского особняка генеральши Хари-ной. Поднимаешься по мраморной лестнице – усатый меланхоличный Антон и седовласый Михаил Яковлевич, бывший лакей Пуни, потом лакей Репина – «Панин папа» – как называют его у нас. Сейчас же налево – зал заседаний – длинная большая комната, соединенная лестницей с кабинетом Тихонова – наверху. В зале множество безвкусных картин – пейзажей – третьего сорта, мебель рыночная, но с претензиями.
Я прихожу на заседания рано. Иду в зал заседаний – против окон видны силуэты: Горький беседует с Ольденбургом. Тот, как воробей, прыгает вверх – (Ольденбург всегда форсированный, демонстрирующий энергию). Там же сидит одиноко Блок – с обычным видом грустного и покорного недоумения: «И зачем я здесь? И что со мной сделали? И почему здесь Чуковский? Здравствуйте, Корней Иванович!» Я иду наверх – мимо нашей собственной мешочницы Розы Васильевны. Роза Васильевна стала у нас учреждением – она сидит в верхней прихожей, у кабинета Тихонова – разложив на столе сторублевые коврижки, сторублевые карамельки – и все профессора и поэты здороваются с нею за руку, с каждым у нее своя интонация, свои счеты – и всех она презирает великолепным еврейским презрением и перед всеми лебезит. В следующей комнате – прием посетителей; теперь там пустовато. В следующей Вера Александровна – секретарша, подсчитывающая нам гонорары, – впечатлительная, обидчивая, без подбородка, податливая на ласку, втайне влюбленная в Тихонова; у ее стола по целым часам млеет Сильверсван. Кабинет Тихонова огромен. Там сидит он – в кабинете, свеженький, хорошенький, очень деловитый и в деловитости простодушный. Он обложен рукописями, к нему ежеминутно являются с докладом из конторы, из разных учреждений, он серьезный социал-демократ, друг Горького и т. д., но я не удивился бы, если бы оказалось, что… впрочем, Бог с ним. Я его люблю. В одном из ящиков его стола мешочек с сахаром, в другом – яйца и кусочек масла: завтракает он у себя в кабинете. Вечером, перед концом заседания, к нему приходит его возлюбленная – в красной шубке – и ждет его в кабинете. Вчера, войдя в зал заседаний, я увидел тихоновский мешочек с сахаром там на столе – и только потом рассмотрел в углу Тихонова и Анненкова. Анненков начал портрет Тихонова, в виде американца, и в первый же сеанс великолепно взял главное – и артистически разработал все плоскости подбородка. Глаз еще нет, но даже кожа – тихоновская. Анненков говорит, что он хочет написать на фоне фабричной трубы, плакатов – вообще обамериканить портрет. Горький на заседание не пришел: болен. Он прислал мне записку, которую при сем прилагаю{31}. На первом заседании я читал своего Персея{32}, который неожиданно всем понравился. На втором заседании мы говорили о записке от лица литераторов, которую мы намерены послать Ленину. К концу заседания мне сообщили, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, и мы гуськом сбежали (скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилев, Замятин – в комнату машинисток (где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста лучших книг. Блок неожиданно, замогильным голосом, сказал, что литература XIX века не показательна для России, что в XIX в. вся Европа (и Россия) сошла с ума, что Гоголь, Толстой, Достоевский – сумасшедшие. Гумилев говорил, что Майков был бездарный поэт, что Иванов-Разумник – отвратительный критик. Гржебин в шутку назвал меня негодяем, я швырнул в него портфелем Гумилева – и сломал ручку. Говорили о деньгах – очень горячо – выяснилось, что все мы – нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить страстно, безумно, отчаянно. Потом я вернулся домой – и Лидочка читала мне Шекспира «Генрих IV», чтобы усыпить меня. Я боялся, что не усну, Т. к. сегодня открытие Дома Искусств, а я никогда не сплю накануне событий. – Лида теперь занята рефератом о Москве – забавная трудолюбивая носатка!
20 ноября. Итак, вчера мы открывали Дом Искусства. Огромная холодная квартира, в которой каким-то чудом натопили две комнаты, – стол с дивными письменными принадлежностями, всё – как по маслу: прислуга, в уборной графин и стакан, гости. Горького не было, он болен. Все были так изумлены, когда им подали карамельки, стаканы горячего чаю и булочки, что немедленно избрали Сазонова товарищем председателя! Прежде Сазонов – в качестве эконома – и доступа не имел бы в зал заседаний коллегии! Теперь эконом – первая фигура в ученых и литературных собраниях. На него смотрели молитвенно: авось даст свечку. Он тоже не ударил в грязь лицом: узнав, что не хватает стаканов, он собственноручно принес свои собственные с Фонтанки на Мойку – в чемодане. Заседания не описываю, ибо Блок описал его для меняв Чукоккале{33}. Кое-что подсказывал ему я (об Анненкове). Немирович председательствовал – беспомощно: ему приходилось суфлировать каждое слово. – Холодно у вас? – спросил я его. – Да, три градуса, но я пишу об Африке, об Испании, – и согреваюсь! – отвечал бравый старикан. Мы ходили осматривать елисеевскую квартиру (нанятую нами для Дома Искусств). Безвкусица оглушительная. Уборная m-me Елисеевой вся расписана: морские волны, кораблекрушение. Множество каких-то гимнастических приборов, напоминающих орудия пытки. Блок ходил и с недоумением спрашивал: – А это для чего?
Блок очень впечатлителен и переимчив. Я недавно читал в коллегии докладец о том, что в 40-х гг. писали: аплодисманы, мебели (множественное число) и т. д. Теперь в его статейке об Андрееве встретилось слово «мебели» (множественное число) и в отчете о заседании – «аплодисманы».
Не явились на открытие Дома Искусств: Федор Сологуб, Мережковский, Петров-Водкин. Мережковский в это время был у меняй спорил с Шатуновским. Очень, очень хочется мне помочь Анненкову, он ужасно нуждается. Он пишет портрет Тихонова за пуд белой муки, но Тихонов еще не дал ему этого пуда. По окончании заседания он подозвал меня к себе, увел в другую комнату – и показал неоконченный акварельный портрет Шкловского{34} (больше натуры – изумительно схвачено сложное выражение глаз и губ, присущее одному только Шкловскому). Мне страшно вдруг захотелось, чтобы он докончил мой портрет. Я начал переделывать «Принципы художественного перевода», но вдруг заскучал и бросил.
21 ноября. С.Ф.Ольденбург дал мне любопытную книгу «The Legend of Perseus» by E. Sidney Hartland[36]36
«Легенда о Персее» Е. Сиднея Хартланда (англ.).
[Закрыть]. Утром сегодня я проснулся, предвкушая блаженство: читать эту незатейливую, но увлекательную вещь; но нет огня, нет спичек, и я промучился около часу. Теперь даже понять не могу, почему мне так хотелось читать эту книгу.
23 [ноября]. Был у Кони. Бодр. Его недавно арестовали. Не жалуется. «Там (в арестантской) я встретил миссионера Айвазова – и мы сейчас же заспорили с ним о сектантах. Вся камера слушала наш ученый диспут. Очень забавно меня допрашивал какой-то мальчик лет шестнадцати. – Ваше имя, звание? – Говорю: академик. – Чем занимаетесь?.. – Профессор… – А разве это возможно? – Что? – Быть и профессором, и академиком сразу. – Для вас, говорю, невозможно, а для меня возможно».






