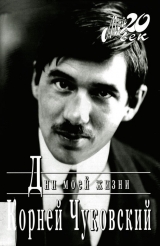
Текст книги "Дни моей жизни"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 50 страниц)
25 декабря. Принц афганский совсем стал домашним. Когда он проигрывает в «козла», ему говорят:
– Ваше высочество, вы – козел!
Дегтярь зовет его «товарищ принц».
Умер Ценский. «Я знал его, мы странствовали с ним»{8}.
Показывали картину «Афганистан». Кино очень хорошее, но нищеты не скроешь, глиняных домиков не скроешь, скуки, азиатчины, бескультурья не скроешь. На сеансе присутствовал принц со своим седым переводчиком и Дегтярем. Дегтярь, милый хохол, который через неделю будет в Кабуле, который он называет своей Кабалой.
Приехал Маршак. Переводит отрывки из Бернса, обещает почитать.
26 декабря. Маршаку предлагают играть в «козла». Он:
– Я не козлоспособен!
Потом прибавил:
– Но зато и не козлопамятен.
31 декабря. Вчера Маршак был прелестен. У него в номере (18-м) мы устроили литературный вечер: я, он и Кнорре. Мы обедали и ужинали вместе; за ужином вспоминали Льва Моисеевича Клячко, о котором С.Я. сохраняет самые светлые воспоминания. Мне тоже захотелось вспомнить этого большого и своеобразного человека. Я познакомился с ним в 1907 году, работая в литературном отделе газеты «Речь». Он был репортером, «королем репортеров», как говорили тогда. Казался мне вульгарным, всегда сквернословил, всегда рассказывал анекдоты, острил – типичный репортер того времени. Выделяла его из их толпы только доброта. Так как по своей должности он часто интервьюировал министров, да и видел их ежедневно (в Думе и в министерствах), к нему всякий раз обращались десятки людей, чтобы он похлопотал о них. И он никогда не отказывал. Жил он тогда на Старо-Невском. Я однажды ночевал у него и был свидетелем того, как его квартиру с утра осаждают всякие «обремененные и трудающиеся», – и он каждый день от 9 до 11 принимал их всех – и брался хлопотать обо всех.
В 1921 году Клячко задумал основать издательство. Брат его жены дал ему ссуду: 5 000 р. Он, по настоянию брата, затеял издавать «Библиотеку еврейских мемуаров». Евреи (такие, как Винавер) снабдили его десятками рукописей. Он пригласил меня редактировать их. В то время после закрытия «Всемирной Литературы» я сильно голодал, семья была большая, и я охотно пошел в поденщики. Правил слог, сверял исторические факты. Милый Клячко, он не имел представления, как неинтересны и сумбурны были многие из приобретенных им рукописей, и требовал, чтобы я скорее сдавал их в набор. Нужна была марка для еврейских мемуаров, повторяющаяся на каждом томе. Я предложил изобразить на марке Ноя, который видит радугу и простирает руки к летящему голубю. Мы так и назвали будущее мемуарное издательство – «Радуга», я познакомил Клячку с Чехониным, который и нарисовал нам Ноя с голубем и радугой. На другой день, когда у Клячко был семейный праздник (кажется, именины одной из дочерей), он немного выпил и был в благодушнейшем настроении, я прочитал ему две свои сказки, которые написал тем летом на Лахте (наряду со статьей: денежная тема в творчестве Некрасова): «Мойдодыра» и «Тараканище». Не успел я закончить чтение, как он закричал, перебивая меня:
– Идьёт! Какой идьёт!
Я смутился.
– Это я себя называю идьётом. Ведь вот что нужно издавать в нашей «Радуге»! Дайте-ка мне ваши рукописи!
И он стал читать их, захлебываясь и перевирая слова. На следующий день он знал их наизусть и декламировал каждому, кто приходил к нему, «Ехали медведи на велосипеде».
В тот же день побежал к моему приятелю Ю.Анненкову (тот жил рядом со мною на Кирочной), съездил в литографию, снова посетил Чехонина, и каша заварилась. – Его энтузиазм был (нужно сказать) одиноким. Те, кому он читал мои сказки и кому, по его настоятельному желанию, читал я, только пожимали плечами и громко высказывали, что Клячко свихнулся. Он и вправду казался одержимым: назначил обеим моим книжкам «огромный» по тому времени тираж: 7 000 экз. – и выпустил их к Рождеству 1921 года (или чуточку позже). Когда я привел к нему Маршака, тогда же, в самом начале 1922 г., он встретил его с восторгом, как долгожданного друга, издал томик его пьес и был очарован его даровитостью. Помню, как он декламирует:
На площади базарной,
На каланче пожарной —
упиваясь рифмами, ритмом, закрывая глаза от удовольствия. В качестве газетного репортера он никогда не читал никаких стихов. Первое знакомство с поэзией вообще у него состоялось тогда, когда он стал издателем детских стихов – до той поры он никаких стихотворений не знал. Весь 1922 и 1923 год мы работали у него с Маршаком необыкновенно дружественно, влияя друг на друга, – потом эта дружба замутилась из-за всяких злобных наговоров Бианки и отчасти Житкова, которые по непонятной причине невзлюбили С.Я., и – я не то чтобы поддался их нашептываниям, но отошел от детской литературы и от всего, чем жил тогда Маршак.
1959
1 января. С Новым годом, дорогой Корней Иванович!
Моя ненависть – старинная – ко всяким застольным торжествам, юбилеям, вечерникам, пирам и т. д. – заставила меня согласиться с милым предложением Арсения Григорьевича Головко (адмирала) съездить в Переделкино, навестить «своих». Я даже не надевал пиджака. В серой больничной пижаме – ровно в 8 часов – я сел в «ЗИС» милейшего А.Г. – и мы покатили. Дома очень хорошо. Сделана вторая полка над диваном, диван ремонтирован.
5 января. Докторша Екатерина Семеновна, придя с визитом, сообщила, как ей нравится роман Кочетова. После этого пропадает охота лечиться у нее.
7 января, среда. Я пошел к Всеволоду Иванову. У Тамары Вл. грипп. Она еле сидит. Рассказала мне, что Пастернак, до той поры никогда не упоминавший о своей Ольге Всеволодовне, «вдруг захотел, чтобы я познакомилась с нею».
– А я знала, что она лгунья. Она была в ссылке по уголовному делу, а всем (да и самому Пастернаку) говорила, что из-за него. На меня она произвела самое отталкивающее впечатление. Я так и сказала Борису Леонидовичу: «больше я с этой особой встречаться не желаю». Он слепо ей верит – и во всем советуется с нею. Между тем…
За час до этого был у меня Пастернак. Постарел, виски ввалились – но ничего, бодр. Я сказал ему, что из-за его истории я третий месяц не сплю. Он: «А я сплю превосходно». И с первых же слов: «Я пришел просить у вас денег. 5 000 рублей. У меня есть, но я не хочу брать у Зины. И не надо, чтобы она знала».
Очевидно, деньги нужны Ольге Всеволодовне. Я лишь вчера получил 5 000 в сберкассе и с удовольствием отдал ему все.
Он разговорился:
– Ольге Всеволодовне не дают из-за меня переводческой работы в Гослите. Ту, что была у нее, отобрали. Я перевел пьесу Словацкого, сдал в издательство, рецензенты одобрили, но денег не платят. Денег нет ниоткуда. Но зато – если бы видели письма, которые я получаю. Потоки приветствий, сочувствий…
По словам Т. Вл., Пастернак не читает газет, не читал о себе в советской печати ни одной строки – всю информацию дает ему Ольга Всеволодовна.
27 января. Опять Пастернак. Вчера был у меня, когда я спал. Придет сегодня в час – или в два. Пишет, что за советом. Какой совет могу дать ему я, больной, изможденный, измочаленный бессонницами?
Без десяти два. Позвонил Пастернак. – «Вы знаете, кто звонит?» – Да! – «Можно мне быть у вас через 10–15 минут?» – Пожалуйста. – «Но м.б. вы заняты?» – Нет.
Был Пастернак. Он встревожен, что на 21-м съезде опять начнут кампанию против него – и потребуют изгнать его из отечества. Он знает, что было заседание Идеологической комиссии.
Я сказал ему:
– Вы можете считать меня пошляком, но, ради Бога, не ставьте себя в такое положение: я, Пастернак, с одной стороны, и советская власть – с другой. Смиренно напишите длинное письмо заявите о своих симпатиях к тому, что делает советская власть для народа, о том, как вам дорога семилетка, – и т. д.
– Нет, этого я не напишу. Я сообщу, что я готов быть только переводчиком и отказываюсь писать оригинальные стихи.
– А им какое до этого дело? Они ни в грош не ставят ни то ни другое. Вам надо рассказать подробно о том, при каких обстоятельствах вы отдали свой роман за границу, осудить этот свой поступок.
– Ни за что. Скорее пойду на распятье.
9 марта. [Больница.] Сестер насильно заставляют быть гуманными. Многие из них сопротивляются этому. В голове у них гуляет ветер молодости и самой страшной мещанской пошлости. Сейчас Коля принес мне Заболоцкого, Люша– Матисса. Даже дико представить себе, чтобы хоть одна из них могла воспринять это искусство. Словно другая планета. Кино, телевизор и радио вытеснили всю гуманитарную культуру. Мед. «сестра» – это типичная низовая интеллигенция, сплошной массовый продукт – все они знают историю партии, но не знают истории своей страны, знают Суркова, но не знают Тютчева – словом, не просто дикари, а недочеловеки. Сколько ни говори о будущем поколении, но это поколение будет оголтелым, обездушенным, темным. Был у меня «медбрат» – такой же обокраденный. И у меня такое чувство, что, в сущности, не для кого писать.
23 апреля. За это время я раза три виделся с Пастернаком. Он бодр, глаза веселые, побывал с «Зиной» в Тбилиси и вернулся помолоделый, самоуверенный.
Говорит, что встретился на дорожке у дома с Фединым – и пожал ему руку – и что, в самом деле! начать разбирать, этак никому руку подавать невозможно!
– Я шел к вам! – сказал он. – За советом.
– Но ведь вы ни разу меня не послушались. И никакие не нужны вам советы.
Смеется:
– Верно, верно.
Пришел ко мне: нет ли у меня книг о крестьянской реформе 60-х годов. Нужны имена Милютина, Кавелина, Зарудного и т. д. и в каких комитетах они работали.
Рассказывал (по секрету: «я дал подписку никому не рассказывать»), что его вызывал к себе прокурор и (смеется) начал дело… «Между тем следователь по моему делу говорит: плюньте, чепуха! все обойдется».
– У меня опять недоразумение… слыхали? – «Недоразумение» ужасно. Месяца три назад он дал мне свои стихи о том, что он «загнанный зверь». Я спрятал эти стихи, никому не показывая их, решив, что он написал их под влиянием минуты, что это не «линия», а «настроение». И вот оказывается, что он каким-то образом переслал «Зверя» за границу, где его и тиснули!!!{1}
Так поступить мог только сумасшедший – и лицо у Пастернака «с сумасшедшинкой».
Переписывается с заграницей вовсю. Одна немка – приятельница Рильке – прислала ему письмо о Рильке, и он ей ответил, – а кто-то адресовал ему свое послание во Франкфурт-на-Майне, и все же оно дошло.
Погода до вчерашнего дня была жаркая, и Пастернак ходил без шляпы, в сапогах, в какой-то беззаботной распашонке.
Жаль, что он не знает, что его Ольга Всеволодовна – лжива, вульгарна, ничтожна.
27 апреля. Был у меня в лесу Федин. Говорит, что с «Литнаследством» (после напечатания книги «Новое о Маяковском») дело обстоит очень плохо. Так как начальству нужна лакировка всего – в том числе и писательских биографий, – оно с ненавистью встретило книгу, где даны интимные (правда, очень плохие) письма Маяковского к Лили Брик – и вообще Маяковский показан не на пьедестале. Поэтому вынесено постановление о вредности этой книги и занесен удар над Зильберштейном. Человек создал великолепную серию монументальных книг – образцовых книг по литературоведению, отдал этой работе 30 лет – и все это забыто, на все это наплевать, его оскорбляют, бьют, топчут за один ошибочный шаг.
– Создана в Академии Наук комиссия, – сказал Федин. – Я председатель.
– Вот и хорошо! Вы выступите на защиту Зильберштейна.
– Какой вы чудак! Ведь мне придется подписать уже готовое решение.
– Неужели вы подпишете?
– А что же остается мне делать?!
И тут же Федин стал подтверждать мои слова, что Зильберштейн чудесный работник, отличный исследователь, безупречно честный, великий организатор и т. д.
– А его книга о Бестужевых!{2} – говорит он. – А герценский том и т. д. И знаете, что отвратительно: в комиссию не введены ни Зильберштейн, ни Макашин, но зато дополнительно внеден… Храпченко. Какая мерзость!
Бедный Федин. Вчера ему покрасили забор зеленой крае кой – неужели ради этого забора, ради звания академика, ради официозных постов, которые ему не нужны, он вынужден продавать свою совесть, подписывать бумаги.
5/V, Дважды был у Федина по делу «Литнаследства». Хлопотал, чтобы он, председательствуя в комиссии, созданной Академией Наук специально для рассмотрения вопроса о «Литнаследстве» («Новое о Маяковском»), сказал бы похвальное слово о Зильберштейне и Макашине. Второй визит нанес ему вместе с Макашиным. Макашин боится, что «Литнаследство» передадут в Институт Горького, где распоряжается Эльсберг – тот самый Эльсберг, по доносу которого (так утверждает Макашин) он и был сослан. «Из-за этого человека я узнал лагерь, войну, плен, этот человек мерзавец, и работать с ним я не буду»{3}. Хуже всего то, что Зильберштейн поссорился с Храпченко, а Храпченко (как теперь оказалось) уже член-корреспондент – подумать только! – тусклый чинуша, заместитель Виноградова!
Целый час Макашин своим ровным голосом сообщал Федину всевозможные дрязги, опутавшие со всех сторон «Литнаследство»: недовольно начальство тем, что в герценовских томах раскрыта история Натали Герцен и Гервега, недовольно, что Илья пользуется иностранными источниками, Храпченко хочет спихнуть Виноградова и утопить Илью и т. д.
Для меня во всем этом печально, что тот литературоведческий метод, которым до сих пор пользовался я – метод литературного портрета без лакировки, – теперь осужден и провален. Требуется хрестоматийный глянец – об этом громко заявлено в постановлении ЦК. Мои «Люди и книги» вряд ли будут переизданы вновь. Сволочи. Опять нет у меня пристанища. Из детской литературы вышибли, из критики вышибли, из некрасоведения вышибли.
Тамара Влад. Иванова рассказала мне, что недавно ей позвони на Ольга Всеволодовна (приятельница Пастернака), с которой Тамара Владимировна не желает знаться.
«– Ради бога, подите к Пастернаку и скажите ему – тайком от жены, – чтобы он немедленно позвонил мне.
– Понимаете ли вы, что вы говорите? Я приятельница его жены и не могу за спиной у нее…
– Ради бога. Это нужно для его спасения».
Нечего делать, Т.В. пошла к Пастернаку. Зинаида Николаевна внизу играла в карты с женой Сельвинского (который, кстати сказать, швырнул в Пастернака комком грязи в «Огоньке»{4}), – прошмыгнула к нему в кабинет и выполнила просьбу Ольги Всеволодовны.
Пастернак тотчас же ринулся к телефону в Дом творчества.
Оказалось: он получил приглашение на прием к шведскому послу – и ему сообщило одно учреждение, что, если он не пойдет к послу и вообще прекратит сношения с иностранцами, ему уплатят гонорар за Словацкого{5} и издадут его однотомник.
Он согласился.
6 мая. Вчера видел в городе Федина. Он подошел к моей машине и сказал: Зильберштейна, хоть и со скрипом, удалось оставить. Бой длился три часа. Коллегию «Литнаследства» раздули до 9 человек. Большую помощь Илье оказал Виноградов, который вел себя отлично.
8 мая. Умер Еголин – законченный негодяй, подхалим и – при этом бездарный дурак. Находясь на руководящей работе в ЦК, он, пользуясь своим служебным положением, пролез в редакторы Чехова, Ушинского, Некрасова – и эта синекура давала ему огромные деньги, – редактируя (номинально!) Чехова, он заработал на его сочинениях больше, чем заработал на них Чехов. Он преследовал меня с упорством идиота. Он сопровождал Жданова во время его позорного похода против Ахматовой и Зощенко – и выступал в Питере в роли младшего палача – и все это я понял не сразу, мне даже мерещилось в нем что-то добродушное, только года два назад я постиг, что он беспросветная сволочь. Его «работы» о Некрасове были бы подлы, если бы не были так пошлы и глупы.
Странно, что я понял это только в самое последнее время, когда он явился ко мне с покаянием, говоря, что он лишь теперь оценил мои «труды и заслуги».
15 августа, суббота. Вернулся из Америки В.Катаев. Привез книгу «The Holy Barbarians»[101]101
«Святые варвары» (англ.).
[Закрыть], о битниках, которую я прочитал в течение ночи, не отрываясь. Капитализм должен был создать своих битников – протестантов против удушливого американизма, – но как уродлив и скучен их протест. «Пожалуйста, научите меня гомосексуализму, я не умею» и пр.
Катаева на пресс-конференции спросили: «Почему вы убивали еврейских поэтов?»
– Должно быть, вы ответили: «Мы убивали не только еврейских поэтов, но и русских», – сказал я ему.
– Нет, все дело было в том, чтобы врать. Я глазом не моргнул и ответил: – Никаких еврейских поэтов мы не убивали.
О Пастернаке он сказал:
– Вы воображаете, что он жертва. Будьте покойны: он имеет чудесную квартиру и дачу, имеет машину, богач, живет себе припеваючи – получает большой доход со своих книг. – Господи, до чего лжив – из трусости.
Завтра костер. Устраиваю я его с увлечением. Хочется, чтобы у переделкинских детей был праздник. Будут Барто, Джерманетто, Вильямс, Михайлов (министр) – и фокусник – лучший в Советском Союзе, будет жонглер, будет детская самодеятельность и т. д.
1960
23 мая. Болезнь Пастернака. Был у меня вчера Валентин Фердинандович Асмус; он по три раза в день навещает Пастернака, беседует с его докторами и очень отчетливо доказал мне, что выздоровление Пастернака будет величайшим чудом, что есть всего 10 % надежды на то, что он встанет с постели. Гемоглобин ужасен, роэ – тоже. Применить рентген нельзя.
31 мая. Пришла Лида и сказала страшное: «Умер Пастернак». Час с четвертью. Оказывается, мне звонил Асмус.
Хоронят его в четверг 2-го. Стоит прелестная, невероятная погода – жаркая, ровная, – яблони и вишни в цвету. Кажется, никогда еще не было столько бабочек, птиц, пчел, цветов, песен. Я целые дни на балконе: каждый час – чудо, каждый час что-нибудь новое, и он, певец всех этих облаков, деревьев, тропинок (даже в его «Рождестве» изображено Переделкино), – он лежит сейчас – на дрянной раскладушке, глухой и слепой, обокраденный, – и мы никогда не услышим его порывистого, взрывчатого баса, не увидим его триумфального… (очень болит голова, не могу писать). Он был создан для триумфов, он расцветал среди восторженных приветствий аудиторий, на эстраде он был счастливейшим человеком, видеть обращенные к нему благодарные горячие глаза молодежи, подхватывающей каждое его слово, было его потребностью – тогда он был добр, находчив, радостен, немного кокетлив – в своей стихии! Когда же его сделали пугалом, изгоем, мрачным преступником – он переродился, стал чуждаться людей, – и помню, как уязвило его, что он – первый поэт СССР, не известен никому в той больничной палате, куда положили его, —
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.
(Нет, не могу писать, голова болит.)
6 июня. Сейчас был у меня В.Ф.Асмус, который – единственный из всех профессоров и писателей – произнес речь на могиле Пастернака. Он один из душеприказчиков Пастернака. Жена звонила ему из города, что на его имя все время приходят книги, подарки, благодарственные письма и т. д. Сейчас с запозданием из Англии приехала сестра Пастернака. Асмус встретил ее, когда она говорила в Доме творчества по телефону. Остановилась она у Зинаиды Николаевны. Когда после смерти Пастернака сделали рентгеновский снимок, оказалось, что у него рак легкого, поразивший все легкое, – а Пастернак и не чувствовал. Только 6-го мая он сказал Асмусу: «Что-то у меня болит лопатка!» Сейчас самая главная проблема: Ольга Всеволодовна. Я помню – когда я был у Пастернака последний раз, он показывал мне груды писем, полученных им из-за границы. Письмами был набит весь комод. Где эти письма теперь? Асмус боится, что они у Ольги Всеволодовны – равно как и другие материалы.
8 июня. Корнелий Зелинский, по наущению которого Московский университет уволил Кому Иванова за его близость к Пастернаку, теперь с некоторым запозданием захотел реабилитироваться. Поэтому он обратился к ректору университета с просьбой: «Прошу удостоверить, что никакого письменного доноса на В.В.Иванова я не делал».
Ректор удостоверил: «Никакого письменного доноса на В.В.Иванова К.А.Зелинский не делал».
Копию этой переписки Зелинский прислал Всеволоду Иванову.
Это рассказала мне Тамара Влад. Иванова.
Она же сообщила мне, что Асмуса вызывали в университет и допрашивали: как смел он назвать Пастернака крупным писателем.
Он ответил:
– Я сам писатель, член Союза Писателей и, полагаю, имею возможность без указки разобраться, кто крупный писатель, кто некрупный.
Последний раз Тамара Вл. видела Пастернака 8 мая. Он шутил много и оживленно разговаривал с нею, и врачиха Кончаловская зная, что у него инфаркт, не велела ему лежать неподвижно и вообще обнаружила полную некомпетентность.
Он давал читать свою пьесу (первые три акта) Коме – уже в законченном виде. Но очевидно, этот текст передан Ольге Всеволодовне, так как у Зин. Ник. есть лишь черновики пьесы. (О крепостной артистке, которую ослепили.) Вообще у Ольги Всеволодовны весь архив Пастернака, и неизвестно, что она сделает с ним.
Брат Пастернака и его сын спрашивали его, хочет ли он видеть Ольгу Всеволодовну, и говорили ему, что она в соседней комнате, он отчетливо и резко ответил, что не желает видеться с ней.
16 июня. Когда спросили Штейна (Александра), почему он не был на похоронах Пастернака, он сказал: «Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях».
13 августа. Я сновав Барвихе. Маршак, Марецкая, Вучетич, Галлахер, Папанин, Соболевы (из ООН).
14 августа. Сегодня в дивную погоду гулял с Маршаком.
Я вожусь с «Гимназией»{1} и вижу свою плачевную бездарность: бессонницы и старчество.
И нельзя себе представить того ужаса и того восторга – с которым я прочитал книгу J.D.Salinger’a «The Catcher in the Rye»[102]102
Дж. Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи» (англ.).
[Закрыть], о мальчишке 16-ти лет, ненавидящем пошлость и утопающем в пошлости, – его автобиография. «Неприятие здешнего мира», – сказали бы полвека назад. И как написано!! Вся сложность его души, все противоборствующие желания – раздирающие его душу – нежность и грубость сразу.
1 сентября. Вот и приходит к концу мое пребывание в Барвихе.
Маршак острит напропалую. Зубной кабинет он зовет «Ни в зуб ногой», кабинет ухо-горло-нос – «Ни уха ни рыла». Кабинет электромедицины: «До облучения не целуй ты ее».
6 сентября. Говорят: он сегодня уезжает. Я провел с ним два вечера – как в древности, и это очень взволновало меня.
Говорил он, как новое, все свои старые «находки»: что Лермонтов и Пушкин – люди чести, а Лев Толстой и Достоевский – люди совести; что у Пушкина нет ошибок, нет провалов.
Иные его определения чудесны:
Короленко – это «хорошая польская писательница».
«Есть среди медицинских сестер сестры родные и сестры двоюродные».
«И почему это Данте переводили поэты, у которых в фамилии есть звук „мин“: „Мин“, „Минаев“, Чюмина. Да и Мих. Лозинский тоже „мин“».
Вместе со мной за столом сидит Ал. Ник. Крушинин, 77-лет-ний старик. Очень интересная фигура. Во время завтраков, обедов и ужинов он приветствует каждое блюдо: «А, зеленые щи!» «А, кабачки!» «А, вареники». Абсолютно изолирован от всякой культуры. Когда я упомянул Пушкина, он сказал: «Этот бабник». Больше ему ничего не известно о Пушкине. Работал он когда-то на заводе «Жигулевское пиво» – потом очутился почему-то в Иркутске – «почему, не помню, память ослабела». Из всех своих подвигов помнит один: как он вместе с двумя другими рабочими решил поднести Ленину окорок ветчины – в голодные годы. «Мы пришли в Кремль, Ленин стал расспрашивать нас: каковы настроения в рабочей среде, о том о сем, а мы кладем ему на стол окорок. Он позвонил. Вошел секретарь. „Отдайте это в детский дом“. „И чтобы вы таких гадостей больше не делали“. – Разнес нас как следует, прямо сказать: изругал».
11 сентября. Вчера весь вечер сидел у меня Дм. Вас. Павлов, министр торговли. Он написал книжку «Ленинград в блокаде» – и теперь расширяет ее, готовит новое издание. Читал отрывки – спрашивал советов.
Говорит:
– У меня уже та заслуга, что я впервые назвал в своей книге таких расстрелянных людей, как Попков.
И рассказал, как приходилось ему спасать во время террора разных людей, прикосновенных к Попкову. Один директор кондитерской фабрики был арестован только за то, что Попков приходил к нему на фабрику принимать душ.
[10 октября.] Было это, кажется, 5-го октября. Погода прелестная, сухая. Ко мне в гости приехала 589 школа, 5-й класс и 2-й класс. У меня болела голова, я лежал в тоске – и вдруг столько чудесных – веселых, неугомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали наперегонки, наполнили весь наш лес гомоном, смехом, перекличками – и мне кажется, я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу. Насколько они лучше наших переделкинских (мещанских) детей. В библиотеке я много читал им своего – они внимательнейше слушали. Потом бегали по скамьям, показывали физкультурные номера, взлезали на деревья, девчонки не хуже мальчишек. Мне даже учителя их понравились.
А вчера – 9-го – были у меня мои ПРАВНУКИ – Боба и Юра Неправдоподобно красивые. С огромными глазищами. И хотя они-то уж наверняка «из мира вытеснят меня», я простил им это преступление – уж очень они хороши, с огромными запасами жизни, трудно представить себе, что они когда-нибудь умрут.
Юра – трусоватый, изящный, Боба – смелый, отчаянный. Чуть увидел собаку Мишку, стал гладить его без раздумья, а Юра прятался за юбку Инны – и обходил Мишку за пять шагов.
Октябрь 12. Сегодня сидел у своей могилы – вместе с Лидой – и думал, что я, в сущности, прожил отличную жизнь, даже могила у меня превосходная.
Сегодня Таня Литвинова читала мне свой перевод Чивера – открытого мною писателя: о доброй, благодушной, спокойной женщине – которая меняет любовников, как чеховская Душенька мужей, – и только в конце выясняется, что это символ Смерти.
7 ноября. Праздник. В сущности, праздник был у меня вчера: Лида прочитала мне отрывки из своего дневника о Тамаре Гр. Габбе{2} – и свои воспоминания о ней… Впечатление огромное. Габбе была одной из самых одухотворенных – и вследствие этого – самых несчастных женщин, каких я когда-либо знал. У Лиды одухотворенность Тамары Григорьевны ощущается в каждом ее слове, каждом движении.
11 ноября. В Большом зале Дома Литераторов, набитом битком, сегодня был вечер памяти Квитко.
Кассиль сказал прекрасную речь, где сказал, что враги, погубившие Квитко, – наши враги, враги нашей культуры, нашего советского строя. Это место его речи вызвало гром аплодисментов. К сожалению (моему), он сказал, что я первый открыл поэзию Квитко. Это страшно взбаламутило Барто, которая в своей речи («я… я… я…») заявила, что Квитко открыла она.
Перед нею было мое выступление – очень сердечно принятое слушателями. Все понимали, что совершается великий акт воскрешения Квитко, и радовались этому воскрешению…
7 декабря. Сегодня открытие Пленума по детской литературе. Было от чего прийти в отчаяние. В Президиум выбраны служащие всех трех правлений, а подлинные писатели, вроде Барто, были в публике. Уровень низкий, чиновничий.
Вместо того чтобы прямо сказать: «Писателишки, хвалите нас, воспевайте нас», начальство заводит чиновничьи речи о соцреализме и пр. Но все понимают, в чем дело.
19 декабря. Сегодня часа в 4 вечера промчалась медицинская «Победа». Спрашивает дорогу к Кожевникову. У Кожевникова – сердечный приступ. Из-за романа Вас. Гроссмана. Вас. Гроссман дал в «Знамя» роман (продолжение «Сталинградской битвы»), который нельзя напечатать. Это обвинительный акт против командиров, обвинение начальства в юдофобстве и т. д. Вадим Кожевников хотел тихо-мирно возвратить автору этот роман, объяснив, что печатать его невозможно. Но в дело вмешался Д.А.Поликарпов – прочитал роман и разъярился. На Вадима Кожевникова это так подействовало, что у него без двух минут инфаркт{3}.
Роман Казакевича – о Ленине в Разливе{4} – вырезан из «Октября», ибо там сказано, что с Лениным был и Зиновьев.
27 декабря. На свадьбе своего сына Максима Дмитрий Дмитриевич Шостакович повредил себе ногу и пролежал три месяца в больнице. Теперь он из больницы выписывается – и вчера Женя пришел ко мне просить для него «ЗИМ». Оказывается, композитор с мировым именем не имеет нужного транспорта, чтобы добраться до дома.
Коля рассказывает, что Казакевич, роман которого вырезали из «Октября», послал Хрущеву текст романа и телеграмму в триста слов.
Через 3 дня Казакевичу позвонил секретарь Хрущева и сказал, что роман великолепный, что именно такой роман нужен в настоящее время, что он так и доложит Н.С-чу.








