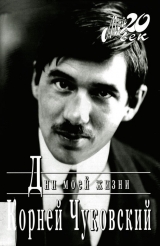
Текст книги "Дни моей жизни"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 50 страниц)
Скоро выяснилось, что даже лежание с чемоданами на грязном перроне есть великая милость: каждые десять минут появляется бешеный и замученный служащий, который гонит нас отсюда в «залу» третьего класса, где в невероятном зловонии очень терпеливо и кротко лежат тысячи пассажиров «простого звания», с крошечными детьми, мешками, разморенные голодом и сном – и по всему видно, что для них это не исключение, а правило. Русские люди – как и в старину – как будто самим Богом созданы, чтобы по нескольку суток ожидать поездов и лежать вповалку на вокзалах, пристанях и перронах.
При этом ужасны носильщики – спекулянты, пьяницы и воры.
Достал я билеты при помощи наглости; я, во-первых, заявил начальнику армавирской станции, что я из КСУ{4} при Совнаркоме, а во-вторых, притворились вместе с одной барыней иностранцами. Это дало нам доступ в битком набитый поезд, идущий на Сочи (via Туапсе). В Туапсе мы пробыли весь день, Т. к. пароход «Грузия» отбыл только в 10 ч. вечера. Жарко, пыльно, много гнусного, много прекрасного – и чувствуется, что прекрасное надолго, что у прекрасного прочное будущее, а гнусное – временно, на короткий срок. (То же чувство, которое во всей СССР.) Прекрасны заводы Грознефти, которых не было еще в 1929 году, рабочий городок, река, русло которой отведено влево (и выпрямлено не по-угрюм-бурчеевски). А гнусны: пыль, дороговизна, азиатчина, презрение к человеческой личности. И хорошего, и плохого мы хлебнули в тот день достаточно.
Вечером мы благополучно очутились на «Грузии». Первый класс есть, собственно, третий класс. Вся палуба усеяна телами, теми сплошными русскими телами, которые как будто специально сделаны, чтобы валяться на полу вокзалов, перронов, трюмов и пр. А наверху – там, где вход для «черни» запрещен, несколько плантаторов в круглых очках, презрительных и снежноштанных. В уборной никто не спускает воды, на палубе подсолнушная шелуха, на 300 человек одно интеллигентное лицо; прислуга нагла, и, когда я по рассеянности спросил у лакея, заплачено ли за талон для обеда, который купила для меня М.Б., он сказал: «Верно, вы нашли его на палубе?»
И все же морское путешествие – для меня высшее счастье – и я помню весь этот день как голубой сон, хотя я и ехал в могилу. И вот уже тянется мутная гряда – Крым, где ее могила. С тошнотою гляжу на этот омерзительный берег. И чуть я вступил на него, начались опять мои безмерные страдания. Могила. Страдания усугубляются апатией. Ничего не делаю, не думаю, не хочу. Живу в долг, без завтрашнего дня, живу в злобе, в мелочах, чувствую, что я не имею права быть таким пошлым и дрянненьким рядом с ее могилой – но именно ее смерть и сделала меня таким. Теперь только вижу, каким поэтичным, серьезным и светлым я был благодаря ей. Все это отлетело, и остался… да, в сущности, ничего не осталось.
8/VIII. Ночь. Приехал сюда 3 дня назад. В Москве стоит удушливая жара – небывалая. Был в доме, где живет Горький. Дом ремонтируют, по приказу Моссовета. Вход со Спиридоновки, со двора. Маленькая дверка. Прихожая. Только что крашенный пол. На полу газеты, чтобы не испортили краску ногами. Прихожая пуста. – Вам кого? – это спящий детина – из соседней комнаты. – Крючкова. – Сейчас. – Крючков, располнелый, усталый и навеселе: – Позвоните завтра, я скажу вам, когда примет вас Горький. – Хорошо. – Но завтра Крючкова нет, он в Горках у Горького, и Тихонов тоже там. Звоню два дня, не могу дозвониться. Изредка посещаю прихожую. Там – кран. Это очень приятно в жару. Чуть приду, полью себе на голову холодной воды – и вытру лицо грязноватым полотенцем.
Вглядываюсь: это не полотенце, а фартух коменданта (он же швейцар и дворник). Неужели я приехал в Москву, чтобы вытирать лицо фартухом коменданта того дома, где живет Горький.
16/VIII. Вчера единственный сколько-нб. путный день моего пребывания в Москве. С утра я поехал в ГИХЛ, застал Накорякова: Уитмэн уже сверстан; чуть будет бумага, его тиснут. «Шестидесятники» тоже в работе. Оттуда к Горькому, то есть к Крючкову. Московский Откомхоз вновь ремонтирует бывший дом Рябушинского, где живет Горький, и от этого дом сделался еще безобразнее. Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолки, окна – всюду эта мерзкая пошлятина. Теперь покрашена, залакирована и оттого еще бесстыжее. Крючков, сукин сын, виляет, врет, ни за что не хочет допустить меня к Горькому. Мне, главное, хочется показать Горькому «Солнечную»{5}. Я почему-то уверен, что «Солнечная» ему понравится. Кроме того, черт возьми, я работал с Горьким три с половиною года, состоял с ним в долгой переписке, имею право раз в десять лет повидаться с ним однажды. «Нет… извините… Алексей Максимович извиняется… сейчас он принять вас не может, он примет вас твердо… в 12 часов дня 19-го». И не глядит в глаза, и изо рта у него несет водкой. Страшно похож на клопа. За что он меня ненавидит, не знаю.
Из «Academia» – в Дом Герцена обедать. Еще так недавно Дом Герцена был неприглядной бандитской берлогой, куда я боялся явиться: курчавые и наглые раппы били каждого входящего дубиной по черепу. Теперь либерализм отразился и здесь. Сейчас же ко мне подкатилась какая-то толстая: «К.И., что вы думаете о детской литературе? Позвольте проинтервьюировать вас…» В «Литературной газете» меня встретили как желанного гостя. «Укажите, кто мог бы написать о вас статью». Я замялся. В это время в комнату вошел Шкловский. «Я напишу – восторженную». В столовой я встретил Асеева, Бухова, Багрицкого, Анатолия Виноградова, О.Мандельштама, Крученыха, и пр., и пр., и пр. И проехал из столовой к Леониду Гроссману. Леонид Гроссман читает нам статью о новонайденных черносотенных статьях Достоевского (в «Гражданине»), Статья вялая, не всегда доказательная, но я слушаю с удовольствием, так как давно не слыхал ничего литературного. С Леонидом Гроссманом я имел разговор по интересующим меня некрасовским делам.
18/VIII. У Шкловского мне понравилось больше всего. Я долго разыскивал его в дебрях Марьиной Рощи. И вот на углу двух улиц какие-то три не то прачки, не то домхозяйки поглядели на меня и сказали:
– А вы не Шкловского ищете?
– Да.
– Ну идите вона в тот дом, что справа, вон рыженькая дверь, – и т. д.
Узнали по моему лицу, по фигуре, что мне нужен Шкловский!
И тут за чаем начал участливый разговор обо мне. «Бросьте детские книги и шестидесятников. Вы по существу критик. Пишите по своей специальности. Вы человек огромного таланта и веса. Я буду писать о вас в „Литгазету“ – пролью о вас слезу, – Харджиев: „Крокодилову“, – а вы займитесь Джойсом. Непременно напишите о Джойсе».
28/IX. Третьего дня в Аккапелле{6} мы, писатели, чествовали Горького. Зал был набит битком. За стол сели какие-то мрачные серые люди казенного вида – под председательством Баузе, бывшего редактора «Красной газеты». Писатели, нас было трое – я, Эйхенбаум и Чапыгин, чувствовали себя на этом празднике лишними. Выступил какой-то жирный, самоуверенный, агитаторского стиля оратор – и стал доказывать, что Горький всегда был стопроцентным большевиком, что он всегда ненавидел мещанство, – и страшно напористо, в течение полутора часов, нудно бубнил на эту безнадежную и мало кому интересную тему. Я слушал его с изумлением: видно было, что истина этого человека не интересовала нисколько. Он так и понимал свою задачу: подтасовать факты так, чтобы получилась заказанная ему по распоряжению начальства официозная версия о юбиляре. Ни одного живого или сколько-нб. человечного слова: штампы официозной стилистики из глубоко провинциальной казенной газеты. Публика до такой степени обалдела от этой казенщины, что когда оратор оговорился и вместо «Горький» сказал «Троцкий» – никто даже не поморщился. Все равно! Потом выступил Эйхенбаум. Он вышел с бумажкой – и очень волновался, Т. к. уже года 3 не выступал ни перед какой аудиторией. Читал он маловразумительно – сравнивал судьбу Тургенева и Толстого с горьковской, – резонерствовал довольно вяло, но вдруг раздался шумный аплодисман, Т. к. это было хоть и слабое, но человечье слово. – После Эйхенбаума выступил Чапыгин. Он «валял дурака», это его специальность. что с меня возьмешь, уж такой я дуралей уродился! Такова его манера. Он так и начал: «Горький хорошо меня знает, как же! И конечно, любит!» А потом рассказал о себе: как он писал «Разина Степана», – и тоже всё пустяки: «бумаги не было, писал на больничных квитанциях»… «А мою пьесу из 12 века Блок похвалил, как же!» – шутовское откровенное самохвальство. Все это «чествование» взволновало меня: с одной стороны – с государственной, – целые тонны беспросветной казенной тупости, с другой стороны – со стороны литераторов – со стороны Всероссийского Союза Писателей, – хилый туманный профессор и гороховый шут. И мне захотелось сообщить о Горьком возможно больше человеческих черт, изобразить его озорным, веселым, талантливым, взволнованным, живым человеком. Я стал говорить о его остротах, его записях в Чукоккалу, забавных анекдотах о нем, читал отрывки из своего дневника – из всего этого возник образ подлинного, не иконописного Горького – и толпа отнеслась к моим рассказам с истинной жадностью, аплодировала в середине речи и, когда я кончил – так бурно и горячо выражала свои чувства, что те, казенные, люди нахмурились. Потом выступил какой-то проститут и мертвым голосом прочитал телеграмму, которую писатели, русские писатели, посылают М.Горькому. Это было собрание всех трафаретов и пошлостей, которые уже не звучат даже в Вятке. В городе Пушкина, Щедрина, Достоевского навязать писателям такой адрес и послать его другому писателю! И какой длинный, строк на 300, – и как будто нарочно старались, чтобы даже нечаянно не высказалась там какая-нб. самобытная мысль или собственное задушевное чувство. Горькому дана именно такая оценка, какая требуется последним циркуляром. И главное, даже не показали нам того адреса, который послали от нашего имени. Да и странно вели себя по отношению к нам: словно мы враждебный лагерь, даже не глянули в нашу сторону.
11/Х. Видел Бориса Лавренева. Он говорит по поводу того, по Нижний переименовали в Горький. Беда с русскими писателями: одного зовут Мих. Голодный, другого Бедный, третьего Приблудный – вот и называй города.
14/Х. Вчера парикмахер, брея меня, рассказал, что он бежал из Украины, оставил там дочь и жену. И вдруг истерично: «У нас там истребление человечества! Истреб-ле-ние чело-вечества. Я знаю, и думаю, что вы служите в ГПУ (!), но мне это все равно: там идет истреб-ле-ние человечества. Ничего, и здесь то же самое будет. И я буду рад, так вам и надо!» и пр.
«Academia» до сих пор не заплатила. «Молодая гвардия» тоже. Просто хоть помирай. У банков стоят очереди, даже в сберкассах выдают деньги с величайшим трудом.
Подхалимляне. Писательский съезд.
21/XI поплелся в «Издательство писателей»: сдавать в печать своих «Маленьких детей». Я все еще не верю, что эта книга выйдет новым изданием, я уже давно считал ее погибшей. Но около месяца назад, к моему изумлению, ее разрешила цензура, и художник Кирнарский, заведующий художественным оформлением книг «Издательства писателей», выработал вместе со мною тип ее оформления.
Во время моей болезни был у меня милый Хармс. Ему удалось опять угнездиться в Питере. До сих пор он был выслан в Курск и долго сидел в ДПЗ. О ДПЗ он отзывается с удовольствием; говорит: «прелестная жизнь». А о Курске с омерзением: «невообразимо пошло и подло живут люди в Курске». А в ДПЗ был один человек – так он каждое утро супом намазывался, для здоровья. Оставит себе супу со вчера и намажется… А другой говорил по всякому поводу «ясно-понятно». А третий был лектор и читал лекцию о луне так: «Луна – это есть лунная поверхность, вся усеянная катерами» и т. д.
В Курске Хармс ничего не писал, там сильно он хворал. – Чем же вы хворали? – «Лихорадкой. Ночью, когда, бывало, ни суну себе градусник, у меня всё 37,3. Я весь потом обливаюсь, не сплю. Потом оказалось, что градусник у меня испорченный, а здоровье было в порядке. Но оказалось это через месяц, а за то время я весь, истомился».
Таков стиль всех рассказов Хармса.
Его стихотворение:
А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ? —
Боба заучил наизусть и говорит целый день.
22/ХІІ. Ездил за это время в Москву с Ильиным и Маршаком на пленум ВЛКСМ. В Кремле. Нет перчаток, рваное пальто, разные калоши, унижение и боль. Бессонница. Моя дикая речь в защиту сказки. Старость моя и обида. И мука, оттого что я загряз в Николае Успенском – который связал меня по рукам и ногам. Ярмо «Академии», накинутое на меня всеми редактурами, отбивающими у меня возможность писать. Вернулся: опять насточертевший Некрасов, одиночество, каторга подневольной работы. 5 дней тому назад был у Федина{7}. Потолстел до неузнаваемости. И смеется по-другому – механически. Вообще вся вежливость и все жесты машинные. Одет чудно: плечи подняты, джемпер узорчатый. Всякий приходящий раньше всего изумлялся его пиджаку, потом рассматривал заграничные книги (Ромэн Роллан, Горький идр.), потом спрашивал: «Ну что кризис?» И каждому он отвечал заученным механически-вежливым голосом. Но то, что он говорит, очень искренне. «В Луге я и одна американочка вышли в буфет (поразили больничные зеленые лица), стоял в очередях за ложкой, за стаканом, ничего не достал, поезд тронулся, я впопыхах попал не в немецкий вагон, а в наш жесткий – и взял меня ужас: грязно, уныло, мрачно. Я еще ничего не видел (сижу дома из-за слякотной зимы, жду снега, чтобы уехать в Детское, я ведь меняю квартиру), но все похудели, осунулись… и этот тиф…» – и, словом, начались разговоры, совсем не похожие на те интервью, которые он дал по приезде в газеты.
23/ХІІ. Сегодня утром пришел ко мне Шкловский. Рассказывал о своей поездке к брату – который сослан на принудительные работы куда-то на Север. М.Б. накинулась на него из-за Тынянова: – Да как вы смели напасть на «Восковую персону»? И в какое время – когда все со всех сторон травили Тынянова? Вы, лучший друг.
Шкловский оправдывался: – Во-первых, Тынянова никогда не травили. Бубнов дал распоряжение печати не трогать Тынянова. Я не только Тынянова, я Горького обличил в свое время, – и т. д.
Мы решили помирить их и позвали обоих обедать. Они были нежны, сидели рядом на диване, вспоминали былое. – Ты стал похож лицом на Жуковского! – говорил Тынянов. – И это недаром, в тебе есть немало его психических черт. Даром такого сходства никогда не бывает. Заметили ли вы, напр., как Ал. Толстой похож на Кукольника? И карьера, в сущности, та же. И даже таланты схожи! – Обед прошел натянуто, так как была докторша Серафима Моисеевна Иванова из Алупки. Потом Шкловский у камина стал читать свои «стихотворения в прозе» – отрывки о разных любвях – заглавия этой книги еще нет, и голос у него стал срываться.
– Старик, что ты волнуешься? – спросил Тынянов.
– Я не могу читать.
И действительно не мог: законфузился. В этих отрывках есть отличные куски. Но Тынянов не только не сказал о них ни одного доброго слова, но стал почему-то сравнивать их с тупоумными анекдотами Клайста, один из которых процитировал по памяти. Так никакой спайки и не вышло. Мы в этот день торопились на Утесова и вышли вместе. Тынянов нарочно пошел нас провожать, лишь бы не остаться наедине с Шкловским.
1933
Сейчас, 25/I 33 г., был юбилей А.Н.Толстого. Более казенного и мизерного юбилея я еще не видел. Когда я вошел, один оратор говорил: «Нам не пристала юбилейная лесть. Поэтому я прямо скажу, что описанная вами смерть Корнилова не удовлетворяет меня, не удовлетворяет советскую общественность. Вы описали смерть Корнилова так, что Корнилова жалко. Это большой минус вашего творчества»… Лаврентьев сказал чудесную речь, по-актерски – от имени Театра им. Горького. Встал на эстраду, возле Толстого, чего другие не делали, – и сказал о том, что «все сделанное тобою – это только первая твоя пятилетка – и у тебя еще все впереди». Толстой похудел, помолодел, – несколько смущен убожеством юбилея. В президиуме Старчаков, Лаганский, Шишков и Чапыгин и какие-то темные безымянные личности. Лаганский вышел с пучком телеграмм, но ни от Горького, ни от Ворошилова – ни от кого нет ни одного слова, а только от Рафаила (!), от Мейерхольда, от театра Мейерхольда, еще две-три – «и больше никаких поздравлений нет», наивно сказал Лаганский.
Я, впрочем, опоздал: был у Веры Смирновой, у которой смертельно больна девочка Ирочка…
28/I. Троцкисты для меня были всегда ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как характеры. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и помощника присяжного поверенного. Что-то есть в нем от Керенского. У меня к нему отвращение физиологическое. Замечательно, что и у него ко мне – то же самое: в своих статейках «Революция и литература» он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытывал к нему{1}.
16/IX. Кисловодск. Халатов заболел. Вчера я навестил его. У него болит бок, грелка на животе. Температура 35°. Заговорил сперва о С.Третьякове. Третьяков работал где-то в Северном Кавказе в колхозе, захватил там страшную малярию, припадки которой чуть не убили его. Потом заговорили о Горьком. Халатов обижен на Горького. «Я ведь в конце концов главным образом способствовал сближению Горького с СССР – не только по линии ОГИЗа, но и лично. Познакомился я с Горьким в 1918 году – и сблизился с ним. Побывав у Владимира Ильича в Кремле, он всегда заходил ко мне в Наркомпрод. Мы были по соседству. „Зачем вы пригреваете Роде? Разве вы не знаете, какая это сволочь?“ – сказал я Горькому. Горький обиделся, отвернулся. Но вот является к нам Роде с записками от Горького. Мы всегда удовлетворяли его просьбы, но на этот раз они внушили нам сомнения. Очень наглые и ни с чем не совместимые были требования. Мой секретарь заметил, что подписи под записками горьковские, а текст – написан самим Роде. Роде получил от Горького несколько десятков пустых бланков – и сам заполнял их как вздумается. Пользуясь этими бланками, он получал у нас вагоны муки, которыми нагло спекулировал. Я решил отобрать у него эти бланки. Мы напоили Роде и, когда он был пьян, выкрали у него из портфеля 12 или 15 бланков с подписью Горькою… Года через три я вручил их Алексею Максимовичу».
«В 1921 (кажется) году Владимир Ильич послал меня в Берлин к Горькому с собственноручным письмом. К тому времени Горький уже порвал с Роде, но я этого не знал. Роде встретил меня в Штеттине – пышно, приготовил мне в вагоне целое отделение и ввел туда двух девчонок, одну немку, одну русскую. Ехавший со мною Шаляпин сказал ему: „Убери этих б. Ты не в ту точку бьешь“. Он девчонок убрал, но, привезя меня на Фридрих-штрассе, ввез меня в гостиницу „Russische Hoff“[77]77
«Русское подворье» (нем.).
[Закрыть], белогвардейское гнездо. А я не знаю, что это за гостиница, останавливаюсь там с письмом Ленина, с кучей конспиративных бумаг. Номер у меня был роскошный, с ванной и уборной, но я так взволновался, что у меня расстроился живот и я сгоряча (!) попал в женскую уборную. Сижу и слышу: женские голоса; а гостиница большая, уборная полная. Я 40 минут ждал – не уйдут ли женщины. Но одни уходят, другие приходят. В конце концов я выскочил, все страшно завизжали, и в результате меня оштрафовали на 200 марок за вторжение в дамскую уборную. Я позвонил в наше посольство. Мне говорят: зачем вы остановились в белогвардейском притоне? Сидите и не двигайтесь, мы приедем на выручку. Спасли меня из пап Роде. Я приехал к Горькому, говорю ему: „Опять ваш Роде“. А он: „Я уже с Роде порвал совершенно“».
«Сколько раз он ставил Горького в фальшивое положение. Было однажды так: Владимир Ильич удовлетворил все просьбы Горького по поводу разных писательских нужд. Горький был очень рад. Пришел ко мне и минут 20 сидел без движения и все улыбался. Мои сотрудники смотрели на него с удивлением. Потом он сказал: приходите ко мне с Ильичом чай пить. В Машков переулок. Пришли мы с Ильичом. Горький стоит внизу у входа, извиняется, что лифт не работает. Поднялись мы к нему на 5 этаж. Сели за стол. Вдруг открываются двери в детскую комнату, там хор цыган, которым управляет Роде!! Ильич ткнул меня большим пальцем: „влипли“. Горький нахмурился, сказал „извините“ и пошел к Роде и закрыл за собою двери. Через секунду весь хор был ликвидирован. Горький вернулся смущенный».
Любопытна также история отношений Горького к Халатову после падения Халатова. «Он написал мне очень плохое письмо. Очевидно, ему продиктовали. А когда мы встретились – после его приезда – сам пригласил меня в свою машину, попрощался со всеми встречавшими, обнимал меня, был втройне ласков. Когда я пришел к нему в гости, так обрадовался, что соскочил с табурета и, если бы я не поддержал его, упал бы».
Разговор был дружеский. Длился часа два. Вечером у меня в комнате был Тихонов, и я читал ему свою статью «Толстой и Дружинин». Тихонов говорит о Горьком, что тот страшно изменился: стал прислушиваться к советам докторов, принимает лекарства, заботится о своем здоровье. Работает страшно много: с утра до позднего вечера за письменным столом. А вечером играет в «подкидного дурака» и – спать.
18/IX. Вчера у Халатова. Он читал газету – и вдруг вскрикнул: «Ну уж это никуда не годится». В «Правде» опубликовано постановление ЦК ВКП(б) (от 15/IX) «Об издательстве детской литературы». Постановление явилось сюрпризом для Халатова, представителя горьковской партии. Горький, Маршак, Халатов были уверены, что Детгиз будет в Ленинграде, что заведующим Детгизом будет Алексинский, что Детгизу будет предоставлена собственная типография. Все эти планы, как и предсказывала Лядова во время моего свидания с нею в Москве (2/VIII), потерпели крушение.
Вчера Тихонов прочитал мне свои очень талантливые воспоминания о Чехове. Я опять взволновался Чеховым, как в юности, и опять понял, что для меня никогда не было человеческой души прекраснее чеховской.
24. IX. Среди здешних больных есть глухая женщина, Лизавета Яковлевна Драбкина, состоящая в партии с 4-хлетнего возраста. Ее мать во время московского восстания ездила в Москву, вся обмотанная бикфордовым шнуром, и брала ее, девчонку, с собою – для отвода глаза, наряжаясь как светская барыня. Ее отец – С.Н.Гусев. Ее муж – председатель Чека{2}. Вчера она рассказывала свои приключения в отряде Камо – после чего я не мог заснуть ни одной минуты. Приключения потрясающие. Камо увез Лизавету Яковлевну в лесок под Москвой вместе с другими молодыми людьми, готовящимися «убить Деникина», и там на них напали белые из отряда – и стати каждого ставить под расстрел. Лизавета Яковлевна, которой было тогда 17 лет, стала петь «Интернационал» в ту минуту, когда в нее прицелились, но четверо из этой группы не выдержали и стали отрекаться от своей боевой организации, выдавать своих товарищей. Потом оказалось, что Камо все это инсценировал, чтобы проверить, насколько преданы революции члены его организации. Дальнейшие приключения Елизаветы Яковлевны в качестве пулеметчицы поразительны. Рассказывала она о них с юмором, хотя все они залиты человеческой кровью, и чувствуется, что повторись это дело сейчас, она снова пошла бы в эту страшную бойню с примесью дикой нечаевщины.
21/X я приехал в Ленинград. Весь день разбирал письма, присланные мне читателями по поводу моей книги «От двух до пяти».
Ночь с 23 на 24/XI. Завтра мое выступление в Камерной Музыке. Впервые на этом утреннике выступит певица Денисова и будет исполнять мои песни. Музыка Стрельникова. Три дня тому назад я в ТЮЗе поговорил с ним об этом, и он сказал, что за 2 дня все сделает, – и сделал: сразу омузыкалил 6 вещей: – «Барабека», «Котауси», «Медведя», «Чудо-дерево» и пр. Будет также выставка моих книжек (детских).
26/XI. Был мой концерт в Камерной Музыке (24/ХІ). Ходынка. Народу набилось столько, что композитор Стрельников не мог протискаться и ушел. Ребята толпились даже на улице. Отношение ко мне самое нежное – но у меня тоска одиночества. Отчего, не знаю. Лида, которая так интересуется детскими делами, даже не спросила меня, как сошел мой утренник. Ни один человек не знает даже, что я не только детский писатель, но и взрослый.
Вчера был у Татьяны Ал. Богданович – на семейном сходьбище: были Шура, Таня, Володя и Соня. Пришел Тарле и стал уговаривать меня бросить детские мои книги – и взяться за писание «таких книг, как о Некрасове». Сравнивал меня с Сент-Бёвом и проч. Недовольство собой возросло у меня до ненависти.
21/XII. Сбивают с нашей Спасской церкви колокола. Ночью. Звякают так, что вначале можно принять за благовест. Сижу над дурацкой статьей об Институте охраны материнства и младенчества. Мешают спать!
25/XII. Был вчера Тынянов. Пришел с какого-то заседания очень усталый и серый, но через несколько минут оживился Никогда я не видел его в таком ударе, как вчера. Мы сидели у камина в моей комнате, и, говоря о Пиксанове, он стал вдруг говорить его голосом – пепельно-скучным и педантически надоедливым. Сразу весь Пиксанов встал перед нами – я увидел и очки, и сухопарые руки. Тынянов говорит, что Пиксанов в Пушкинском Доме садится у телефона и целыми часами бубнит какую-то ненужную скуку: «Ту синюю тетрадь, которую я показал вам вчера, положите на правую полку, а той книги, которая у меня на столе, не кладите на левую полку – ту книгу, которая у меня на столе, нужно положить на правую полку».
Показывал Переселенкова, у которого все спуталось в голове: и Огарев, и жена Томашевского, и 50 руб. пенсия. Рассказывал историю с Оксманом, который уже 1½ года пишет статью о Рылееве – и не написал ни строки, хотя разыскал огромное множество текстов и чудесно знает, что написать. «Мы с ним сначала ссорились: „Давай статью!“, потом я унижался перед ним, пресмыкался, ничего не помогает». Кончилось тем, что книга пошла в набор без его статьи – и он обещал дать 4 страницы введения – но подвел и с этими 4 страницами.
Чудесное настроение Тынянова, конечно, объясняется тем, что ему пишется. Он пишет свой роман о Пушкине – и вчера читал нам тот отрывок, который изображает встречу няни Пушкина с Павлом. Отрывок очень мускулистый: встрече с Павлом придана широкая символичность, сквозь нежные цветистые речи изображен весь военизованный Петербург. Я сказал, что мне не понравилось одно слово: он механически поцеловал его. В то время не говорили механически, а машинально. Он очень благодарил, с преувеличенными комплиментами по адресу моего абсолютного литературного слуха. Предложил мне редактировать Шевченку для «Библиотеки поэтов» – и долго читал нам свои переводы из Гейне: «Германию», а также «Осел и лошадь». Снова он верит в себя, снова окрылен своим творчеством, прошла пора каких-то проб и неудач, и от него идет та радиация, которая, я помню, шла от Репина, когда ему удавался портрет. К сожалению, вечером я должен был уйти – выступать в школе с благотворительной целью – вернулся к 12 час. Ю.Н. все еще сидел у нас и показывал Тициана Табидзе, от которого он получил письмо.








