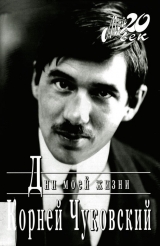
Текст книги "Дни моей жизни"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 50 страниц)
Вечером к Збарским. Он сейчас из Парижа. Рассказывал, как любят нас французы и как разрушен Кенигсберг; какие руины в Берлине, – и взялся устроить меня в онкологический институт на операцию. И я вдруг почувствовал радость, что у меня рак и что мне скоро уйти из этого милого мира, я почувствовал, что я и вправду – страдалец – банкрот – раздавленный сапогом неудачник. Абсолютно ни в чем не виновный. Я вспомнил свою жизнь – труженическую, вспомнил свою любовь – к детям, к книгам, к поэзии, к людям, вспомнил, как любили меня когда-то Тынянов, Леонид Андреев, Кони, как тянулись ко мне миллионы детей, – и увидел себя одинокого, жалкого, старого на эстраде безлюдного клуба… оклеветанного неизвестно за что…
21/XII. Ночь. Сегодня утром в 10 часов за мной приедет машина и повезет меня в клинику, где д-р Левит, специалист по раку, онколог. Лучше 10 операций, лучше смерть, чем одна заметка в «Литературе и жизни», написанная лжецом и прохвостом, пятнающая твое доброе имя.
НОВЫЙ 1947 ГОД
8 января. Был у Левита. Конечно, у меня РАК. (Cancer.) 21–25 будет 1-я ОПЕРАЦИЯ. – М.Б. стала ко мне мягче и уступчивее. Очевидно, Левит сказал ей. Но как я себя чувствую? Очень неплохо. Заметка в «Культуре и жизни» взволновала меня гораздо сильнее. И вот почему. Там чувствуешь полную несправедливость и лживость, а здесь есть закономерность, свой резон. Никаких возражений не вызывает такая короткая запись: К.И.Ч. (1882–1947).
10 февраля. 8½. Через час операция. Я спокоен. Написал сегодня для Зильберштейна заметку для «Художественного наследства». Здесь в больнице – серьезный, терпеливый, симпатичный народ. Операции тяжелые, страдания огромные – но персонал заботливый, дисциплина.
17 февраля. Вчера были Збарские. Он, оказывается, изобрел когда-то производство хлороформа в России. По этому поводу был вызван из провинции принцем Ольденбургским в столицу, который и приказал реализовать изобретение. Збарский очень живо показал этого умного и дельного старика. В 1916 г. Борис Ильич много заработал на своем изобретении.
17/III. 1947. Недавно в «Литгазете» был отчет о собрании детских писателей, на котором выступал и я. Газета перечисляла: Маршак, Михалков, Барто, Кассиль и другие. Оказалось, что «и другие» – это я.
Замечательнее всего то, что это нисколько не задело меня.
Когда-то писали: «Чуковский, Маршак и другие». Потом «Маршак, Чуковский и другие». Потом «Маршак, Михалков, Чуковский и другие». Потом – «Маршак, Михалков, Барто, Кассиль и другие», причем под этим последним словом разумеют меня, и все это не имеет для меня никакого значения. Но горько, горько, что я уже не чувствую в себе никакого таланта, что та власть над стихом, которая дала мне возможность шутя написать – «Муху Цокотуху», «Мойдодыра» и т. д., совершенно покинула меня, и я действительно стал «и другие».
16 июля. Среда. Вчера у Федина – пожар. Дом сгорел, как коробка спичек. Он – седой и спокойный, не потерял головы. Дора Сергеевна в слезах, растерянная. Я, Лида, Катя – прибежали с ведрами. Воды нет поблизости ни капли. Бегали к Треневым. Больше всего работали Югов, Херсонский и я. Прибежали деревенские ребята и ободрали все яблони, всю землянику. Лида спасла от них кучу вещей. Я, совершенно не чувствуя старости, носил воду, залил одно загоревшееся дерево. Литфонд показал себя во всей красе: ни багра, ни бочки с водой, ни шланга. Стыд и срам. Пожар заметили так рано, что могли бы потушить 10-ю ведрами, но их не было.
17 декабря. Детиздат в октябре был должен мне 20 тысяч. Хоть я ходил в бухгалтерию этого учреждения каждый день – умоляя перевести мне деньги, он перевел их только 13-го – и они не успели дойти до действия декрета{1}. Таким образом, я опять обнищал. Работаю я сейчас над 3-м томом Некрасова…
30/XII. Вчера окончательно выяснилось, что из 21 тысячи у меня стало 2100 и опять от меня ушла машина, которая нужна мне как хлеб.
Квитке я написал такое поздравление:
Если бы не Детиздат,
Был бы я теперь богат
И послал бы я друзьям
Двадцать тысяч телеграмм,
Но меня разорил он до нитки
И нанес мне такие убытки,
Что приходится, милые Квитки,
Поздравлять Вас сегодня в открытке.
1948
7 января. Ночь. Целую ночь – с часу до пяти читал «Трудное время» Слепцова, – прелестная, талантливая вещь – единственная прелестная вещь 60-х годов. Каждый человек не двух измерений, как было принято в тогдашней беллетристике, а трех измерений, и хотя схема шаблонная, но нигде ни одной шаблонной строки. Вот истинный предтеча Чехова.
Так как Детиздат разорил меня, я согласился ежедневно выступать на детских елках, чтобы хоть немного подработать. А мне 66 лет, и я имею право отдохнуть. Боже, как опостылела мне эта скорбная, безысходная жизнь.
20 декабря. Сегодня сдал в Детгиз обновленного и исправленного «Робинзона Крузо» с предисловием. Предисловие бесцветное, и ради него не стоило читать так много о Дефо, как прочел я: и у «Чемберса», и в «Encyclopedia Britannica», и в «Cambridge History of English Literature»[93]93
«Энциклопедия Британника», «Кембриджская история английской литературы» (англ.).
[Закрыть], и у Алибона изучил его биографию, достал библиографию его трудов, а написал 1½ странички банального текста.
30 декабря. На улице слякоть. Прежде Рождество было морозное, а Пасха – слякотная. Теперь почти всегда наоборот.
Сегодня начинаются детские каникулы.
Был Андроников. Принес свою книгу о Лермонтове. Рассказал о своей актюбинской находке; показал список реликвий, вывезенных им из Актюбинска. Гениально говорил – о дикости, заброошенности, вульгарности этого мрачного города. Рассказал историю Бурцева, собравшего столько ценнейших бумаг: Письма Лермонтова, Некрасова, весь булгаринский архив, письма Чехова, Карамзина, Ломоносова.
И как он рассказал обо всем этом! Для меня нет никакого сомнения, что Андроников человек гениальный. А я – стал убого-бездарным, – и кажется, это стало всякому ясно. И мне совестно показываться в люди, как голому.
Другого гениального человека я видел сегодня, Илью Зильберштейна. Героическая, сумасшедшая воля. Он показал мне 1-й том своего двухтомного сборника «Репин»{1}. Изумительно отпечатанный, и какая у Зильберштейна пытливость, какая любовь к своей теме. Это будет огромным событием – эти две книги о Репине. Какой материал для будущего биографа Репина.
1949
1 января. На 1948 год лучше не оглядываться. Это был год самого ремесленного, убивающего душу кропанья всевозможных (очень тупых!) примечаний к трем томам огизовского «Некрасова», к двум томам детгизовского, к двум томам «Библиотеки поэта», к однотомнику «Московского рабочего», к однотомнику ОГИЗа, к Авдотье Панаевой, к Слепцову и проч., и проз., и проч. Ни одной собственной строчки, ни одного самобытного слова, будто я не Чуковский, а Борщевский, Козьмин или Ашукин.
7 января. От часу до 11 часов утра, то есть 10 часов подряд к возился с корректурами, потом поехал в Ленинскую библиотеку, где сверял все ссылки на издание Некрасова 1931 г., оттуда в Детиздат (о загадках), оттуда – в Гослитиздат – поговорить о корректуре 3-го тома с Минной Яковлевной. Приезжаю домой. Где М.Б.? Показалось, что ее нет. Говорят: на диванчике. Вижу: на диванчике, скрючившись, лежит М.Б. и будто дремлет. Я к ней. Обращаюсь к ней, она молчит. Я думал: сердится. Еще раз заговорил, то же самое. Перебирает пальцами левой руки, лежит в неудобнейшей позе. Я дал ей в левую руку карандаш, он выпал. Лицо остановившееся, с тихим выражением. Я в ужасе кинулся за врачом. Врач с двумя чемоданами, Сергей Николаевич – поехал – нашел кровоизлияние в мозг, паралич правой стороны.
21 января. На прошлой неделе прочитал два доклада: один в конференц-зале Академии Наук СССР 17 января – о переводе Love’s Labour’s Lost и 19 января в Союзе Писателей – об англо американской детской литературе. Успех и там и здесь очень большой, но и там и здесь удивление: как будто не ждали, что какой-то К.Ч. может сделать дельные доклады.
23 февраля. Всё как будто в прежнем положении. Читать она не может, говорит косноязычно, правая рука окоченела, раздражительность очень большая – и все же ей лучше. Она требует чтобы ей читали газеты, интересуется международным положением, много и охотно говорит.
9 мая, воскресенье[94]94
9 мая в 1949 г. – понедельник.
[Закрыть]. Переехали в Переделкино.
Чудесный жаркий день. Хожу без пальто, в новом сером костюме. Сегодня Виктор Петрович Дорофеев, редактор Гослитизда та, – человек, как он любит выражаться, «несгибаемый», – протирает с песком мою несчастную статейку «Пушкин и Некрасов» Начало его переработки я видел – боже мой! – «широкий читатель», «Анненков размазывал», «острая борьба», «жгучая ненависть». Это умный и въедливый, но совершенно безвкусный, воспитанный самой последней эпохой молодой человек – отлично вооруженный для роли сурового цензора, темпераментный, упрямый, фанатик. Мне он нравится, и я любовался бы им, если бы дело не касалось меня. Моих мыслей мне не жалко – ибо всякому читателю ясно, в чем дело, но мне очень жаль моего «слога», от которого ни пера не осталось. Если бы не болезнь М.Б. и не нужда в деньгах, ни за что не согласился бы я на такую «обработку» статьи.
10/V, понедельник. От 3-х до 8-ми, ровно 5 часов, мы с Дорофеевым спорили, ругались по поводу каждой строки, и я уступал, уступал, уступал. Дело происходило в Гослитиздате. Я вызвал туда Лидию Филипповну с машинкой… Она тотчас же переписывала все переделки. В наших спорах принимал участие Черемин; совсем молодой человек с лицом младенца, очень толковый и сведущий – в своей специальности. Двое против одного. За столом безучастно сидел Сергиевский И.В. – и криво улыбался. Он утомлен. Сгорбившись, целый день правил какую-то рукопись – вот так: на одной странице оставит одну строку, на другой две, а остальное черкает, черкает, черкает. Сбоку сидят еще три женщины: сестра Вяч. Полонского – Клавдия Павловна, рыжая Фелицата Александровна и безвестная, бессловесная дева; за исключением Клавдии Павловны, все они с утра до вечера перекраивают чужие рукописи на свой лад, с тем чтобы никакой авторской индивидуальности не осталось, не осталось никаких личных мнений, своих чувств и т. д. Все, что выходит из этой мастерской, – совершенно однородно по мыслям, по стилю, по идейной направленности.
18/V.1949. 4 часа утра. Прелестное утро. А в душе у меня смутно и тяжко. Статья моя «Пушкин и Некрасов» – сверстана. Два дня я просидел в типографии, оберегая ее от дальнейших искажений, но все же она так искажена, что мне больно держать ее в руках.
А я вот уже несколько дней охвачен, как пожаром, книгой Филдинга «Tom Jones». У меня есть английское собр. сочинений Fielding’a (1824) – и я никогда не читал ее. И теперь случайно взял один томик – и очумел от восторга. Казалось бы, какое мне дело, будет ли обладать высокодевственной Софьей разгильдяй и повеса Джон, – но три дня я по воле автора только и хотел, чтобы это случилось, – и весь слащавый конец книги, когда всем положительным героям стало хорошо, а всем отрицательным – плохо, доставил мне горячую радость. Может быть, мы, старые и очень несчастные люди, обманутые и ограбленные жизнью, так любим счастливые развязки в книгах, что развязки [наш]их собственных биографий так жестоки, так плачевны и трагичны.
16/VI. Тянет писать детскую сказку, но… Меня сковывает воспоминание о судьбе «Бибигона».
29 июня. Люша получила золотую медаль. Все экзамены сдала на пять. К моей радости примешивается горькая грусть: вот поколение, которому я совершенно не нужен, которое знать не знает того, чему я всю жизнь служил, не знает меня, моих увлечений и поисков. И нужно сказать: поколение крепкое, богатое новыми силами. С Люшей мне даже не о чем говорить, до того она чужая. Еще чужее Тата, Гуля. «И наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас»{1}. И они правы, но каковы будут их внуки, не представит себе даже величайший мудрец.
1950
8 марта. У меня рождается правнучка (или правнук). Утром оказалось, что родилась девочка{1}. Женя так огорчился, что даже (на минуту!) заплакал.
1 апреля. Мне 68 лет сегодня.
Ощущение жертвы, которую тянут веревками на виселицу Сегодня я оделся особенно тщательно, долго умывался, причесывался – туалет перед казнью. 68 лет! Помню тот день, когда Репину исполнилось 68 лет, – каким смертником казался он мне. Главный подарок – Лидины стихи{2}. Каверин переделывает свою «Открытую книгу» и заодно пишет продолжение по 3 страницы в день.
25/IV. Я в Переделкине. Были у меня Каверины, затащили к себе. Оказывается, Лев Александрович Зильбер открыл вирус рака и прививку против него. Попутно он изучил кровь раковых больных и – здоровых. 6 онкологов проверяли опыты Зильбера, и все единогласно признали полную эффективность его изобретения.
24/V. Был вчера в Гослитиздате. Видел пьяного Шолохова. Он кинулся меня целовать (взасос, как целуют женщину), обнимал как своего лучшего друга, – все лицо у него другое: он отрастил усы, рыжие, которые ужасно к нему не идут – и в то же время милы и привлекательны. Вчера ему, по его словам, исполнилось 45 лет.
10 июня. Мы были с Колей у Каверина. В центре разговоров – статья В.В.Виноградова о Марре. Стихи, сложенные по поводу дискуссии о советской лингвистике, начатой в «Правде» выступлением проф. Чикобавы{3}:
Был Марр умен, был Марр велик,
Он Марксу был почти что пара,
Но Чикобава чик-чик-чик (bis),
И что осталося от Марра?
Это отрывок из большой студенческой песни, сочиненной по поводу дискуссии.
Статья Виноградова умна до гениальности.
7 декабря. Вчера привез М.Б-ну из больницы. Едва жива. Читал ей «Холодный дом». Получил от Е.В.Тарле замечательное письмо{4}.
1951
4 марта. Солнце. Теплынь. Сижу на ул. Горького с раскрытым окном. Позвонил Леонов. Не хочу ли проехаться в Переделкино? Заехал за мною, – в пути стал рассказывать свой роман – о девушке Поле, ее отце, ученом лесоводе, его враге и сопернике, о гибели летчика Мациевича, о провокаторе Селезневе и т. д., и т. д. Роман сразу в двух эпохах – то возвращается к 1905–1908 гг., то движется в 1941—45 гг. Очень много густой психологичности, много неправдоподобия, литературности, но очень талантливо, кудряво, затейливо. Роман не без достоевщинки, очень злободневный – о лесе, – есть страницы как будто из «Бесов» – особенно когда он описывает наивное мальчишеское общество «Молодая Россия».
16 мая. Вышла Лидочкина книга «Декабристы исследователи Сибири». Там неприятная опечатка: вместо «герой Кагула» – «герой Калуги». Но все же книга отличная и будет иметь успех.
Так хочется духовной жизни, общения с людьми, как надоело одиночество! Хочется послушать хорошие лекции, поговорить о литературе.
12 июля. Каждый вечер бывает Леонов. Много рассказывал о Горьком. Бывает Пермяк, человек интересный, но не имеющий со мной ничего общего.
31 августа. Был у меня вчера Пастернак – счастливый, моложавый, магнетический, очень здоровый. Рассказывал о Горьком. Как Горький печатал (кажется, в «Современнике») его перевод пьесы Клейста – и поправил ему в корректуре стихи. А он не знал, что корректура была в руках у Горького, и написал ему ругательное письмо: «Какое варварство! Какой вандал испортил мою работу?» Горький был к Пастернаку благосклонен, переписывался с ним; Пастернак написал ему восторженное письмо по поводу «Клима Самгина», но он узнал, что Пастернак одновременно с этим любит и Андрея Белого, кроме того, Горькому не понравились Собакин и Зоя Цветаева, которых он считал друзьями Пастернака, и поэтому после одного очень запутанного и непонятного письма, полученного им от Бориса Леонидовича, написал ему, что прекращает с ним переписку{1}.
О Гоголе – восторженно; о Лермонтове – говорить, что Лермонтов великий поэт, – это все равно, что сказать о нем, что у него были руки и ноги. Не протезы же! – ха-ха-ха! О Чехове наравне с Пушкиным: здоровье, чувство меры, прямое отношение к действительности. Горького считает великим титаном, океаническим человеком.
1952
20 марта. Я в Узком. Чтобы попасть сюда, я должен был сделать возможно больше по 12-му тому{1}. Для этого я работал всю ночь: вернее – с 1 часу ночи до 8½. Семидесятилетнее сердце мое немного побаливает, но настроение чудесное – голова свежая – не то что после мединала. Сейчас я смотрел фильм «Кавалер Золотой Звезды»{2} – убогая банальщина, очень неумело изложенная, но какая техника, какие краски, какие пейзажи.
21 марта. Мороз 7 градусов. Вышел на полчаса и назад – сдавило сердце. Корплю над 12-м томом. Вместо того чтобы править Гина, Рейсера, Гаркави, я пишу вместо них, т. к. нужно торопиться, а их нет, они в Петрозаводске, в Ленинграде, в Калининграде. Есть комментарии, которые я пишу по 5, по 6 раз. Газетные известия о бактериологической войне мучают меня до исступления: вот во что переродилась та культура, которая началась Шиллером и кончилась Чеховым.
29 марта. А.Н.Туполев очень игрив. Прошел мимо и кокетливо наступил мне на ногу. Когда меня укрывают на балконе: «прикройте ему нос – загорит – тряпочкой, вот так, а конец пусть держит зубами… Аничка, солнце греет мне попку?» и т. д.
Здесь Серова – жена Симонова – игриво-фамильярная, с утра пьяноватая, очень разбитная. «Чуковский, позвольте поправить вам волосы… Дайте вашу шапку… я надену – кланяйтесь нашей половинке».
Ровно 12 часов ночи на 1-е апреля. Мне LXX лет. На душе спокойно, как в могиле. Позади каторжная, очень неумелая, неудачливая жизнь, 50-летняя лямка, тысячи провалов, ошибок и промахов. Очень мало стяжал я любви: ни одного друга, ни одного близкого. Лида старается любить меня и даже думает, что побит, но не любит. Коля, поэтичная натура, думает обо мне со щемящею жалостью, но ему со мною скучно на третью же минуту разговора – и он, пожалуй, прав. Люша… но когда же 20-летние девушки особенно любили своих дедов? Только у Диккенса, только в мелодрамах. Дед – это что-то такое непонимающее, подлежащее исчезновению, что-то такое, что бывает лишь в начале твоей жизни, с чем и не для чего заводить отношения надолго. Были у меня друзья? Были. Т.А.Богданович, Ю.Н.Тынянов, еще двое-трое. Но сейчас нет ни одного человека, чье приветствие было бы мне нужно и дорого. Я как на другой планете – и мне даже странно, что я еще живу. Мария Борисовна – единственное близкое мне существо – я рад, что провожу этот день с нею; эти дни она больна, завтра выздоровеет, надеюсь.
Днем все повернулось иначе – и опровергло всю мою предыдущую запись. Явились Люша и Гуля и привезли мне в подарок целый сундук папетри – и огромный ларец сластей – и чудесную картину
Семейный смотр сил Чуковских.
Приехал Викт. Вл. Виноградов и привез мне письмо от Ираклия – и пришла кипа телеграмм – от Шкловского, от саратовских некрасоведов, от Ивича, от Алферовой, от Таточки. Я был рад и спокоен. Глущенко подарил мне бюстик Мичурина, свою брошюру и бутылку вина, Ерусалимский – книгу, второе издание, – и я думал, что все кончено, вдруг приезжает Кассиль с письмами от Собиновых, с адресом от Союза Писателей, с огромной коробкой конфет – а потом позвонил Симонов и поздравил меня сердечнейшим образом. Хотя я и понимаю, что это похороны по третьему разряду, но лучших я, по совести, не заслужил. Перечитываю свои переводы Уолта Уитмена – и многое снова волнует, как в юности, когда я мальчишкой впервые читал Leaves of Grass[95]95
«Листья травы» (англ.).
[Закрыть]. Пришли телеграммы от Федина, от Симонова и т. д.
4 декабря. Работаю снова над XII томом. Почти все комментарии написаны моей рукой (мною), но приходится ставить фамилии разных халтурщиков – Гина, Бесединой, Евгеньева-Максимова, тексты которых я отверг начисто и заменил своими. У меня хранится папка с моими рукописями, из которых будет видно (когда я умру), что весь том до последней запятой построен и выполнен мною. Сейчас мне прислали листы сверки, которая идет сегодня же в типографию, и там я нашел следующие стилистические перлы Минны Яковлевны:
«С дополнениями неизвестной рукой в значительной мере известной исследователям, части, совпадающими с сохранившимися автографами».
В «Новом Мире» идет «Щедрая дань», доставившая мне счастье встречаться с моим любимым Твардовским. Евгения Александровна Кацева тоже произвела в статье вивисекцию, но очень умно и умело.
В Гослите идет мое «Мастерство». О, если бы не 12-й том, выпивший у меня всю кровь, я дал бы читателю очень неплохую, мускулистую книгу. А теперь это сырой, рыхлый, недопеченный пирог.
В Детгизе – Некрасов для детей. Правлю корректуру – с некоторым разочарованием. В рукописи казалось лучше.
Трехтомник: работаю над «Современниками»: надо вклеивать сцены по Теплинскому; Теплинский, очевидно, прав кое в чем, но в очень немногом.








