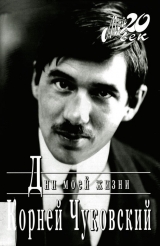
Текст книги "Дни моей жизни"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 50 страниц)
1916
21 июля. Вчера именины Репина. Руманов решил милостиво прислать ему добавочные 500 рублей при таком письме: «Глубокоуважаемый И.Е. Правление Т-ва А.Ф.Маркса в новом составе плице И.Д.Сытина, В.П.Фролова и А.В.Руманова, ознакомившись с Вашим прекрасным трудом и желанием получить дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей, не предусмотренное договором, считает своим приятным долгом препроводить Вам эту сумму. С истинным уважением В.Фролов».
Я вошел в кабинет И.Е., поздравил и прочел письмо. Он изменился в лице, затопал ногами:
– Вон, вон; мерзавец, хочет купить меня за 500 рублей, сволочь, сапоги бутылками (Сытин), отдайте ему назад эти 500, и вот еще тысяча, – он полез в задний карман брюк… – отдайте… под суд! под суд, – и т. д. Я был очень огорчен, что эта чепуха доставила ему столько страдания. Сегодня снова хочу попытать свое счастье.
Сегодня – после двухлетнего перерыва – я впервые взялся за стихи Блока – и словно ожил: вот мое, подлинное, а не Вильтон, не Кушинниковы – не Киселева – не Гец, – не все это мещанство, ликующее, праздно болтающее{1}, которое вокруг. Последние дни мое безделье – подлое – дошло до апогея, и я вдруг опомнился и сегодня весь день сижу за столом: все 4 тысячи, что дала мне книжка, да две тысячи, что дали мне статьи, ушли в полгода, не дав мне ни минуты радости.
[Сентябрь, 22]{2}. Вчера познакомился с Горьким. Гржебин сказал, что едем к Репину в 1 ч. 15 м. Я на вокзал. Не нашел. Но глянув в окно купе 1 – го класса – увидел оттуда шершавое нелепое лицо – понял: это он. Вошел. Он очень угрюм: сконфузился. Не глядя на меня, заговаривал с Гржебиным: – Чем торгует этот бритый, на перроне? Пари, что это русский под англичанина. Он из Сибири – пари! Не верите, я пойду спрошу. – Я видел, что он от застенчивости, и решил деловитыми словами устранить неловкость: заговорил о том, почему Розинеру до сих пор не сказали, что Сытин уже купил Репина. Горький присоединился: конечно, пора напомнить Розинеру, что он не редактор, а приказчик.
Заговорили о Венгрове, Маяковском – лицо его стало нежным, голос мягким – преувеличенно, – он заговорил в манере Миролюбова: «Им надо Библию читать… Библию… Да, Библию. В Маяковском что-то происходит в душе… да, в душе».
Но, видно, худо разбирается, ибо Венгров – нейрастенический, растрепанный, еще не существует, а Маяковский – однообразен и беден. Когда городская жизнь и то и другое…
Приехали на станцию – одна таратайка, да и ту заняли какие-то двое: седой муж и молодая жена. А у Горького больная нога, и ходить он не может. Те милостиво согласились посадить его на облучок – приняв его за бедного какого-то. У Репина Горький чувствовал себя связанным. Уныло толкался из угла в угол. Репин посадил его в профиль и стал писать. Но он позировал дико – болтал головою, смотрел на Репина – когда надо было смотреть на меня и на Гржебина. Рассказал несколько любопытных вещей. Как он ходил объясняться в цензуру.
Горький: – Ваш цензор неинтеллигентный человек.
Главный цензор: – Да как вы смеете так говорить!
– Потому что это правда, сударь.
– Как вы смеете звать меня сударем. Я не сударь, я «ваше превосходительство».
– Идите, ваше превосходительство, к черту.
Оказывается, цензор не знал, что это Горький…
Тут Юрий Репин робко: «Я очень сочувствую, как вы о войне пишете». Горький заговорил о войне: – Ни к чему… столько полезнейших мозгов по земле зря… французских, немецких, английских… да и наших, не дурацких. Англичане покуда на Урале (столько-то) десятин захватили. Был у нас в Нижнем купец – ах, странные русские люди! – так он недавно пришел из тех мест и из одного кармана вынимает золото, из другого вольфрам, из третьего серебро и т. д., вот, вот, вот все это на моей земле – неужто достанется англичанам – нет, нет! – ругает англичан. Вдруг видит карточку фотографическую на столе. – Кто это? – Англичанин. – Чем занимается? – Да вот этими делами… Покупает… – Голубчик, нельзя ли познакомить? Я бы ему за миллион продал.
Пошли обедать, и к концу обеда офицера, сидевшего весь обед спокойно, прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что мы победим, что наши французские союзники – доблестны, и английские союзники тоже доблестны… тра-та-та… и Россия, которая дала миру Петра Великого, Пушкина и Репина, должна быть грудью защищена против немецкого милитаризма.
– Съели! – сказал я Горькому.
– Этот человек, кажется, вообразил, будто я командую немецкой армией… – сказал он.
17 октября. Вчера был у меня И.Е. Я вздумал читать ему «Бесы» (при Сухраварди). Он сдерживал себя как мог, только приговаривал: дрянь, негодная, мелкая душа и т. д. – и в конце концов не мог даже дослушать о Кармазинове.
– И какой банальный язык, и сколько пустословия! Несчастный, он воображал, будто он остроумен… Нет, я как 40 лет назад швырнул эту книгу (а Поленов поднял), так и сейчас не могу.
1917[19]19
Все записи за этот год сделаны либо на вклеенных и вложенных разноформатных листах, либо в тетради, но листы в ней не скреплены.
[Закрыть]
1 января. Лида, Коля и Боба больны. Служанки нет. Я вчера вечером вернулся из города, Лида читает вслух:
– Клянусь Богом, – сказал евнуху султан, – я владею роскошнейшей женщиной в мире, и все одалиски гарема…
Я ушел из комнаты в ужасе: ай да редактор детского журнала{1}, у которого в собственной семье так.
21 февраля. Сейчас от Мережковских. Не могу забыть их собачьи голодные лица. У них план: взять в свои руки «Ниву». Я ничего этого не знал. Я просто приехал к ним, потому что болен Философов, а Философова я нежно люблю, и мне хотелось его навестить. Справился по телефону, можно ли. Гиппиус ответила неожиданно ласково: будем рады, пожалуйста, ждем. Я приехал. Милый Дмитрий Владимирович пополнел, кажется здоровым, но усталым. Чаепитие. Стали спрашивать обо мне и, конечно, о моих делах. Меня изумило: что за такой внезапный ко мне интерес? Я заговорил о «Ниве». Они встрепенулись. Выслушали «Крокодила» с большим вниманием. Гиппиус похвалила первую часть за то, что она глупая, – «вторая с планом, не так первобытна». Вошел Мережковский – и тоже о «Ниве». В чем дело, отчего «Нива» такая плохая? Я сказал им все, что знаю: надо Эйзена вон, надо Далькевича вон. – Ну а кого бы вы назначили? – (Всё это с огромным интересом.) Я, не понимая, почему их заботит «Нива», ответил: – Ну хотя бы Ильюшку Василевского. – Они ухмыльнулись загадочно. «Ну а вы сами пошли бы?» Я ответил, что об этом уже был разговор, но я один боюсь. И вот после долгих нащупываний, переглядываний, очень хитрых умолчаний – они поставили дело так, что «Ниву» должна вести Зинаида. – Ну вот Зина, например. – Я ответил, не подумав: – Еще бы! Зинаида Николаевна отличный редактор. – Или я, – невинно сказал Мережковский, и я увидел, что разыграл дурака, что это давно лелеемый план, что затем меня и звали, что на меня и на «Крокодила» им плевать, что все это у них прорепетировано заранее, – и меня просто затошнило от отвращения, как будто я присутствую при чем-то неприличном. Вот тут-то у них и сделались собачьи, голодные лица, словно им показали кость:
– Мы бы верхние комнаты под Религиозно-философское о-во, – сказал он.
– И мои сочинения дать в приложении, – сказала она.
– И Андрея Белого, и Сологуба, и Брюсова дать на будущий год в приложении!
Словом, посыпались планы, словно специально рассчитанные на то, чтобы погубить «Ниву». Но какие жадные, голодные лица.
4 марта. Революция. Дни сгорают, как бумажные. Не сплю. Пешком пришел из Куоккала в Питер. Тянет на улицу, ног нет. У Набокова: его пригласили писать амнистию.
10 марта. Вчера в поезде – домой. Какой-то круглолицый, самодовольный жирный: «Бога нету! (на весь вагон). Смею уверить вас честным словом, что на свет я родился от матери, не без помощи отца, и Бог меня не делал. – Бог жулик, вы почитайте науки». А другой – седой, истовый, почти шепотом: «А я на себе испытал, есть Господь Бог Вседержитель», – и елейно глядит в потолок.
30 апреля. Сейчас к Репину ходили по воду: я, Боба, Коля, Лида, Маня и Казик. Мы взяли пустое ведро, надели на длинную палку и запели сочиненную детьми песню:
Два пня.
Два корня (которые могут встретиться по пути),
Чтобы не было разбито (ведро),
Чтобы не было пролито,
Блямс!
Илья Еф. повел меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдится своей «сестры, ведущей солдат в атаку», и говорит:
– Приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему: дрянь картина, не стоит покупать. Про какой-то портрет: «Это, знаете, как футурист Хлебников говорил: мой портрет писал один Бурлюк в виде треугольника, но вышло не похоже». Про «Крестный ход»: «Теперь уже цензура разрешит».
О своем новом портрете Толстого: «Я делал всегда Толстого – слишком мягкого, кроткого, а он был злой, у него глаза были злые – вот я теперь хочу сделать правдивее»{2}.
Показывал с удовольствием – сам – охотно. Я сказал про бандуриста, который с ребенком, что ребенок как у Уотса, он: «Верно, верно, жалко, что выходит на кого-нб. похоже».
Вынес детям по бубличку. Проводит новый водопровод в дом, чтоб зимою не замерзало. – А то умру, и дом останется не в порядке, – сказал он, не позируя.
Осенью И.Е. упал на куоккалъекой дороге и повредил себе правую руку. Теперь он пишет почти исключительно левой – семидесятитрехлетний старик!
– Я только портрет (г-жи Лемерсье) правой рукою пишу!
1 мая. Ничего не могу писать. Не спал всю ночь оттого, что «засиделся» до 10 часов с И.Е.Репиным. Дела по горло: нужно кончать сказку, писать «Крокодила», Уота Уитмэна, а я сижу ослом – и хоть бы слово. Такова вся моя литературная карьера. Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница.
12 мая. Коля и Лида признались мне в лодке, что они начали бояться смерти. Я успокоил их, что это пройдет.
Дети играют с Соколовым Женей в крокет, и мне приятно слышать их смех. Теперь я понял блаженство отцовства – только теперь, когда мне исполнилось 35 лет. Очевидно, раньше – дети ненормальность, обуза, и нужно начать рожать в 35 лет. Потому-то большинство и женится в 33 года.
Читаю Уитмэна – новый писатель. До сих пор я не заботился о том, нравится ли он мне или нет, а только о том, понравится ли он публике, если я о нем напишу. Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только себе, – и поэтому я впервые стал мерить Уитмэна собою – и диво! Уитмэн для меня оказался нужный, жизненно-спасительный писатель. Я уезжаю в лодке – и читаю упиваясь.
Did we ihink victory great?{3}
So it is – but now it seems to me,
when it cannot be help’d.
that defeat is great.
and that death and dismay are great[20]20
Ты думал, величие только в победе? / Ты прав, но уж если случится беда – / Мне сдается, что и в поражении есть величие. / И в гибели и в страхе есть величие (англ.).
[Закрыть].
Это мне раньше казалось только словами и wanton[21]21
Ненужной (англ.).
[Закрыть] формулой, а теперь это для меня – полно человечного смысла.
Июнь. Ходил с детьми к Гржебину в Канерву. Гржебин, заведующий конторой «Новой Жизни», – из партии социал-прохвостов. Должен мне 200 р., у Чехонина похитил рисунки (о чем говорил мне сам Чехонин); у Кардовского похитил рисунок (о чем говорил мне Ре-Ми); у Кустодиева похитил рисунок (о чем говорил мне Кустодиев); подписался на квитанции фамилией Сомова (о чем, со слов Сомова, говорил мне Гюг Вальполь); подделал подпись Леонида Андреева (о чем говорил мне Леонид Андреев). Словом, человек вполне ясный, и все же он мне ужасно симпатичен. Он такой неуклюжий, патриархальный, покладистый. У него чудные три дочери – Капа, Ляля, Буба, – милая семья. Говоря с ним, я ни минуты не ощущаю в нем мазурика. Он кажется мне солидным и надежным.
16 июня. Вчера я тонул. Прыгнул-с лодки в воду, на глубину, поплавал, и тянет меня в воду. А Коле крикнуть не могу, все слова забыл, только глазами показываю. (Я с детства был уверен, что умру в воде. Как русские критики: Писарев, Валерьян Майков.) Наконец-то Коля догадался.
19 июня. Совсем не сплю. И вторую ночь читаю «Красное и черное» Стендаля, толстый 2-томный роман, упоительный. Он украл у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон. Иначе нельзя оторваться – нужен героический жест; через пять минут жена сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петрограде вчера. Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жюльена, бывшие в 1830 г.
Я сочинил пьеску для детей. Вернее, первый акт. Лида сказала мне: – Папа, у тебя бывает бесписное время (когда не пишется); пиши тогда для детей.
20 июня. Пишу пьесу про царя Пузана{4}. Дети заставили. Им была нужна какая-нб. пьеска, чтобы разыграть, вот я в два дня и катаю. Пишу с азартом, а что выйдет… Черт его знает. Потуги на остроумие. Места, не смешные для взрослых, смешат детей до слез. Вчера пришли Кушинниковы и сообщили, что немецкий фронт прорван в 3-х местах.
24 июня. Делаем детский спектакль. У нас есть конкуренты. Катя говорит: у них будет оркестр кронштадтского горизонта (гарнизона). Коля в восторге. О, с каким пылом я писал эту пьесенку, и какая вышла дрянь. 3-го дня у Репина были скандалы: явился Миша Вербов, всюду объявляющий себя учеником Репина и т. д. Репин его выгнал при всех и взволновался. И.Е. пишет Ре-Ми. Утомляется, не имеет времени поспать после обеда и оттого злится. Шмаров прочитал невинные стишки – об измене России союзникам, И.Е. не разобрал, в чем дело, – и давай кричать на Шмарова:
– Черносотенные стишки! – Адель Львовна вступилась, он набросился и на нее, как будто она автор стишков. Гости были терроризованы.
10 июля. Маша утром: «Знаешь, в России диктататура!» От волнения. Еще месяц назад я недоумевал, каким образом буржуазия получит на свою сторону войска, и казну, и власть; казалось, вопреки всем законам истории, Россия после векового самодержавия вдруг сразу становится государством социалистическим. Но нет-с, история своего никому не подарит. Вот, одним мановением руки она отняла у передовых кучек крайнего социализма власть и дала ее умеренным социалистам; у социалистов отнимет и передаст кадетам – не позднее, чем через 3 недели. Теперь это быстро. Ускорили исторический процесс.
В дневник 15 июля. Руманов говорил мне о Лебедеве, зяте Кропоткина: – Это незаметный человечек, в тени, – а между тем, не будь его, Кропоткину и всей семье нечего было бы есть! Кропоткин анархист, как же! – он не может брать за свои сочинения деньги, и вот незаметный безымянный человечек – содержит для него прислугу, кормит его и т. д.
23 июля. Итак, я сегодня у Кропоткина. Он живет на Каменном острове, 45. Дом нидерландского консула. Комфортабельный, большой, двухэтажный. Я запоздал к нему – и все из-за бритья. Нет в Питере ни одного парикмахера – в воскресение. Я был в «Пале-Рояле», в «Северной», в «Селенте» – нет нигде. Взял извозчика в «Европейскую», забегал с заднего крыльца в парикмахерские и все же поехал к Кропоткину небритый. Сад у Кропоткина сыроватый, комильфотный. Голландцы играют лаун-теннис. В розовой длинной кофте – сидит на террасе усталая Александра Петровна – силится улыбнуться и не может. – «О! я так устала… Зимний дворец… телефоны… О! я четыре часа звонила, искала Савинкова – нет нигде… Папа сейчас будет… У него Бурцев». Мы пошли пить чай. Племянница Кропоткина, Катерина Николаевна, женщина лет 45-ти, наливает чай – сладким старичкам с фальшивыми зубами и военно-морскому агенту Британского посольства, фамилии коего не знаю. Она рассказывает, как недели две назад солдаты делали у них на даче обыск – нет ли запасов продовольствия. Она говорила им: – Да вы знаете, кто здесь живет? – Кто? – Кропоткин, революционер! – А нам плевать… – И давай ломать дверь на чердак. Кропоткины позвонили комиссару Неведомскому (Миклашевскому), и солдаты поджали хвосты. В это время в боковых комнатах проходит плечистый, массивный, с пиквикским цветом лица Кропоткин, вслед за ним Бурцев… Я раскланялся с Бурцевым издали, а Кропоткин через минуту радушно и бодро подошел ко мне: – Как же! как же! Я вас всегда читаю. Здравствуйте, здравствуйте… – и сел рядом со мною и с аппетитом принялся болтать, обнаруживая светскую привычку заинтересовываться любой темой, которую затронет собеседник. Мы заговорили о Некрасове. Он: – Да, да, потерял рукопись Чернышевского «Что делать?», потерял{5}. Ему князь Суворов (тогдашний генерал-губернатор) добыл ее из Петропавловской крепости, а он потерял. Я вам сейчас скажу стихотворение Некрасова, которое нигде не было напечатано. – И стал декламировать (по-стариковски подмигивая) известное стихотворение:
Было года мне четыре,
Мне отец сказал:
Все пустое в этом мире,
Дело – капитал!
Декламацию сопровождал жестами. Когда шла речь о кармане – хлопнул себя по карману. «Я ведь много стихов знаю – вот, например, „Курдюкову“»{6}, – и процитировал из «Курдюковой» то место, где говорится о городе Бонне. Я почувствовал себя в знакомой атмосфере Короленко, – атмосфере благодушия, самовара, стишков, анекдотов. Я бывал у Короленки каждый вечер в то время, когда он писал о смертной казни, – и это всегда была семейная благодушная идиллия.
– Стишкам Некрасова научил меня мой учитель Смирнов, – сказал Кропоткин.
Тут подошла княгиня.
– Как вам не стыдно, что не заехали к нам в Англии! – сказала она равнодушно-радушно. Тут я сразу почувствовал, что они устали, что я им в тягость, но что они покорно подчиняются уже сорок лет этой участи: принимать гостей – и выслушивать их внимательно, любезно, дружески и равнодушно.
Заговорили о Достоевском, у которого жена – стенографистка.
– Ренегат! – сказал Кропоткин. – Вернулся из Сибири и восстал против Фурье, против социализма. И замечательно, что все ренегаты после ренегатства становятся бездарны, теряют талант.
Меня изумило это мнение, ибо Достоевский после каторги и окрылился, но я почувствовал, что на огромном черепе князя Кропоткина нет эстетической шишки. Я сказал ему, как мне нравится стиль Михайловского… Он говорит:
– Да, но я никогда не мог ему простить его политической трусости. Я виделся с ним в 1867 г. Он показался мне красной девицей. Как он боялся меня и брата!.. Это он поправлял Льву Тихомирову статьи.
Княгиня спросила, есть ли в Куоккала провизия. Я сказал: – Не знаю. – Ну, значит, есть, – сказал Кропоткин. – А вот сегодня я был в Зимнем дворце у Керенского – и на нас, 4-х человек, дали на огромной тарелке с царскими вензелями, с коронами – четыре вот таких ломтика хлеба… И вода! (Он поморщился.) Мы с Сашей переломили один ломтик – а остальное оставили Керенскому.
Разговор перескочил на пишущие машины. Он стал расхваливать их с восторгом. Ну, зато ж и дорого! Простая 20 ф., а с усовершенствованиями и все 30 отдай!! То же машины Зингера – длиннейший панегирик машинам Зингера: они и чулки штопают, и петли метают. (Он указал рукой на воротник.) Вообще страшное гостеприимство чужим темам, чужим мыслям, чужой душе. Он готов приспособиться к любому уровню, и я уверен, что приди к нему клоун, кокотка, гимназист, он с каждым нашел бы его тему – и был бы с каждым на равной ноге, по-товарищески. Заговорили о Репине:
– Кланяйтесь Илье Ефимовичу. Я чту его. Я знаю все его картины (увы!) по снимкам.
Мне почудилось, что Кропоткину не нравилось то, что Репин писал портреты самодержцев, великих княгинь, и я еще раз почувствовал, что искусству он чужд совершенно.
– «Записки революционера» я диктовал по-английски. Потом Дионео переводил их. Переведет лист-полтора и приедет ко мне в Бромли, я исправляю – целый день. Он даже обижался. Я совершенно переделывал, писал заново. Но иначе было нельзя. А «Mutual Aid» я написал по-английски для «Nineteenth century»[22]22
«Взаимная помощь», «Девятнадцатый век» (англ.). Полное название книги Кропоткина – «Взаимная помощь как фактор эволюции».
[Закрыть]…
31 [июля], воскресение[23]23
В 1917 г. воскресенье – 30 июля (12 августа).
[Закрыть]. Опять у Кропоткина. Он сидел с высоким американцем и беседовал о тракторах. Американец оказался инженер, который привез сюда ж.-д. вагоны для Сибирской железной дороги. Кропоткин говорит: незачем доставлять сюда военные снаряды, нам нужны тракторы, рельсовые перекрестки (crossing & switches). Он пальцами показал перекрещивающиеся рельсы. «Мне все говорят, что нам нужны тракторы и рельсовые перекрестки. Я хотел бы повидаться с американским послом и сказать ему об этом».
– О, это легко устроить! – сказал инженер. – И я очень хотел бы, чтобы вы поехали в Америку…
– К сожалению, Америка для меня закрыта.
– Закрыта?!
– Да, как для анархиста…
– Are you really anarchist?![24]24
– Неужели вы и вправду анархист?! (англ.)
[Закрыть] – воскликнул американец.
Я посмотрел на учтивого старикана и в каждой его черточке увидел дворянина, князя, придворного.
– Да, да! я анархист, – сказал он, словно извиняясь за свой анархизм.
У Кропоткина собралось самое разнообразное общество, замучивающее всю его семью. На каждого новоприбывшего смотрят как на несчастье, с которым нужно терпеливо бороться до конца.
Я заговорил о Уоте Уитмэне.
– Никакого, к сожалению, не питаю к нему интереса. Что это за поэзия, которая выражается прозой. К тому же он был педераст! Я говорил Карпентеру… я прямо кричал на него. Помилуйте, как это можно! На Кавказе – кто соблазнит мальчика – сейчас в него кинжалом! Я знаю, у нас в корпусе – это разврат! Приучает детей к онанизму!
Рикошетом он сердился на меня, словно я виноват в гомосексуализме Уитмэна.
– И Оскар Уайльд… У него была такая милая жена. Двое детей. Моя жена давала им уроки. И он был талантливый человек: Элизе Реклю говорил, что написанное им об анархизме (?) нужно высечь на медных досках, как делали римляне. Каждое изречение – шедевр. Но сам он был – пухлый, гнусный, фи! Я видел его раз – ужас!
– В «De Profundis» он назвал вас «белым Христом из России»…{7}
– Да, да… Чепуха. «De Profundis» – неискренняя книга.
Мы расстались, и хотя я согласен с его мнением о «De Profundis», я ушел с чувством недоумения и обиды. То же чувство я испытывал, когда читал его бескрылую книгу о русской литературе{8}. Словно выкопали из могилы Писарева – и заставили писать о Чехове. Туповатым и ограниченным шестидесятником пахнуло на меня. В Кропоткине есть и это.
14 августа. Получил вчера тысячу рублей. Был у Буренина вечером. Старикашка. Один. Желтоватый костюмчик – серые туфли, лиловый галстук. Обстановка безвкусная. В прихожей – бюст в мерзейшем стиле модерн: он показывал мне, восхищаясь, – смотрите, веками как будто шевелит. Все стены в картинах – дешевка. «Куплено в Венеции», – говорил он, показывая какую-то грошовую, фальшивую дрянь.
– Ну, это вещь неважная! – сказал я.
– Зато рамка хороша.
Когда я пришел, он читал книгу – о крысах. «Представьте, у крыс бывает такая болезнь: сцепятся хвостами в кучу штук десять, и не расцепить. Так и подыхают. Совсем как наше правительство теперь».
О Судейкине:
– Я отца Судейкина помню, полковника. Видел его за неделю до смерти. Он был полковник, начальник охранки.
О Некрасове:
– Некрасов называл свою редакцию «Наша консистория». Я принес ему переводы из Мюссе. Через неделю он вернул их мне назад. – «Вот, отец. Наша консистория не желает печатать». Конечно, он не был добряк. Но умница, и писателям делал немало добра. И однажды читал мне стихи – вот эти самые… «Рыцарь на час» – и разревелся. Я удивился. Мне даже невозможно было вообразить себе, чтобы Некрасов мог плакать.
Много говорил о своем архитекторстве:
– Мой отец штук 30 церквей в Москве построил. Я от 11-ти лет до 18-ти учился этому делу. И вот посмотрите: как симметрически у меня в комнате картины развешаны. Я и стихи пишу симметрически. Беспорядка не люблю. Никакой разбросанности. Куплеты. Вот мои рисунки, – и показал мне акварель «Три грации». Кто бы мог подумать, что Буренин рисовал «Три грации»! Это все равно как если бы Джек Потрошитель вышивал шелками незабудки! Три грации действительно нарисованы очень отчетливо – по-архитекторски.
4 октября, среда. Или 3-е?[25]25
В 1917 г. среда – 3 (16) октября.
[Закрыть] Нет календаря. Вчера сдуру я поехал в Куоккала после 3-х месяцев отсутствия. Симфония осенних деревьев в парке. Рябина. Море, новый изгиб реки, в которую и уложил столько себя. Но ключа мне М.Б. не дала, и я проехал напрасно. Зашел к Репину спросить его, что он хочет за портрет Бьюкенена: 10 000 р. или золотую тарелку. Репин (мертвецки бледный, с тенями трупа под носом и глазами, но все такой же обаятельный): – Знаете, конечно, тарелка очень хороша, но… и не достоин… не в коня корм… да и как ее продать. На ней гербы, неловко, – из чего я понял, что ему хочется денег. Я дал ему 500 р. долга за дачу – он очень повеселел, пошел показывать перемены в парке в озере Глинки, которое он высушил, провел дренаж, вырубил деревья – всюду устроил свет и сквозняк. Потом покапывал картины. Бурлаки: «Ой как пожухло… Теперь я вижу, что я сделаю… я этому сифилитику (впереди всех) дам кумачовую (не яркую, а стираную) рубаху (вместо синей), а красную у заднего уберу – дам ему синюю, – а то задний план чересчур кричит… Кушинников говорил: разве Волга бывает зеленой? Посмотрел бы он в Жигулях. Но я, кажется, перезеленил. Это место я написал неподалеку от заказчика – Шаталова (?) – он там, в Самаре».
Посидели, помолчали… – А вы знаете другую… которая «делается» (не сказал пишется) – и прескверно делается, как луна в Гамбурге. Вот… – И он вытащил несуразную голую женщину, с освещенным животом и закрытым сверху туловищем. У нее странная рука – и у руки собачка. – Ах, да ведь это шаляпинская собачка! – воскликнул я. – Да, да… это был портрет Шаляпина… Не удавался… Я вертел и так и сяк… И вот сделал женщину. Надо проверить по натуре. Пуп велик.
– Ай, ай! Илья Ефимович! Вы замазали дивный автопортрет, который вы сбоку делали на этом же холсте!! – Да, да, долой его – и как вы его увидали!
Шаляпин, переделанный в женщину, огромный холст – поверхность которого испещрена прежними густыми мазками.
Про женщину я не сказал ничего, и И.Е. показал мне третью картину – «Освящение ножей», с масками вместо лиц, но – с интересной светотенью. В каждом мазке чувствуется, что Репин умер и не воскреснет, хотя портрет Ре-Ми (даже два портрета) похож и портрет Керенского смел, Керенский тускло глядит с тускло написанного, зализанного коричневого портрета, но на волосах у него безвкуснейший и претенциознейший зайчик. – Так и нужно! – объясняет Репин. – Тут не монументальный портрет, а случайный – случайного человека… Правда, гениального человека – у меня есть фантазия, – и обывательски стал комментировать дело Корнилова. Перед Керенским он преклоняется, а Корнилов – «нет, недалекий, солдафон».
10 октября. Целые дни трачу на организацию американского и английского подарка русскому народу: 2 000 000 экземпляров учебников – бесплатных, – изнемог – не сплю от переутомления все ночи – старею – голова седеет. Скоро издохну. А зима только еще начинается, а отдыха впереди никакого. Так и пропадет Корней ни за что. Семья? Но Колька растет – недумающий эгоист, а Лида хилая, зеленая, замученная.
Лида: «Я не люблю тратить сказки попусту на неспящего человека».
Когда Андреев приезжал в гости к Короленке (который жил в Куоккале, у Богданович, племянницы Анненских), Н.Ф.Анненский приготовил ему тарелку карамели – красной и черной. Андреев не приезжал, и мы угощались без него. – Кушайте эту, – говорил Николай Федорович. Это Черные маски. А потом эту – это Красный смех. – А что же ему? – спросил я. – А ему «Царь Голод»{9}.






