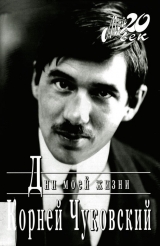
Текст книги "Дни моей жизни"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 50 страниц)
1922
1 января. Встреча Нового года в Доме Литераторов. Не думал, что пойду. Не занял предварительно столика. Пошел экспромтом, потому что не спалось. О-о-о! Тоска – и старость – и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать Новый год. Мы заняли один столик с Фединым, Замятиным, Ходасевичем – и их дамами, а кругом были какие-то лысые – очень чужие. Ко мне подошла М. В.Ватсон и сказала, что она примирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян». Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца 3 [назад] сказала мне: – Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Гумилева?
– Какие товарищи? – спросил я.
– Большевики.
– Сволочь! – заорал я на 70-летнюю старуху – и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И конечно, мне было больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу. И вот теперь – она первая подходит ко мне и говорит: «Ну, ну, не сердитесь…»
Говорились речи. Каждая речь начиналась:
– Уже четыре года…
А потом более или менее ясно говорилось, что нам нужна свобода печати. Потом вышел Федин и прочитал о том, что критики напрасно хмурятся, что у русской литературы есть не только прошлое, но и будущее. Это задело меня, потому что я все время думал почему-то о Блоке, Гумилеве и др. Я вышел и (кажется, слишком неврастенически) сказал о том, что да, у литературы есть будущее, ибо русский народ неиссякаемо даровит, «и уже растет зеленая трава, но это трава на могилах». И мы молча почтили вставанием умерших. Потом явился Марадудин и спел куплеты – о каждом из нас, причем назвал меня Врид Некрасова (временно исполняющий должность Некрасова), а его жена представила даму, стоящую в очереди кооператива Дома Литераторов, – внучку Пушкина по прямой линии от г-жи NN. Я смеялся – но была тоска. Явился запоздавший Анненков. Потом пришли из Дома Искусств – два шкловитянина: Тынянов и Эйхенбаум. Эйхенбаум печатает обо мне страшно ругательную статью – но все же он мне мил почему-то. Он доказывал мне, что я нервничаю, что моя книжка о Некрасове неправильна, но из его слов я увидел, что многое основано на недоразумении. Напр., фразу «Довольно с нас и сия великия славы, что мы начинаем»{1} он толкует так, будто я желаю считать себя основоположником «формально-научного метода», а между тем эта фраза относится исключительно к Некрасову.
Тынянова книжка о Достоевском мне нравится{2}, и сам он – всезнающий, молодой, мне нравится. Уже женат, бедный.
Потом Моргенштерн читал по нашему почерку – изумительно; Анненкову, которого видит первый раз, сказал: «У вас по внешности слабая воля, а на деле – сильная. Вы сейчас – в самом расцвете и делаете нечто такое, от чего ожидаете великих результатов. Вы очень, очень большой человек».
Меня он определял долго, и все верно. Смесь мистицизма с реализмом и пр.
О Замятине сказал: это подражатель. Ничего своего. Натура нетворческая.
Изумительно было видеть, что Замятин обиделся. Не показал: жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно, – но обиделся. И жена его обиделась, смеялась, но обиделась. (Анненков потом сказал мне: «Заметили, как она обиделась».)
Потом меня подозвал к себе проф. Тарле – и стал вести ту утонченную, умную, немного комплиментарную беседу, которая становится у нас так редка. Он любит мои писания больше, чем люблю их я. Он говорил мне: «У вас есть две классические статьи – классические. Их мог бы написать Тэн. Это – о Вербицкой и о Нате Пинкертоне. Я читаю их и перечитываю. И помню наизусть…» И стал цитировать.
Анненков попросил Тарле дать текст к его портретам коммунаров{3}. Тот согласился.
Утром мы пошли домой. Говорят, в Доме Искусств было еще тоскливее.
Коля рассказывает, что Анна Николаевна Гумилева (вдова), несмотря на свое вдовье положение, – танцевала вчера вовсю – накрашенная до невероятия. Это – идиотка – в полном смысле этого слова. Она пришла к Наппельбауму, фотографу: там висит ее портрет и портрет Анны Ахматовой. Она возмутилась: «Почему Ахматову повесили выше меня? Ведь Ахиатова была разведенная жена Гумилева, а я настоящая». У нее с Ахматовой отношения тяжкие: обе бабы доводят друг дружку до истерик.
2 января. Пишу для Анненкова предисловие к его книге{4}. Он принес мне проект предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли оно ему.
13 февраля. Щеголев живет на Петербургской стороне. Это человек необыкновенно толстый, благодушный, хитроватый, приятный. Обаятелен умом – и широчайшей русской повадкой. Вчера я с Замятиным были у него в гостях. Чтобы оживить вечер, я предложил рассказать, как кто воровал, случалось ли кому в жизни воровать.
Кроме нас с Замятиным были у Щеголева Анна Ахматова и приехавший из Москвы Чулков. Ахматова, по ее словам, «воровала только дрова у соседей», а Чулков и здесь оказался бездарен.
Ахматова прочитала три стихотворения{5}: одно черносотенное, для меня неприятное (почему-то), – потом два очень личных: о своем Левушке, о Бежецке, где она только что гостила; и другое о Клевете, по поводу тех толков, которые ходят о ее связи с Артуром Лурье.
Очень смеялась Ахматова, рассказывая, какую рецензию написал о ней в Берлине какой-то Дроздов: «Когда читаешь ее стихи, кажется, что приникаешь к благоуханным женским коленям, целуешь душистое женское платье»{6}. Впрочем, рассказывал Замятин, а она только смеялась.
Щеголев-сын рассказал, что И.Гессен ругает в «Руле» Тана, Адрианова, Муйжеля за то, что те согласились печататься в советской прессе, «а впрочем, как же было не согласиться, если тех, кто отказывался, расстреливали».
– И как они могут в этой лжи жить? – ужасается Ахматова.
14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стукнул – дверь сразу открыли: открыла Ахматова – она сидит на кухне и беседует с «бабушкой», кухаркой О.А.Судейкиной.
– Садитесь! Это единственная теплая комната.
Сегодня только я заметил, какая у нее впалая, «безгрудая» грудь. Когда она в шали, этого не видно. Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны.
– То же самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил еще лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло?..
Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гумилева. «Как она не понимает, что все отношения к ней построены на сочувствии к ее горю? Если же горя нет, то нет и сочувствия». И потом по-женски:
«Ну зачем Коля взял себе такую жену? Его мать говорит, что он сказал ей при последнем свидании:
– Если Аня не изменится, я с нею разведусь.
Воображаю, как она раздражала его своими пустяками! Коля вообще был несчастный. Как его мучило то, что я пишу стихи лучше его. Однажды мы с ним ссорились, как все ссорятся, и я сказала ему – найдя в его пиджаке записку от другой женщины, что „а все же я пишу стихи лучше тебя!“ Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный! Он так – во что бы то ни стало – хотел быть хорошим поэтом.
Предлагали мне Наппельбаумы стать синдиком „Звучащей Раковины“{7}. Я отказалась».
Я сказал ей: у вас теперь трудная должность: вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин – все в одном лице – даже страшно.
И это верно: слава ее в полном расцвете: вчера Вольфила устраивала вечер ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней – с утра до вечера: – Дайте хоть что-нибудь.
19 февраля. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад), сидел до 3 часов и спокойно говорит: «Я в час должен быть у Дункан!» (Дункан он называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили «Дюймовочку»{8}, он опаздывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической), а декорации кончал писать уже тогда, когда в театре стала собираться публика! Никогда у него нет спичек, и он всегда будет вспоминаться как убегающий от меня на улице, чтобы прикурить: миленький, изящный, шикарно одетый (в ботиночках, с перстнями, в котиковой шапочке), подкатывается шариком к прохожим: «Позвольте закурить».
Потом, он ужасно восприимчив к съестному – возле лавок гастрономических останавливается с волнением художника, созерцающего Леонардо или Анджело. Гурманство у него поэтическое, и то, что он ел, для него является событием на весь день: вернувшись с пира, он подробно рассказывает: вообразите себе. Так же жаден он к зрительным, обонятельным и всяким другим впечатлениям. Это делает из него забавного мужа: уйдя из дому, он обещает жене вернуться к обеду и приходит на третьи сутки, причем великолепно рассказывает, что, где и когда он ел. Горького портрет начал и не кончил{9}[47]47
Он сделал только половину лица, левую теку, а правую оставил «так», ибо не пришел на сеанс. – К.Ч.
[Закрыть]. С Немировичем-Данченко условился, что придет писать его портрет, да так и не собрался, хотя назначил и день, и час. Любят его все очень: зовут Юрочкой. Поразительно, как при такой патологической неаккуратности и вообще «шалости» – он успевает написать столько картин, портретов.
21 февраля. Третьего дня был я у одного из нынешних капиталистов, у него фабрика духов, лаборатория.
– Как называется ваша фирма? – спросил я.
– Никак, но очень хотелось бы дать ей подходящее имя.
– Какое?
– Дрянь… Торговый дом «Дрянь».
– Почему?
– Мы изготовляем такие товары, за которые надо бы не деньги платить, а бить. Вот, напр., наши духи…
И он побежал в другую комнату и принес две бутылочки я понюхал: ужас, не зловоние, но и не аромат, а просто запах вроде жженой пробки.
– И берут?
– Нарасхват. Пудами. Нынешние дамы любят надушиться.
– Вот такими духами?
– Ну да. Платят огромные деньги. Мы продаем в магазины по 5 миллионов ведро – а те разливают в бутылочки с надписью «Париж».
А хороший человек. Совестливый. Он говорит, что вся торговля в Питере только такая.
22 февраля. У Анненкова хрипловатый голос, вывезенный им из Парижа. Он очень застенчив – при посторонних. Войдя в комнату, где висят картины, – он, сам того не замечая, подходит вплотную и обнюхивает их (он близорук) и только тогда успокоится, когда осмотрит решительно все.
25 февраля. Вчера было рождение Мурочки – день для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме.
Ночь на 15 марта. Сейчас вспомнил, как Гумилев почтительно здоровался с Немировичем-Данченко и даже ходил к нему в гости – по праздникам. Я спросил его, почему. Он ответил: «Видите ли, я – офицер, люблю субординацию. Я в литературе – капитан, а он – полковник». «Вот почему вы так учтивы в разговоре с Горьким». – «Еще бы, ведь Горький генерал!» Это было у него в крови. Он никогда не забывал ни своего чина, ни чужого.
Как он не любил моего «Крокодила»! И тоже по оригинальной причине – «Там много насмешек над зверьми: над слонами, львами, жирафами». А он вообще не любил насмешек, не любил юмористики, преследовал ее всеми силами в своей «Студии», и всякую обиду зверям считал личным себе оскорблением. В этом ныло что-то гимназически милое.
17 марта. Мороз. Книжных магазинов открывается все больше и больше, а покупателей нет.
Только что вспомнил (не знаю, записано ли у меня), что Маяковский в прошлом году в мае страшно бранил «Двенадцать» Блока: – Фу, какие немощные ритмы.
18 марта. Был вчера в кружке уитмэнианцев и вернулся устыженный. Правда, уитмэнианства там было мало: люди спорили, вскрикивали, обвиняли друг друга в неискренности, но – какая жажда всеосвящающей «религии», какие запасы фанатизма. Я в последние годы слишком залитературился, я и не представлял себе, что возможны какие-нибудь оценки Уитмэна, кроме литературных, – и вот, оказывается, благодаря моей чисто литературной работе – у молодежи горят глаза, люди сидят далеко за полночь и вырабатывают вопрос: как жить. Один, вроде костромича, все вскидывался на меня: «это эстетика!» Словно «эстетика» – ругательное слово. Им эстетика не нужна – их страстно занимает мораль. Уитмэн их занимает как пророк и учитель. Они желают целоваться, и работать, и умирать – по Уитмэну. Инстинктивно учуяв во мне «литератора», они отшатнулись от меня. – Нет, цела Россия! – думал я, уходя. – Она сильна тем, что в основе она так наивна, молода, «религиозна». Ни иронии, ни скептицизма, ни юмора, а все всерьез, in earnest[48]48
Всерьез (англ.).
[Закрыть]. А здесь сидели – истомленные бесхлебьем, бездровьем, безденежьем – девушки и подростки-студенты и жаждали – не денег, не дров, не эстетических наслаждений, но – веры. И я почувствовал, что я рядом с ними – нищий, и ушел опечаленный.
20 марта. Сегодня устраивал в финской торговой делегации дочь Репина Веру Ильиничну. Вера Ильинична – тупа умом и сердцем, ежесекундно думает о собственных выгодах и, когда целый день потратишь на беготню по ее делам, не догадается поблагодарить. Продавала здесь картины Репина и покупала себе сережки – а самой уже 50 лет, зубы вставные, волосы крашеные, сервильна, труслива, нагла, лжива – и никакой души, даже в зародыше. Я с нею пробился часа три, оттуда в Госиздат – хлопотать о старушке Давыдовой – пристроить ее детские игры, оттуда в Севцентропечать – хлопотать о старушке Некрасовой. Опять я бегаю и хлопочу о старушках, а жизнь проходит, я ничего не читаю, тупею. Какая дурацкая у меня доброта! В финской делегации – меня что-то поразило до глупости. Вначале я не мог понять что. Чувствую что-то странное, а что – не понимаю. Но потом понял: новые обои! Комнаты, занимаемые финнами, оклеены новыми обоями!! Двери выкрашены свежей краской!! Этого чуда я не видал пять лет. Никакого ремонта! Ни одного строящегося дома! Да что – дома! Я не видел ни одной поправленной дверцы от печки, ни одной абсолютно новой подушки, ложки, тарелки!! Казалось даже неприятным, что в чистой комнате, в новых костюмах, в чистейших воротничках по страшно опрятным комнатам ходят кругленькие чистенькие люди. О!! это было похоже на картинку модного журнала; на дамский рисунок; глаз воспринимал это как нечто пересахаренное, слишком слащавое…
21 марта. Снег. Мороз. Туман. Как-то зазвал меня Мгебров (актер) в здание Пролеткульта на Екатерининскую ул. – посмотреть постановку Уота Уитмэна – инсценированную рабочими. Едва только началась репетиция, артисты поставили роскошные кожаные глубокие кресла – взятые из Благородного Собрания – и вскочили на них сапожищами. Я спросил у Мгеброва, зачем они это делают. «Это восхождение ввысь!» – ответил он. Я взял шапку и ушел. – «Не могу присутствовать при порче вещей. Уважаю вещь. И если вы не внушите артистам уважения к вещам, ничего у вас не выйдет. Искусство начинается с уважения к вещам»… Ушел, и больше не возвращался. Уитмэн у них провалился.
25 марта. Тихонов недавно в заседании вместо Taedium vitae[49]49
Отвращение к жизни (лат.).
[Закрыть]несколько раз сказал Те Deum vitae[50]50
Гимн жизни (лат.).
[Закрыть]. Ничего. Мы затеваем втроем журнал «Запад» – я, он и Замятин. Вчера было первое заседание{10}.
26 марта. Сегодня сдуру я назначил свидание Анне Ахматовой – ровно в 4 часа. Покупаю по дороге (на последние деньги!) булку, иду на Фонтанку. Ахматова ждала меня. На кухне все убрано, на плите сидит старуха, кухарка Ольги Афанасьевны, штопает для Ахматовой черный чулок белыми нитками.
– Бабушка, затопите печку! – распорядилась Ахматова, и мы вошли в ее узкую комнату, три четверти которой занимает двуспальная кровать, сплошь закрытая большим одеялом. Холод ужасный. Мы садимся у окна, и она жестом хозяйки, занимающей великосветского гостя, подает мне журнал «Новая Россия», только что вышедший под редакцией Адрианова, Тана, Муйжеля и других большевиствующих. Журнал, действительно, подмоченный, гниленький, гаденький – и я показал ей смешное место в статье Вишняка и сказал, что фамилию издателя Френкеля нужно понимать так – фракция русско-еврейских национальнокоммунистических езуито-лакеев. Но тут заметил, что ее ничуть не интересует мое мнение о направлении этого журнала, что на уме у нее что-то другое. Действительно, выждав, когда я кончу свои либеральные речи, она спросила:
– А рецензии вы читали? Рецензию обо мне. Как ругают!
Я взял книгу и в конце увидел очень почтительную, но не восторженную статью Голлербаха{11}. Бедная Анна Андреевна. Если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди! – Этот Голлербах, – говорила она, – присылал мне стихи, очень хвалебные. Но вот в книжке о Царском Селе – черт знает что он написал обо мне{12}. Смотрите! – Оказывается, в книжке об Анне Ахматовой Голлербах осмелился указать, что девичья фамилия Ахматовой – Горенко!! – И как он смел! Кто ему позволил! Я уже просила Лернера передать ему, что это черт знает что!
Чувствовалось, что здесь главный пафос ее жизни, что этим, в сущности, она живет больше всего.
– Дурак такой! – говорила она о Голлербахе. – У его отца была булочная, и я гимназисткой покупала в их булочной булки, – отсюда не следует, что он может называть меня… Горенко.
Чтобы проверить свое ощущение, я сказал поэтессе, что у меня в Студии раскол между студистами: одни за Ахматову, другие против.
– И знаете, среди противников есть тонкие и умные люди. Например, одна моя слушательница с неподвижным лицом, без жестов, вдруг, в минувший четверг, прочитала о вас доклад – сокрушительный, – где доказывала, что вы усвоили себе эстетику «Старых Годов», курбатовского «Петербурга», что ваша Флоренция, ваша Венеция – мода, что все ваши позы кажутся ей просто позами.
Это так взволновало Ахматову, что она почувствовала потребность аффектировать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять челку и великосветски сказала:
– Очень, очень интересно! Принесите мне, пожалуйста, почитать этот реферат.
Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе – и еле живет другим. Показала мне тетрадь своих новых стихов, квадратную, большую:
– Вот, хватило бы на новую книжку, но критики опять скажут: «Ахматова повторяется». Нет, я лучше издам ее в Париже, пусть мне оттуда чего-нибудь пришлют!
За границей, по ее словам, критика гораздо добрее:
– В Берлине вышла «Новая Русская Книга»{13} – там обо мне – да и обо всех – самые горячие отзывы. Я – гений, Ремизов – гений, Андрей Белый – гений.
– Ну что, у вас теперь много денег? – спросил я.
– Да, да, много. За «Белую Стаю» я получила сразу 150 000 000, могла сшить платье себе, Левушке послала – вот хочу послать маме, в Крым. У меня большое горе: нас было четыре сестры, и вот третья умирает от чахотки{14}. Мама так и пишет: «умирает». В больнице. Я знаю, что они очень нуждаются, и никак не могу послать. Мама пишет: «по почте не посылай!»
Заговорили о голодающих. Я предложил ей свою идею: детская книга для Европы и Америки. Она горячо согласилась.
В комнате стало жарко. Она сварила мне в кастрюле кофе, сама быстро поставила столик, чудесно справилась с вьюшками печки, и тут только я заметил, как идет ей ее новое платье.
– Это материя из Дома Ученых!
Я достал из кармана булку и стал уплетать. Это был мой обед.
Она жаловалась на Анну Николаевну (вдову Гумилева):
Вообразите, у Наппельбаумов Вольфсон просит у нее стихов, а она дает ему подлинный автограф Гумилева. Даже не потрудилась переписать. – Что вы делаете?! – крикнула я и заставила Иду Наппельбаум переписать. Вот какая она некультурная.
Потом сама предложила:
Хотите послушать стихи? – прочитала «Юдифь»{15}, похожую на «Три пальмы» по размеру. – Это я написала в вагоне, когда ехала к Левушке. Начала еще в Питере. Открыла Библию (загадали), и мне вышел этот эпизод. Я о нем и загадала.
29 марта. У Гумилева зубы были проедены на сластях. Он был в отношении сластей – гимназист.
Однажды он доказывал мне, что стихи Блока плохи; в них сказано:
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача{16}.
«Блок, очевидно, думает, что лихач – это лошадь. А между тем лихач – это человек».
Убили Набокова{17}. Боже, сколько смертей: вчера Дорошевич, сегодня Набоков. Набокова я помню лет пятнадцать. Талантов больших в нем не было; это был типичный первый ученик. Все он делал на пятерку. Его книжка «В Англии» заурядна, сера, неумна, похожа на классное сочинение{18}. Поразительно мало заметил он в Англии, поразительно мертво написал он об этом. И было в нем самодовольство первого ученика. Помню, в Лондоне он сказал на одном обеде (на обеде писателей) речь о положении дел в России и в весьма умеренных выражениях высказал радость по поводу того, что государь посетил парламент. Тогда это было кстати, хорошо рассчитано на газетную (небольшую) сенсацию. Эта удача очень окрылила его. Помню, на радостях он пригласил меня пойти с ним в театр и потом за ужином все время – десятки раз – возвращался к своей речи. Его дом в Питере на Морской, где я был раза два, был какой-то цитаделью эгоизма: три этажа, множество комнат, а живет только одна семья! Его статьи (напр., о Диккенсе) есть, в сущности, сантиментальные и бездушные компиляции. Первое слово, которое возникало у всех при упоминании о Набокове: да, это барин.
У нас в редакции «Речи» всех волновало то, что он приезжал в автомобиле, что у него есть повар, что у него абонемент в оперу и т. д. (Гессен забавно тянулся за ним: тоже ходил в балет, сидел в опере с партитурой в руках и т. д.) Его костюмы, его галстухи были предметом подражания и зависти. Держался он с репортерами учтиво, но очень холодно. Со мною одно время сошелся, я был в дружбе с его братом, Набоковым Константином, кроме того, его занимало, что я как критик думаю о его сыне-поэте{19}. Я был у него раза два или три – мне очень не понравилось чопорно и не по-русски. Была такая площадка на его парадном лестнице, до которой он провожал посетителей, которые мелочь Это очень обижало обидчивых.
Но все же было в нем что-то хорошее. Раньше всего голос. Задушевный, проникновенный, Бог знает откуда. Помню, мы ехали с ним в Ньюкасле в сырую ночь на верхушке омнибуса. Туман был изумительно густой. Как будто мы были на дне океана. Тогда из боязни цеппелинов огней не полагалось. Люди шагали вокруг в абсолютной темноте. Набоков сидел рядом и говорил – таким волнующим голосом, как поэт. Говорил банальности – но выходило поэтически. По заграничному обычаю, он называл меня просто Чуковский, я его просто Набоков, и в этом была какая-то прелесть. Литературу он знал назубок, особенно иностранную; в газете «Речь» так были уверены в его всезнайстве, что обращались к нему за справками (особенно Азов): откуда эта цитата? в каком веке жил такой-то германский поэт? И Набоков отвечал. Но знания его были – тривиальные. Сведения, а не знания. Он знал все, что полагается знать образованному человеку, не другое что-нибудь, а только это. Еще мила была в нем нежная любовь к Короленко, симпатиями которого он весьма дорожил. Его участие в деле Бейлиса также нельзя не счесть большой душевной (не общественной) заслугой. И была в нем еще какая-то четкость, чистота, – как в его почерке: неумном, но решительном, ровном, крупном, прямом. Он был чистый человек, добросовестный; жена обожала его чрезмерно, до страсти, при всех. Помогал он (денежно), должно быть, многим, но при этом четко и явственно записывал (должно быть) в свою книжку, тоже чистую и аккуратную.
К таким неинтересным людям, как О.Л.Д’Ор, он не снисходил: о чем ему, в самом деле, было разговаривать с еврейским остряком дурного тона, не знающим ни хороших книг, ни хороших манер! Теперь О.Л.Д’ор отмстил ему весьма отвратительно. Фельетон О.Л.Д’Ора гнусен – развязностью и наигранным цинизмом{20}. После этого фельетона еще больше страдаешь, что убили такого спокойного, никому не мешающего, чистого, благожелательного барина, который умудрился остаться русским интеллигентом и при миллионном состоянии.
Кстати: я вспомнил сейчас, что в 1916 году, после тех приветствий, которыми встретила нас лондонская публика, он однажды сказал:
– О, какими лгунишками мы должны себя чувствовать. Мы улыбаемся, как будто ничего не случилось, а на самом деле…
– А на самом деле – что?
– А на самом деле в армии развал; катастрофа неминуема, мы ждем ее со дня надень…
Это он говорил ровно за год до революции, и я часто потом вспоминал его слова.
8 апреля. Изумительно: английские писатели не умеют кончать. Лучшие из них – к концу сбиваются на позорную пошлость. Начинают они превосходно – энергично, свежо, мускулисто, а конец у них тривиальный, сфабрикованный по готовому штамму. Я только что закончил «Far from the Madding Crowd»[51]51
«Вдали от обезумевшей толпы» (англ.).
[Закрыть], кто мог ожидать, что даже Томас Гарди окажется таким пошляком! Все как по писаному: один неподходящий мужчина в тюрьме, другой – в могиле, а третий, самый лучший, после всех препон и треволнений женится наконец на уготованной ему Батшибе. Почему все романисты считают, что самое лучшее в мире – это жениться? Почему они приберегают, как по заказу, все настоящие женитьбы к концу? Я хотел бы написать статью «Концы у Диккенса», взять все концы его романов – и укатать биологическую, социологическую и эстетическую их ценность!
10 апреля. Снег. Мороз. Солнца как будто и на свете нет. Безденежье все страшнее. Вчера я взял с полки книги и пошел продавать. Пуда полтора. Никто из книготорговцев и смотреть на них не захотел. Купили пустяк, фунта три, – дали два гроша, так я и пропутешествовал даром.
25 апреля. В субботу встретил Сологуба. Очень он поправился, пополнел. Глазок у него чистый, отчетливый, и вообще он весь как гравюра. Он сказал мне у Тенишевского училища: слушайте, какую ехидную книжку вы написали о Блоке. Книжка, конечно, отличная, написана изящно, мастерски. Хоть сейчас в Париж, но сколько там злоехидства. Блок был не русский – вы сами это очень хорошо показали. Он был немец, и его «Двенадцать» – немецкая вещь. Я только теперь познакомился с этой вещью – ужасная. Вы считаете его великим национальным поэтом{21}. А по-моему, весь свой национализм он просто построил по Достоевскому. Здесь нет ничего своего. России он не знал, русского народа не знал, он был студент-белоподкладочник.
Сегодня я с 10 ч. утра хожу по городу, ищу три миллиона и нигде не могу достать. Был у Ахматовой – есть только миллион, отдала. Больше нет у самой. Через три-четыре дня получает в Агрономическом институте 4 миллиона. Дав мне миллион, она порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала. – «Это для маленькой!»
28 мая. Вчера, в воскресение[52]52
В 1922 г. воскресенье – 28 мая.
[Закрыть], были у меня вполне прелестные люди: «Серапионы». Сначала Лунц. Милый, кудрявый, с наивными глазами. Хохочет бешено. Через два месяца уезжает в Берлин. Он уже доктор филологии, читает по-испански, по-французски, по-итальянски, по-английски, а по внешности гимназист из хорошего дома, брат своей сестры-стрекозы. Он, когда был у нас в Студии, отличался тем, что всегда говорил о своей маме или о папе. (Его папа имел здесь мастерскую научных приборов – но и сам захаживал к нам в Студию.) У Лёвы так много рассказов о маме, что в Студийном гимне мы сочинили:
А у Лунца мама есть,
Как ей в Студию пролезть?
Он очень благороден по-юношески. Ему показалось недавно, что Волынский оскорбил Мариэтту Шагинян, он устроил страшный скандал. За меня стоял горою в Холомках. Замятин считает его лучшим из «Серапионовых братьев», то есть подающим наибольшие надежды.
Потом пришли два Миши: Миша Зощенко и Миша Слонимский. Зощенко темный, молчаливый, застенчивый, милый. Не знаю, что выйдет из него, но сейчас мне его рассказы очень нравятся. Он (покуда) покладист. О рассказе «Рыбья самка» я сказал ему, что прежний конец был лучше; он ушел в Лидину комнату и написал прежний конец. О его предисловии к «Синебрюхову» я сказал ему, что есть длинноты, он сейчас их выбросил. Все «Серапионы» говорят словечками из его рассказов. «Вполне прелестный человек», «блекота» и пр. стало уже крылатыми словами. Он написал кучу пародий, – говорят, замечательных. К «Синебрюхову» он нарисовал множество рисунков.
Потом пришел Илья Груздев – очень краснеющий, критик. Он тоже бывший мой студист, молодой, студентообразный, кажется, не очень талантливый. Статейки, которые он писал в Студии, были посредственны. Теперь все его участие в «Серапионовом Братстве» заключается в том, что он пишет о них похвальные статьи.
1/VI. Сегодня весь день переводил «Королей и капусту»{22} – и заработал 10 мил. рублей. Вечером впервые после болезни читал лекцию в Доме Литераторов. Потом с Лидой в шахматы. Потом записывал современные слова{23}. Решил с сего дня записывать эти слова: собирать. У меня есть для этого много возможностей. Сегодня весь день был дождь. Переводя О Генри, я придумал большую статью о мировой и нынешней литературе: обвинительный акт. О’Генри огромный талант, но какой внешний: все герои его как будто на сцене, все эффекты чисто сценические, каждый рассказ – оперетка, водевиль и т. д. Большинство рассказов о деньгах и о денежных операциях. Его биография очень интересна, но это связано именно с упадком словесности. Биографии писателей стали интереснее их писаний.
19 июля. Весь день на балконе. Это моя дача. Сижу и загораю. Был вчера у Анненкова. Вместе с Алянским. Он прочитал свою статью о смерти искусства, написанную в бравурном евреиновском тоне. Есть отличные куски, и вообще он весь – художественная натура. Много дешевых мыслей – для читателя, а не для себя самого, – но есть и поэзия, и остроумие, и хороший задор.
Июль. Встретил Анну Ахматову. Шагает так, будто у нее страшно узкие башмаки. Летом, в белом платье она очень некрасивая, видно, какою она будет старухой. (Зубы кривые, выщербленные.) Заговорила о сменовеховцах. Была в Доме Литераторов. Слушала доклад редакторов «Накануне». «Отвратительно! Я сказала Волковыскому: представьте мне редактора „Накануне“. Мы познакомились. Я и говорю: – Почему вы напечатали мои стихи?{24} – Мы получили их из Москвы. – Но ведь я в Москве не была 7 лет. – Не знаю, справлюсь в Берлине и напишу вам. – Нисколько эти люди не теряют равновесия ни в каких случаях».
Кажется, 27 июля. Ольгино. После истории с Ал. Толстым{25}, после бронхита, плеврита, Машиной болезни, Лидиной болезни, безденежья уехал в Ольгино отдохнуть.
31 июля. «Тараканище» пишется. Целый день в мозгу стучат рифмы. Сегодня сидел весь день с 8 часов утра до половины 8-го вечера – и казалось, что писал вдохновенно, но сейчас ночью зачеркнул почти всё. Однако в общем «Тараканище» сильно подвинулся.
3 августа. «Тараканище» мне разнравился. Совсем. Кажется деревянной и мертвой чепухой – и потому я хочу приняться за «язык». Дождик милый и мирный.
10 августа. Были мы вчера утром у Лебедева – Владимира Васильевича. Чудесный художник, изумительный. Сидит в комнатенке и делает «этюды предметной конструкции». Мы привезли к нему его же рисунки – персидские миниатюры – отличная, прочувствованная стилизация. Клячко захотел купить их (они случайно были у меня). Клячко спросил:








