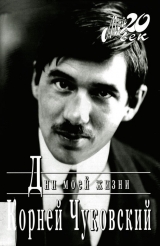
Текст книги "Дни моей жизни"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 50 страниц)
1943
26/I. Вчера ночью – двинулись в путь, в Москву, вместе с М.Б. и Женичкой. Прощай, милый Ташкент. Моя комната с нелепыми зелеными занавесками, с шатучим шкафом; со сломанной печкой, с перержавелым кривобоким умывальником, с двумя картами, заслоняющими дыры в стене, с детским рисуночком между окнами, выбитым стеклом в левом окне, с диковинной форточкой, – немыслимый кабинет летом, когда под окном галдели с утра до ночи десятка три одесситов.
2 февраля. Мы – в Москве! Женя декламирует: «Здравствуй, милая, родимая, здравствуй, милая, любимая Москва!» С вокзала доставиться нет никакой возможности. Но начальник поезда отрекомендовал мне некоего Кузнецова, который за бутылку водки добыл мне грузовичок – и вторую бутылку дал я шоферу, и вещи мои были доставлены.
Толстой вчера был в ударе: прелестно рассказал, как возят Гитлера в клетке по всем городам СССР. Сначала собираются огромные толпы в Москве, в Ленинграде, потом надоедает глазеть на него, его возят по уездным, потом – по глухим деревням – и в конце концов никакого интереса к нему. Он страшно оскорблен, рычит, становится на дыбы: «Я – Гитлер». Но никакого интереса.
5 марта. Я читаю Carlyle’s «History of Frederick the Great»[83]83
Карлейля «История Фридриха Великого» (англ.).
[Закрыть]. Поучительно! Вот где корни пруссизма, джингоизма, фашизма – и германского машинного тупоумия.
10 марта. Вчера звонок: «С вами будут говорить из Детгиза». Голос Голенкиной. «К.И., я вам должна сообщить, что мы получили указание не издавать вашей сказки». Я ничего не ответил и повесил трубку. Итак, победила Наумова, и советские дети остались без сказки.
29 марта. 26-го выступал в Союзе Писателей на совещании. Очень плохо. Сам себе казался старым и провинциальным. Изумительно говорил Эренбург. Вчера в Зале Чайковского читал воспоминания о Горьком (день его 75-летия). Вместе со мною выступали Фадеев, Федин, Сурков и Всев. Иванов. Фадеев (председатель) собрал все затасканные газетные штампы, смешал их в одну похлебку, и – речь его звучала как пародия. Она и есть пародия, т. к. единственное его стремление было – угодить не читателю, не слушателю, не себе, а начальству. Это жаль, потому что есть же у него душа! Федин мне рассказывал, что, когда из ЦК позвонили Фадееву, чтобы он написал похвалу Ванде Василевской, он яростно выругался в разговоре с Фединым и сказал: «Не буду, не буду, не буду писать», а потом на другой день написал и позвонил Федину: Знаешь, «„Радуга“ не так и плоха». Написать-то он написал, а заказчики не взяли. Все же что-то в нем есть поэтическое и сильное.
29/IV. Мне опять, как и зимою 1941/42 г., приходится добывать себе пропитание ежедневными выступлениями перед детьми или взрослыми.
15/V. Телеграмма из Ташкента: «Печатание сказки приостановлено. Примите меры. Тихонов». Начал писать о Чехове. Увлекательно.
2 июня. О сказке еще никакого решения. Не знаю, что и делать. Завтра – в Союзе Писателей в 6 часов заседание Президиума для обсуждения сказки. Был сегодня у Толстого. У него такая же история с «Иоанном Грозным». Никто не решается сказать, можно ли ставить пьесу или нет. Ни Щербаков, ни Еголин, ни Александров. В конце концов он сегодня написал письмо Иосифу Виссарионовичу.
3 июня. Совещание Президиума по поводу моей сказки. Все пели себя очень сплоченно – высказались за сказку единодушно. Обратно я шел со Слонимским и Асеевым. Погода прелестная. Тверской бульвар в зелени. Нежно серебрится аэростат заграждения. На бульварах гомон и смех. Москве хочется быть легкомысленной. «Как много лишнего народу в Москве!» – говорил вчера Шолохов.
15/VI. Сейчас мне позвонил академик Митин, что Г.Ф.Александров сказку разрешил. Так зачем же злые вороны очи выклевали мне?{1}
24/VII. Был вчера в Переделкине – впервые за все лето. С невыразимым ужасом увидел, что вся моя библиотека разграблена. От немногих оставшихся книг оторваны переплеты. Разрознена, расхищена «Некрасовиана», собрание сочинении Джонсона, все мои детские книги, тысячи английских (British Theatre[84]84
Английский театр (англ.).
[Закрыть]), библиотека эссеистов, письма моих детей, Марии Б. ко мне, мои к ней – составляют наст на полу, по которому ходят. Уже уезжая, я увидел в лесу костер. Меня потянуло к детям, которые сидели у костра. – Постойте, куда же вы? – Но они разбежались. Я подошел и увидел: горят английские книги, и между прочим – любимая моя американская детская «Think of it»[85]85
«Подумай об этом» (англ.).
[Закрыть] и номера «Детской литературы». И я подумал, какой это гротеск, что дети, те, которым я отдал столько любви, жгут у меня на глазах те книги, которыми я хотел бы служить им.
Вчера взят Харьков нашими войсками.
Сейчас получил из Ташкента «Одолеем Бармалея» изд. Госуд. изд-ва УзССР.
23/[IX]. Взята Полтава!!
Тата вернулась с трудфронта. Первая ночь в родительском доме. Спит. И вдруг закричала. «Что с тобой?» – «Мне приснилось, что немцы запихивают меня в пушку „Катюшу“, чтобы выстрелить мною в русских».
7/XI. Взят Киев. Речь Сталина. Получена телеграмма, что 3-го Лида и Люша выехали из Ташкента.
25/XII. 4 дня тому назад скончался Тынянов. Хоронил его.
Сегодня утром у Марины родился сын{2}.
29/XII. Купил Жене елку. Он говорит: «Я думал, что дед вообще принципиально против елок». (Ему шесть лет.)
1944
1 января. Встретил с Лидой, М.Б., Люшей Новый год. Тата Пыла у новорожденного: «Вот дуся! ах какой дуся»{1}. Вышли «9 братьев» – Колин роман. Взят Житомир – опять!!! На этот раз навсегда. Говорят, немцы присылали в Тегеран просить мира.
Был вчера у Михалкова, он всю ночь провел у Иосифа Виссарионовича – вернулся домой в несказанном восторге. Он читал Сталину много стихов, прочел даже шуточные, откровенно сказал вождю: «Я, Иосиф Виссарионович, человек необразованный и часто пишу очень плохие стихи». Про гимн Михалков говорит: «Ну что ж, все гимны такие. Здесь критерии искусства неприменимы! Но зато другие стихи я буду писать – во!» И действительно, его стихи превосходны – особенно о старике, продававшем корову.
После этого мне читала чудесные стихи Наташа Кончаловская: особенно оригинально про чайник.
1 марта. Пошляки утешают меня: «За битого двух небитых дают – да никто не берет». – «Битье определяет сознание». В тот же день я был в Театре Ленинского комсомола – «Сирано». Играли скверно. «Нора» в тысячу раз лучше.
Статья в «Правде»{2}. Звонки от Фадеева, Вирты, Лены Конюс.
Достоевский. (Для моей статьи о Чехове.) «Только то и крепко, подо что кровь течет. Только забыли, негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь проливают. Вот он – закон крови на земле»{3}.
Васильев внушил отвращение не своим наветом у Щербакова. Это мне понятно: человек с навязчивой идеей предстал впервые перед тем, к кому стремился все эти годы, – обалдел – и, человек патологически обидчивый, свое подозрение, свою обиду, свою уязвленность излил как сущее. Гнусен он был после доноса. Вернувшись от Щербакова, он заявил мне, что он покончит жизнь самоубийством, что он не может жить с таким пятном, что он сейчас же заявит т. Щербакову о своей лжи. «Я не достоин подать вам руку!» – сказал он М.Б. Потом он сказал мне по телефону, что ему звонил Щербаков и запретил ему водиться со мной, а то бы он сейчас пришел ко мне; стал утверждать, что Щербаков все это затеял (!) из неприязни (!) ко мне. Когда я через 2 часа потребовал у него, чтобы он написал правду, он вдруг заявил, что ОГЛОХ, что не слышит меня, что через час он непременно напишет. Когда же я пришел к нему через час, он сказал, что он мертвецки пьян, и вел себя так слякотно, что я, человек доверчивый, воображавший, что он переживает душевные муки невольного лжеца и предателя, увидел пред собою дрянненького труса и лукавца.
10/IV. Были Н.Кончаловская и 3.Ермольева. Кончаловская, чуть не плача, говорит об Эль-Регистане, который «вторгся в дом и сбил с пути Сереженьку». «Сереженька ничего не читает, ну ничего, пишет книжку „За что советская страна дает героям ордена…“ Папа сказал, что он не будет приходить ко мне, если из нашего дома не уйдет Эль-Регистан» и т. д.
Ермольева едет в Америку.
Июнь на 28-е. Ночь. Был вчера в суде на заседании, посвященном Кони. И тянулось это три часа. Я пошел на эту пытку от тоски, от боли неудачничества. После ударов, которые мне нанесены из-за моей сказки, – на меня посыпались сотни других – шесть месяцев считалось, что «Искусство» печатает мою книгу о Репине, и вдруг дней пять назад – печатать не будем – вы измельчили образ Репина!!! Я перенес эту муку, уверенный, что у меня есть Чехов, которому я могу отдать всю душу. Но оказалось, что рукопись моего Чехова попала в руки к румяному Ермилову, который, фабрикуя о Чехове юбилейную брошюру, обокрал меня, взял у меня все, что я написал о Чехове в 1914 году накануне Первой войны и теперь – во время Второй, – что обдумывал в Ленинской библиотеке уединенно и радостно, – и хотя мне пора уже привыкнуть к этим обкрадываниям: обокрадена моя книга о Блоке, обокраден Некрасов, обокрадена статья о Маяковском, Евдокимов обокрал мою статью о Репине, – но все же я жестоко страдаю. Если бы я умел пить, то я бы запил. Т. к. пить я не умею, я читаю без разбора, что придется – «Eustace Necklace» by Trollope, «Black Tulip» by Al. Dumas, «Barchester Towers» by Trollope, «Passage to India» by Forster[86]86
' «Ожерелье Юстас» Троллопа, «Черный тюльпан» Ал. Дюма, «Барчестерские башни» Троллопа, «Поездка в Индию» Форстера (англ.).
[Закрыть], даже Олдингтона, даже «Newcomes»[87]87
«Ньюкомы» (англ.).
[Закрыть] Теккерея, – и меня возмущает, какие крошечные горести, микроскопические – по сравнению с моими, с нашими, – изображал роман XIX в., – и раз я даже хватил Троллопом оземь, когда он хотел заставить меня взволноваться тем, что богатая вдова, дочь священника, получила письмо – вполне корректное – от холостого м-ра Slope’a – и обсуждение этого эпизода отняло у автора 20 страниц, – и сотни страниц посвящает он столь же важной проблеме: останется ли некий поп во главе богадельни для престарелых до конца своих дней – или у него эту богадельню отнимут? Нам, русским людям, людям 1944 года, такие проблемы кажутся муравьиными, а порою клопиными. Взял я на днях и без всякого интереса прочел «International Epsode»[88]88
«Случай из международной жизни» (англ.).
[Закрыть] Генри Джеймса и его же «Washington Square»[89]89
«Площадь Вашингтона» (англ.).
[Закрыть], которые мне когда-то правились, – эта регистрация мельчайших чувствозаньиц даже не муравьев, а микробов, – и почувствовал себя оскорбленным. Пожил бы этот Джеймс хоть один день в моей шкуре – не писал бы он этих вибрионад.
Третьего дня я был на вечере Ираклия Андроникова в Союзе Писателей. Он – гениален. Абсолютный художественный вкус. Но – и на нем потускнение.
17/VII. Сейчас было мое последнее чеховское выступление – в Зале Чайковского. Я прибежал туда в каких-то рябых шлепанцах, которые давно надо выбросить, – и без носюв. Директор зала дал мне на время свои носки.
Сентябрь 15. В Переделкине. Гулял вечером с Валентином Катаевым.
Ничего не пишу (первый раз в жизни!), читаю без конца и без интереса. Первый раз в жизни – никакого аппетита к работе. Вожу тачки с перегноем для малины и земляники, утомляю себя до бессонницы, до расширения сердца, но это приятнее для меня всего остального.
5/X. Сейчас вырезали из «Нового мира» мою статью о Репине.
3/XII. Павленко дал мне книжку Жоржика Иванова «Петербургские зимы», издана в Париже в 1928 г., записки о первых годах революции – о Сологубе, об Анне Ахматоюй, Гумилеве и проч., о людях, которых я знал. Очень талантливо, много верного, но – каким папильоном кажется Жоржик. Порхавший в те грозные дни среди великих людей и событий. Таковы же были и его стихи: как будто хороши, но почти несуществующие; читаешь и чувствуешь, что, в сущности, можно без них обойтись.
1945
Новый год встретил с М.Б. – много говорили. Она вся измученная и отношением с Лидой, и бедностью, и бессонницей, и мрачными мыслями. Мне легче. Я каждое утро оболваниваю себя переводом Шекспира (Love’s Labour’s Lost[90]90
«Бесплодные усилия любви» (англ.).
[Закрыть]) – уже перевел почти весь IV акт рифмованными стихами – так что мое утро свободно от углубления в печали, неудачи и боли. Ей же очень трудно.
Люди, которых я встречаю: Михалков, Кончаловская, Дикий, – не утоляют души, но они милее других. Был вчера Цехановский (автор фильма «Телефон»), Был Харджиев. Я собираюсь в Болшево.
6 июля. Переехали всей семьей в Переделкино. На грузовике. Чудесно. Люша приладила новый гамак. Начал писать сказку о Карагоне [91]91
Позднее сверху вписано: «Бибигон».
[Закрыть] – последнюю сказку моей жизни.
15 октября. Переезд в город с дачи. 2 ночи бессонные. Вчера – в Колонном зале. Ужас. Жду 10 часов: будет ли передаваться «Бибигон»? Боюсь, что нет. Читал ночью «Пиквика», переписку Блока и Белого, – черт знает, куда себя приткнуть. Скорее бы дожить! – или умереть!
1946
21 марта. Я в Узком. Артист Малого театра Михаил Францевич Ленин. Тотчас же стал развивать свою любимую тему: «гибнет (?) великий русский язык». В. В.Виноградов с женой: готовит доклад в Союзе Писателей «О безграмотстве (?!) Леонова, Федина, Гладкова и др.». Ромашов правильно сказал ему, что беда вовсе не в «искажениях» русской речи со стороны Леонова и др., а в ее нивелировке, в ее обеднении и обескровливании; в произволе редакторов.
26 марта. У Чехова в «Чайке»:
«– Лечиться в шестьдесят лет!
– И в шестьдесят лет жить хочется.
– Лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, – это, извините, легкомыслие».
Но ведь легкомыслие – главное мое спасение.
Как чудесно, что в великий предсмертный канун я еще раз могу с волнением и радостью читать Чехова.
1 апреля. День моего рождения. Хотя я не спал ночь, хотя ничего радостного я не жду, хотя и впереди, и позади горькие обиды и смерти, настроение благостное, вполне именинное. Погода с утра ясная.
Итак, у Чехова в «Чайке» к моему 64-летию:
Дорн: Выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, – это не великодушно.
Сорин: Какой упрямец. Поймите, жить хочется!
Дорн: Это легкомыслие. По законам природы, всякая жизнь должна иметь конец.
9 апреля. Как это благородно: бить битого! Старцев в «Советской книге» свел со мной счеты{1} (в своей рецензии на моего Уолта Уитмена).
10 апреля. А я опять правлю своего «Бибигона». Клише к этой книге уже сделаны, премии она не получила (на конкурсе) – выйдет серенькая, с плохими рисунками, но я правлю и правлю – неизвестно зачем.
15 апреля, понедельник. Вчера М.Б. привезла мне моего Григория Толстого, побывавшего в редакции «Лит. наследства»{2}. Исковеркано до последней степени. Редакторы не оставили живого места, причем выправляли главным образом слог. Всякая живая мысль объявлена «фельетонной».
17 апреля, среда. Приехал Андроников с Вивенькой. Утомлен. У него в комнате – а он с женой и дочерью занимает одну комнату – живет теперь Н.А.Заболоцкий, которого милиция изгнала от Степанова. Кара-Мурза, Петр Макарович, директор, встретил их величаво, дал им великолепную комнату № 35, и он пошел ко мне и с обычным артистизмом изобразил Тарле, взяв со стола у меня статью Тарле «Гитлеровщина и Наполеоновская эпоха» – и про чтя ее голосом Тарле и с его ужимками, и статья зазвучала как пародия. Ежеминутно изгибаясь всем корпусом, поворачиваясь то вправо, то влево, он как бы доверительно каждому слушателю своим интимным, кокетливым голосом – как будто экспром том, – предо мною стоял сам Тарле, а Андроников исчез, весь, целиком просвеченный своим образом.
Эта способность абсолютно перевоплощаться и так, чтобы от тебя самого не осталось ни ногтя, он обнаружил, показывая Николая Леонтьевича Бродского, неумного человека, который излагает всякие банальности с большой предварительной мимикой – как будто сложная скрипучая машина долго приводится в движение, прежде чем вымолвит: «Лермонтов – великий поэт». Причем Ираклий до того преображается, что может тут же от лица каждого своего героя сочинять в его стиле соответствующие опусы. Мелькнул на минутку Илюша Зильберштейн, потом Маршак, говорящий афоризмами, словно они только что пришли ему в голову (между тем как он повторяет их в тысячный раз), – и вдруг в репертуаре Андроникова появилось новое лицо – наш Женичка: Андроников был вчера у Марии Борисовны и застал у нас в доме несчастье: издох котенок, обкормленный Люшей. И Андроников показал сложное и огорченное лицо Жени, который нахмуренно слушает, как Мария Бор. рассказывает, как она, по совету ветеринарного доктора, дала котенку касторку, и пессимистически машет рукой, выражая полное презрение к медицинской науке. Я сразу даже уши увидел Женичкины. А Ираклий вдруг превратился в Пастернака, лицо у него стало выпуклое, вот этакое, профиль абсолютно изменился, глаза заблистали по-пастернаковски, и пиджак у него превратился в пастернаковский…
22 апреля, понедельник. Вчера был у меня Валя Берестов и читал мне наброски своей записной книжки. Книжка крохотная, он носит ее в кармане штанов – и какие в ней шедевры талантливости. Я на радостях написал его матери, Зинаиде Федоровне, в Калугу большое письмо о том, что в его очерках виден и зрелый, безупречный, безошибочный вкус, и зоркий, проникновенный талант, и благородная ненависть ко всякой фальши, и забронированность от всякого упадочнического, циничного, мелкого, и вздорного. Какие записи об отце, о свирепости немцев, о героизме и нравственной выдержке пленных, о пассажирах в вагоне, о разговорах в толпе. Был у меня вчера Л.Квитко (с Бертой Самойловной) – и он рассказал, что в Союзе Писателей атмосфера немного прояснилась. Квитко тоже восхищался Валей Берестовым.
8. V.46. С утра в Ленинской библиотеке. Смотрел критические статьи о Некрасове в «Москвитянине» и т. д. Днем в «Мурзилке». Вечером, впервые, у Твардовского. Чудесное впечатление: шестилетняя дочка Олечка, понимающая жена, много книг, внутренняя заинтересованность в литературе. Говорил о новой сказке Исаковского, которую «Правда» предложила ему изменять{3}. Жалуется, что его, Твардовского, «избранные стихи» печатаются 6 лет в Гослитиздате и всё не могут выйти. О Еголине: был у нас в университете профессором – посмешищем студентов. Задавали ему вопросы, а он ничегошеньки не знал. О Ник. Тихонове: саботирует все свои обязанности по Союзу Писателей: решительно ничего не делает.
Июня 25, вторник. Третьего дня вечером пришел ко мне в Переделкино Алянский и сказал, что ведется большая кампания против «Бибигона»: будто бы Маршак всюду заявляет, что это бездарная вещь, и будто бы завтра (т. е. 24-го) в ЦК ВЛКСМ будет его ругательный доклад о «Мурзилке», главной темой доклада будет – ничтожество «Бибигона». Меня это как кипятком обварило: «Бибигон» вполне беззащитен. Стоит завтра какому-ниб. ослу заявить, что в этой сказке – политические намеки, и книга будет изъята, Детгиз не выпустит ее, «Мурзилка» прекратит ее печатание. Встревоженный, пошел я к Фадееву. Рассказал ему свое горе. Там был В.А.Каверин. Этот чудесный человек принял мое горе до такой степени к сердцу, что решил поехать завтра в ЦК ВЛКСМ, чтобы отпарировать удары, направленные против «Бибигона». Он взял у меня «Бибигона», которого он не читал, взял «Мурзилку» и, хотя у него болел живот (у него язва в кишках), хотя к нему должны были приехать строители, дабы начать постройку его финского домика, бросил все и поехал на выручку.
В ЦК ВЛКСМ собрались все подсудимые: Бабушкина, Халтурин, я, Алянский. В качестве судей прибыли библиотекарши, два-три педагога, Лидия Кон – и Каверин. К «Бибигону» предъ явлены были идиотские обвинения: «внучки мои завизжали», – что это за выражение: «завизжали»? и т. д.
«Мурзилка» – дрянной журнал, – но по существу никто не умел его выругать, говорили обиняками, о «Бибигоне» никто не сказал ни одного дельного слова, но разноса не было. Напротив, говорили, что «дети любят его», что «хоть это и чепуха, а забавно», и т. д. Каверин сильно поддержал меня: он сказал, что я владею «тайной» увлекать детей и что «Бибигон» энергичен, динамичен и проч.
В общем, все обошлось благополучно – но главный бой отложен на четверг. Мишакова, усталая, но все еще прелестная, сказала, что это совещание собирается по случаю того, что И. В.Сталин выразил свое неодобрение издающимся в СССР журналам и потребовал, чтобы они повысили свое качество. ЦК ВЛКСМ решило рассмотреть все журналы и каждому сделать свои предложения. Рассматривается каждый журнал дважды – сначала у Мишаковой, потом, на основе первого рассмотрения, у Михайлова. Так что еще раз будут сечь «Бибигона» в четверг.
Все это я записываю только для того, чтобы записать изумительное поведение Фадеева, который сегодня утром пришел ко мне узнать, чем кончилась вчерашняя история. «Мы с Ангелиной Осиповной так взволновались третьего дня».
26 августа. Неделя об Ахматовой и Зощенко{4}. Дело, конечно, не в них, а в правильном воспитании молодежи. Здесь мы все виноваты, но главным образом по неведению. Почему наши руководители Фадеев, Тихонов – не указали нам, что настроения мирного времени теперь неуместны, что послевоенный период не есть передышка, что вся литература без изъятия должна быть боевой и воспитывающей?
Занимаюсь с Женей английским, арифметикой, русским.
У Федина – Алянский, Паустовский, Гус. Только и разговоров – о Зощенко и Ахматовой. Я всячески запретил себе подобные разговоры – они мешают работать.
Сегодня, 29 августа, в пятницу в «Правде» ругательный фельетон о моем «Бибигоне» – и о Колином «Серебряном острове»{5}. Значит, опять мне на старости голодный год – и как страшно положение Коли: трое детей, строится квартира и после каторжных трудов – ни копейки денег. Был у меня Боровой – мы гуляли с ним – было весело – пришли с прогулки – М.Б. говорит: «Посмотри, вот статья о „Бибигоне“». Погода теплая, сыроватая. Все же у меня хватило силы прочитать Боровому о Некрасове, но сейчас сердце болит до колик – и ничего взять в рот не могу. Пришел Пастернак. Бодрый, громогласный. Принес свою статью о Шекспире.
5 сентября. Весь день безостановочный дождь. Коле возвратили в «Советском писателе» уже принятую книгу рассказов – у него в кармане 6 рублей вместо ожидаемых тысяч. В «Правде» вчера изничтожают Василия Гроссмана{6}. – Третьего дня у меня был Леонов. Говорит: почему Пастернак мешает нам, его друзьям, вступиться за него? Почему он болтает черт знает что? Леонов строит оранжерею – с умилением говорит о ней. Рассказывал подробно о заседании президиума{7}: выступление Фадеева об Антокольском и Гурвиче («почему Гурвич никогда не похвалит ничего советского?»), выступление Поликарпова против «Знамени», Тарасенкова – «вот есть статья о поэтах, и тут сказано: „Тихонов, Пастернак и т. д.“ Неужели вам это не обидно, т. Тихонов?»
Я читаю: «Благонамеренные речи» Щедрина, «Записки» Г.З.Елисеева, дневник Блока, – занимаюсь с Женей и не вижу никаких просветов в своей стариковской жизни: ни одного друга, ни одного вдохновения. В сущности, я всю жизнь провел за бумагой – и единственный у меня был душевный отдых: дети. Теперь меня ошельмовали перед детьми, а все, что я знаю, никому не нужно.
Меня мало смущают судьбы отдельных литераторов – и моя в том числе, – но неужели мне перед самой могилой увидеть судьбу всего мира?
Надо взять мою тоску измором – задушить ее непосильной работой. Берусь за мою рукопись о Некрасове, которая так же клочковата, как и всё в моей жизни сейчас.
Был сейчас Нилин. У него ни гроша. Изъятие «Большой жизни» лишило его гонорара 440 000 р.{8} Но он счастлив: ему дана командировка в Донбасс, он вскоре поедет туда и попытается загладить ошибку. После Нилина пришел ко мне Леонов. Весел, моложав, похож на Сурикова (на портрете Репина). – By зет фатигэ? Пермете муа![92]92
– Вы устали? Позвольте! (франц.)
[Закрыть] – заговорил он на своем французском языке. Оказывается, сегодня уже кончилось заседание президиума. Результаты: Фадеев – генеральный секретарь. Тихонов Вишневский, Корнейчук, Симонов – его заместители. В секретариате Борис Горбатов и Леонов… Сегодня в разговоре все свои сравнения он брал из области садоводства. Говорит, что не может написать и десятой доли того, что хотелось бы. «А вы думаете, почему я столько души вкладываю в теплицу, в зажигалки?.. Это торможение. Теплица – мой роман, зажигалка – рассказ».
Зощенко и Ахматова исключены из Союза Писателей. Говорят, Зощенко заявил, что у него денег хватит на 2 года и что он за эти 2 года напишет такую повесть, которая загладит все прежние.
По поводу пьесы Гроссмана, разруганной в «Правде», Леонов говорит: «Гроссман очень неопытен – он должен был свои заветные мысли вложить в уста какому-нибудь идиоту, заведомому болвану. Если бы вздумали придраться, он мог бы сказать: да ведь это говорит идиот!»
10 сентября. Вчера вечером были у нас Леоновы, а я в это время был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, который он пишет сейчас. Он читал этот роман Федину и Погодину, звал и меня. Третьего дня сказал Коле, что чтение состоится в воскресенье. Заодно пригласил он и Колю и Марину. А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция Президиума ССП, где Пастернака объявляют «безыдейным, далеким от советской действительности автором». Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает «печать отвержения», которой заклеймили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа: Звягинцева, Корнелий, Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, т. к. вечером я не умею слушать, устаю за день к 8-ми часам, но при всей прелести отдельных кусков – главным образом, относящихся к детству и к описаниям природы, – он показался мне посторонним, сбивчивым, далеким от моего бытия – и слишком многое в нем не вызвало во мне никакого участия. Тут и девушка, которую развращает старик-адвокат, и ее мать, с которой он сожительствует, и мальчики Юра, Ника, Миша, и какой-то Николай Николаевич, умиляющийся Нагорной проповедью и утверждающий вечную силу евангельских истин.
Потом Юра, уже юноша, сочиняет стихи – в роман будут вкраплены стихи этого Юры – совсем пастернаковские – о бабьем лете и о мартовской капели – очень хорошие своими «импрессионами», но ничуть не выражающие душевного «настройства» героя.
Потом Пастернак пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом и мне показался таким неуместным этот «пир» Пастернака – что-то вроде бравады, – и я поспешил уйти. Я считаю гораздо более правильным поведение Зощенко: говорят, что он признал многие обвинения правильными и дал обещание в течение ближайших двух лет написать такое произведение, которое загладит его невольную вину.
—
Оказывается: Пастернак вчера вечером не знал, что напечатано о нем в «Правде»!!! Зинаида Ник. скрыла от него газету. Уже за ужином (рассказывает Марина) гости проговорились об этой статье, и он был потрясен… Но почему в таком случае Зин. Ник. не отменила чтение?
13 октября. Ночью выпал снег. И хотя просвечивает солнце, снег держится упорно на деревьях и на ярко-зеленой траве. На этой неделе я пережил величайшую панику и провел несколько бессонных ночей. Дело в том, что я получил за подписью Голо-венченко (директора Гослитиздата) приглашение на заседание Редсовета – причем на повестке дня было сказано:
1. Решение ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и задачи Гослитиздата.
2. Обсуждение состава сборников избранных произведений Н.Н.Асеева и И.Л.Сельвинского и третьей книги романа В.И.Костылева «Иван Грозный».
3. Обсуждение плана Полного собр. сочинений Некрасова.
Таким образом, моя работа над Некрасовым должна будет обсуждаться в качестве одной из иллюстраций к речи тов. Жданова о Зощенко, Ахматовой и проч. Я пришел в ужас. Мне представилось, что на этом митинге меня будут шельмовать и клеймить за мои работы над Некрасовым и в качестве оргвыводов отнимут у меня редакцию сочинений Некрасова, и мне уже заранее слышалось злорадное эхо десятка газет: «Ай да горе-редактор, испоганивший поэзию Некрасова». Это была вполне возможная награда за 35-летний мой труд, и мне представилось, что именно такова должна быть подготовка к юбилею Некрасова. Бессонница моя дошла до предела. Не только спать, но и лежать я не мог, я бегал по комнате и выл часами. Написал отчаянное письмо Фадееву и, помертвелый, больной, постаревший лет на 10, пришел в Гослитиздат – под шпицрутены. Заседание было внизу в большом зале. Первая, кого я увидел, была Людмила Дубровина, глава Детиздата, которая на прошлой неделе велела вернуть мне без объяснения причин мою работу над Некрасовым, сделанную по ее заказу. К счастью, все обошлось превосходно. И все это было наваждением страха. Я остался редактором стихотворений Некрасова – и Дубровина осталась ни с чем.
12 ноября. Сегодня мы переезжаем в город. С самой нежной благодарностью буду я вспоминать эту комнату, где я ежедневно трудился с 3–4 часов утра – до 5 вечера. Это самая любимая моя комната из всех, в каких я когда-либо жил. Это кресло, этот круглый стол, эта неспорая и вялая – но бесконечно любимая работа, как они помогали мне жить.
Фадеев ведет себя по отношению ко мне изумительно. Выслушав фрагменты моей будущей книги, он написал 4 письма{9}: два мне, одно Симонову в «Новый Мир», другое Панферову – в «Октябрь», хваля эту вещь; кроме того, восторженно отозвался о ней в редакции «Литгазеты»; и, говорят, написал еще большое письмо о том, что пора прекратить травлю против меня.
Он переутомлен, у него бессонница, работа сверх головы, прочитывает груды чужих рукописей, одни приемы в Союзе отнимают у него десятки часов, но – грудь у него всегда вперед, движения очень четки, лаконичны, точны, и во всем, что он делает, чувствуется сила.
В Переделкине мы прожили ровно 6 месяцев. Боюсь, что это были последние мои переделкинские месяцы.
13 ноября. Утром вбегает Женя:
– Радость! Радость!
И показывает новый номер «Мурзилки», где нет «Бибигона»!{10} «Бибигона» оборвали на самом интересном месте, причем – и рисунки Конашевича стали лучше! Главное, покуда зло торжествует, сказка печатается. Но там, где начинается развязка, – ее не дали детям, утаили, лишили детей того нравственного удовлетворения, какое дает им победа добра над злом.
18 ноября. У руководителей Союза Писателей – очень неподвижные лица. Застывшие. Самое неподвижное – у Тихонова. Он может слушать вас часами и не выражать на лице ничего. Очень неподвижное у Соболева. У Фадеева, у Симонова. Должно быть, это – от привычки председательствовать. Впрочем, и заметил, что в нынешнюю волевую эпоху вообще лица русских людей менее склонны к мимике, чем в прежнее время. Мое, напр., лицо во всяком нынешнем общественном собрании кажется чересчур подвижным, ежеминутно меняющимся, и это отчуждает от меня, делает меня несолидным.
15/XII. В «Культуре и жизни» наконец-то обозвали меня пошляком и пасквилянтом за… «Собачье царство»{11} (от 10 декабря).
20/XII. Вчера читал в Клубе им. Серафимовича при каком-то военном заводе. Клуб огромный, коридоры, лестницы, плакаты. Сцена величиною с Казанскую площадь. Я долго отказывался, но меня Христом Богом молили какой-то артист Николаев, какая-то девица из Филармонии и жена Николаева (как потом оказалось): «У нас уютно, у нас так жаждут, так жаждут… Вся интеллигенция завода… инженерно-технический состав… Будьте так великодушны…» Я согласился. Продержал корректуру своей статейки для «Нового Мира» (которая мне не нравится, Т. к. она вся написана во время бешеной травли меня Детиздатом – невдохновенно и робко) – и не мог отдохнуть, так как меня посетил Заболоцкий, потом – И.А.Груздев по поводу Некрасова, – я никак не мог досидеть дома и поговорить с Груздевым как следует, так как ждет «актер Николаев». Не выпив чаю, сбежал вниз – нет Николаева! Он прибыл через полчаса в маленькой машине со своим шофером, которому он платит 1 200 (как он сообщил потом), – бобровый воротник, бобровая шапка – везет меня в клуб – приезжаем: в огромном зале человек 50 – не больше – холодно! – «куда же натопить такую махину» – я в дурацких валенках, в порванном пиджаке – на огромной сцене со своими бумажками – о семантике и мелодике Некрасова. Никто не слушает, разговаривают, ходят – оказалось, это все девицы и парни лет по 17-ти – и Николаев, конечно, все это знал отлично – и втравил меня в эту тоску со специальною целью: тут же в коридоре меня подстерег его друг Чернобровкин (с которым он на «ты»), у этого Чернобровкина рукопись страниц 400 – и он хочет ее напечатать. Я по чувствовал себя по горло в пошлости – и таким несчастным, что хоть плачь.








