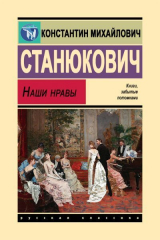
Текст книги "Наши нравы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Борис Сергеевич дружески пожал руку отца и, сидя в кресле, ожидал, пока старик заговорит.
– Я беспокоил тебя, Борис, – медленно начал Кривский, пощипывая своими длинными красивыми пальцами уголок седой бакенбарды, – чтобы побеседовать с тобой по поводу разговора, который имел о тебе с матерью. Она мне рассказывала… Впрочем, ты, вероятно, знаешь?
– Знаю.
– Скажи, пожалуйста, Борис, в чем дело?
Кривский отвел руку от бакенбарды и пристально посмотрел на сына. Борис выдержал взгляд и заметил:
– Пока ни в чем. Ничего серьезного нет.
– Пока? Следовательно, существует предположение?
– Ты, конечно, против? – тихо проговорил Борис Сергеевич, едва заметно улыбаясь.
– А ты? ты? – подхватил отец.
– Я – нет! – спокойно и уверенно ответил сын. Его превосходительство откинулся на спинку кресла, поморщился и несколько секунд просидел молча.
– Надеюсь, – наконец заговорил он еще медленнее, словно бы этой медленностью он хотел скрыть волнение, все-таки сказывавшееся в легкой дрожи голоса, – надеюсь, Борис, ты соблаговолишь по крайней мере объяснить мне мотивы, которые могут заставить тебя, Бориса Сергеевича Кривского, жениться на дочери…
Он не договорил. Он был настолько джентльмен, что вовремя остановился.
– На дочери бывшего целовальника, хотел ты сказать?
– Да, я хотел.
– Мотивы очень простые. У нас нет состояния.
– Но разве ты получаешь недостаточно?
– Много ли я получаю? Каких-нибудь десять тысяч, и то всеми правдами и неправдами! – усмехнулся Борис. – Я принужден был принять предложение Егорова – такого же плута, как Леонтьев – и сделаться членом правления какого-то подозрительного общества. А эта должность, сам знаешь, мне не нравится. И то везде кричат, что мы, чиновники, пользуемся синекурами ради влияния… В этом ведь есть доля правды…
– Но, однако же… Эта женитьба, разве это лучше?..
– Я не говорю. – лучше, но по крайней мере она даст мне возможность не делать тех уступок, которые приходится делать теперь, и позволит мне не дискредитировать своего положения в будущем.
Кривский седел молча, повесив голову.
– Мне кажется, папа, ты слишком исключительно смотришь на вещи и забываешь, что в наше время власть без состояния ставит себя в очень затруднительное положение. Ей поневоле приходится считаться с разными проходимцами, и не только считаться, но и быть у них нередко в руках… К несчастию, примеров немало, скандальных процессов довольно, а скандальных слухов еще более. Все это дискредитирует значение власти, и, конечно, не тебе защищать подобный порядок вещей. С тех пор как мы обнищали, власть сама перестала быть действительной властью. Она нередко покорный слуга людей капитала… Все это ты хорошо сам знаешь…
– Я это знаю, мне очень грустно, что это так, но жениться на дочери Леонтьева… Это как хочешь… Поднимется такой говор…
– Напрасно ты так думаешь. Все будут завидовать, и, наконец, папа, ты забыл дух времени. Мы живем не в дореформенные времена. У нас крестьян больше нет. Нам остается на выбор – или идти на компромиссы, или вовсе сойти со сцены… Другого выбора нет. Надо примириться с фактом, каков он есть. Положим, Леонтьев – партия не блестящая в твоем смысле, но ведь будущее за Леонтьевыми, а не за нами, если мы вовремя не воспользуемся положением. Что ты на это скажешь?
Борис Сергеевич продолжал в том же тоне. Он говорил спокойно, уверенно, не горячась, обставляя свою речь солидными аргументами для доказательства, что человеку, желающему не остаться в тени или не кончить скандальным процессом, необходимо состояние. Оно одно развязывает руки и дает власти необходимую свободу действий. Появление в жизни нового элемента, тех новых людей, людей наживы и капитала, которые заставляли старика Кривского часто задумываться, по мнению сына совершенно естественное последствие крестьянской реформы. Игнорировать факта нельзя. Он есть и, следовательно, надо только приурочиться к нему. Наконец и обособленность сословий – анахронизм.
– Женись ты на дочери Леонтьева – это было бы скверно, а если бы женился я, то это было бы только практично… Жизнь, папа, далеко ушла вперед от старых понятий. Я подаю руку таким людям, которым ты, конечно, руки не подашь. Voilà où nous en sommes![17]17
Вот до чего мы дошли! (франц.).
[Закрыть]
Старик слушал эту снисходительно прочитанную ему лекцию о духе времени с глубокой тоской. Каждое слово сына тяжелым ударом отзывалось в его сердце, но в то же время он, если не совсем понимал, то чувствовал, что сын до некоторой степени прав… Власть без состояния – полувласть. Он вспомнил, как часто ему самому приходится прибегать к просьбам о пособии; он вспомнил, как чуть было он сам не принял предложения быть почетным директором одного предприятия с огромным гонораром – и что мог он сказать теперь сыну?
Борис был честолюбив, – отец это знал, – и метил далеко. Женитьба эта, если только она состоится, будет крупным шагом на пути к блестящей карьере. Огромное состояние, которое он получит, позволит ему не прибегать к посторонней службе, которая во всяком случае бросает неблаговидную тень. Чем отпарировать эту неотразимую логику сына? Сказать, что можно сделать карьеру без средств? Положим, он сделает ее; но разве Борис не укажет на массу затруднений? Разве он может теперь жить на жалованье, которое получает, без частной службы! И, наконец, как много блеска придает состояние служебной карьере!.. От какого-нибудь приема иногда зависит многое…
«Он прав! Но зачем же он прав?» – думал Сергей Александрович, внимательно слушая сына.
– Я раньше не счел необходимым говорить с тобой об этом деле и спросить твоего совета, – продолжал Борис, – потому что дело еще не выяснилось, по теперь Леонтьев, кажется, очень доволен.
– А она… эта девушка?..
– С ней я еще не говорил… Она, конечно, будет рада.
– Порядочная девушка?..
– Да, держит себя хорошо… Ты, папа, не беспокойся… Леонтьев слишком умный мужик, чтобы не понять своего права навестить тебя не более раза в год. Жена его – глупая, забитая женщина, тоже не стеснит тебя, так что с этой стороны ты можешь быть совершенно спокоен…
Выходило как будто даже очень хорошо. Но старик все молчал и не выказывал никакого удовольствия. Миллион приданого, конечно, имел значение, но… но дочь целовальника, того самого Саввы, которого он приказал раз высечь…
Борис искоса поглядывал на отца и точно понимал, что происходит в душе старика. Он улыбнулся и заметил:
– Кстати… у нас уже лежит представление о Леонтьеве. Его, вероятно, произведут на днях в действительные статские советники.
– Это за какие же заслуги?
– Их много: он пожертвовал пятьдесят тысяч на дела благотворения… На днях еще он препроводил двадцать пять тысяч в пользу приютов, ну и…
– И генерал? – перебил, прищуриваясь, Кривский, – будет в одном чине с тобой?
– В одном…
Наступила пауза.
– У Леонтьевой, папа, кандидатов много… не один я… Граф Ландскрон, говорят, хочет сделать предложение…
– Граф Ландскрон, родственник шведских королей?
– Да…
Опять помолчали.
– Так как ты посоветуешь? – наконец спросил Борис.
Его превосходительство тихо покачал головой и, как-то грустно улыбаясь, произнес:
– Что мне советовать?.. Делайте как знаете… Мы разно глядим на вещи, но… я… я не препятствую тебе… Только об одном прошу… не делай ты из своего («позора», – вертелось на языке у его превосходительства)… не делай ты из своего бракосочетания парада… Пожалуй, Леонтьев захочет весь город созвать любоваться. Надеюсь, этого не будет?
– Если бы бракосочетание, как ты говоришь, и случилось, то, разумеется, не в Петербурге, – ответил Борис.
– То-то!.. – промолвил старик.
Оба чувствовали, что больше им говорить не о чем. И отцу и сыну было неловко после этого объяснения.
Борис Сергеевич сказал еще несколько незначащих фраз и поднялся с кресла.
– Мне пора… Сегодня у нас комиссия…
– А!.. поезжай, поезжай… я тебя не держу.
Грустным взглядом проводил его превосходительство сына, и когда двери кабинета затворились за ним, старик облокотился на стол и долго просидел неподвижно, устремив перед собой взгляд, полный тоски и страдания.
«Мог ли я когда-нибудь думать? Мог ли я предполагать, что Савва Леонтьев будет моим близким родственником?!» – несколько раз повторял его превосходительство, смеясь скорбным, беззвучным смехом.
IX
ДЕЛО УЛАЖИВАЕТСЯ
В большом, аляповато убранном кабинете, полном роскоши и безвкусия, сидел Савва Лукич в бархатной поддевке, надетой поверх рубашки с отстегнутым воротом, и весело слушал рассказ Евгения Николаевича Никольского о том, что наконец дело покончено и Валентина Николаевна сегодня же получит вид на отдельное жительство.
– И муж не тронет?..
– Будьте покойны…
– А если тронет?..
– И мы его тронем!..
– Ох, вы, молодцы, молодцы!.. – весело говорил Савва Лукич, фамильярно трепля по плечу Никольского. – Вы и разведете, и сведете, и брата на сестре жените, коли захотите… Спасибо тебе, Евгений Николаевич… Спасибо, родной. Уважил ты меня, что дело наладил скоро… Валентина Николаевна дама сиротливая… сложения нежного… Обиждает ее пьяница-то тот…
– Теперь Валентина Николаевна свободна…
– А сколько за свободу-то ейную причитается, а?..
– Вы, кажется, знаете, Савва Лукич…
– Да, ей-ей же, не знаю… Помню, выдавал раз… Кажется, тысячу?..
– Пять тысяч.
– А еще сколько? Бери больше… не сумлевайся… Есть здесь! – хлопнул весело Савва Лукич по карманам. – Ты – парень умный, башковатый парень. И на-предки делов, может, будет. Так заодно будем приятелями.
– Там дорого берут.
– Там ли, здесь ли, – везде, братец, берут с нашего брата, посконного мужика, зато милуют. Ну, так говори цену-то… Сколько доводится-то с меня?
– Десять тысяч.
– Получай, брат…
С этими словами Савва Лукич вынул чековую книжку, написал чек на десять тысяч и отдал его Евгению Николаевичу.
– Значит в расчете… А за хлопоты твои, любезный друг, особ статья… Прими в знак памяти!
Савва Лукич подал Никольскому дорогой брильянтовый перстень.
– Зачем это?
– Не ломайся, Евгений Николаевич… Бери по-приятельски. Ну, а теперь шампанского… Эй, кто там! Бутылку холодного!
Пока они распивали бутылку, вошел слуга и подал телеграмму. Савва Лукич стал читать ее и несколько раз крякнул. Телеграмма извещала о потере на каменноугольном деле пятисот тысяч.
Савва Лукич положил депешу на стол как ни в чем не бывало. Он проводил Никольского до дверей кабинета, взяв слово, что Никольский немедленно же уведомит Валентину Николаевну. Когда он вернулся к столу, то взял снова телеграмму, прочел ее, выругался, как извозчик, и движением руки совсем раскрыл ворот, обнажив широкую грудь, покрытую густым лесом черных волос.
– Опять потеря! – проговорил он как бы в раздумье, припоминая ряд потерь в последнее время.
Он перекрестился большим широким крестом, встряхнул кудрями и вышел из кабинета.
По красивой лестнице поднялся он наверх, прошел анфиладу роскошных комнат и вошел в маленькую комнатку, убранную совсем просто. Несколько простых сосновых табуреток, такая же лавка, киот с образами да маленькая постель, – вот вое убранство.
На лавке сидела старая женщина, одетая как черничка, в черное коленкоровое платье, в черном платке, из-под которого серебрилась прядь седых волос, и ела из деревянной чашки какую-то похлебку.
– Матушка! – почтительно заговорил Леонтьев, подходя к старушке. – Опять потеря!..
Старуха взглянула своими умными, темными глазами на сына, и на ее старом, морщинистом лице скользнула улыбка.
– Бог дал… бог и взял! – проговорила она.
– Все теряю последнее время, матушка!
– Дьявол смущает-то душу?
– Смущает…
– А ты дьявола-то пересиливай! Не смущайся… А что теряешь – поделом теряешь… Очень уж ты зазнался… Слышно, будто вроде царя какого-то стал… И живешь в разврате. Ох… Савва, Савва! Нажил ты много, прожил много… с чем ты останешься?.. Бог, видно, испытует тебя…
– Уж очень испытания велики. Сегодня опять пятьсот тысяч ухнули…
– Еще ухнет!.. И все может ухнуть для твоего счастия. Слышала я, к Авдотье сватается енерал какой-то?
Она помолчала и прибавила:
– Отдашь?
– Отдам, матушка!..
Старуха покачала головой.
– По воле?
– Не говорил я с Дуней. Верно, согласна. Жених молодой…
– Ваше дело, ваше… до этого не касаюсь… Богу за вас молюсь… Уж очень-то все вы бога забыли, и больше всех ты забыл, Савва… Людей-то, чай, теснишь?..
– Оберегаюсь, матушка…
– То-то! кого же ты грабишь, Саввушка? – строго спрашивала старуха…
– Счастье свое граблю…
– Ну, ври… ври… Счастье счастьем, а ты всегда был, Савва, большим греховодником… Ты опять за утехой пришел, видно, к старой старухе?.. Видно, сердце-то дьявол мучит… Опять, говоришь, потеря… А ты не думай об этом… Не в том потеря, что деньги пропали, а в том потеря, что сам-то ты пропадаешь… Слышала я, опять новую полюбовницу завел?..
Леонтьев покорно отвечал, опуская голову:
– Грешен…
Старуха любовно взглянула на сына и тихо сказала:
– Эх, Савва… Савва, парень-то ты добрый, да гордость мучит тебя… Смотри, как бы совсем не отступился бог… Думаю я о тебе, думаю и впрямь не могу дознаться, что ты за человек… Ну… ну… не смущайся!.. – ласково прибавила старуха.
Леонтьев очень почитал старуху мать, отказавшуюся от искушений богатства, продолжавшую вести ту же жизнь, какую вела и тогда, когда Савва Лукич держал кабак. Леонтьев почитал и любил свою мать, а она нередко упрекала его за то, что он забыл бога, и втайне молилась за любимого своего сына. Ее пугало его богатство; она со страхом глядела на роскошь обстановки, никогда не показывалась в комнатах и только по особенной просьбе сына согласилась жить у него в доме. И сын любил иногда заходить к старухе, любил поговорить с ней в минуты раздумья, в минуты неприятных известий, и всегда уходил от нее успокоенный, бодрый. Так и теперь… Потери последних дней на минуту было смутили его, но он вышел от старухи утешенный, повторяя про себя:
– Бог дал… бог и взял…
И вслед за тем в его голове уже зарождались новые фантазии о том, как бы наверстать потерянное.
«А пока надо порадовать птаху!» – вспомнил Леонтьев, собираясь вечером к Валентине Николаевне.
«Теперь нет препятствий… Птаха – моя… и никому я ее не отдам!» – думал Савва Лукич, похаживая по кабинету.
В его голове попеременно бродили мысли о том, как он заживет теперь с «доброй малюткой» и как он ограбит казну.
Трамбецкий, довольный, что получил, наконец, после долгах поисков место в конторе нотариуса и что может по крайней мере не жить на счет жены, и не догадывался, что ему готовится смертельный удар.
Валентина тщательно скрывала от мужа свои хлопоты. С чисто женским лукавством она умела усыпить его подозрения. «Добрая малютка» боялась какой-нибудь бешеной выходки со стороны «тирана» и воспользовалась обаянием своей красоты и любовью измученного человека, чтобы доконать его, доконать шутя, без всякого злого умысла. Она хотела жить, а он мешал, что ж ей делать? Последние дни она была с ним так внимательна, кротка и ласкова, что в сердце Трамбецкого нет-нет да и мелькал слабый луч надежды, что еще не все потеряно.
Она аккуратно возвращалась домой к пяти часам, обедала с мужем и сыном и проводила вечера, против обыкновения, дома, не принимая никого. Она упросила мужа «повременить с дачей, дачи позднее будут дешевле!», и иногда по вечерам заглядывала в маленькую комнату мужа и нежно упрекала, что он совсем ее забыл и никогда не заглянет к ней.
Он забыл?!
Трамбецкий вздрагивал, заслышав нежные звуки голоса, и как-то испуганно поднимал голову, стараясь найти в этих новых, светлых глазах иронию или насмешку, но глаза глядели нежно и кротко из-под длинных ресниц, маленькое нежное создание с распущенными прядями волос, в капоте, не скрывавшем ее прелестных форм, была так обворожительна и так близко подходила к Трамбецкому, что он забывал обо всем, сжимая в объятиях «добрую малютку» и повторяя слова любви и надежды.
И она улыбалась, улыбалась в ответ на ласки так же нежно, как вчера улыбалась в объятиях Леонтьева, третьего дня в объятиях Никольского, а неделю тому назад под горячими поцелуями Шурки. Этому милому и легкомысленному созданию было так забавно играть с «тираном» накануне прощания навсегда.
Бросая ему милостыню любви по какому-то необъяснимому женскому капризу, «добрая малютка» возвращалась к себе и, лежа в постели, тихо смеялась, представляя, какое изумленное выражение будет на лице мужа, когда он, возвратившись из конторы, увидит пустую квартиру и узнает, что она теперь совсем свободна, и что если он захочет предъявить требования, то ему же будет хуже. Он такой умный, этот Евгений Николаевич, и все может сделать для такой милой женщины, как Валентина. Только надо слушаться его советов и время от времени навещать его, конечно по секрету от Саввы Лукича. Этот мужик ревнив, как Отелло, и бог знает что может подумать!
«Добрая малютка» совсем была готова выпорхнуть из этого скверного гнезда… Это что за квартира: комнаты маленькие, скромные, в четвертом этаже. Валентина очень мило сжимала губки, оглядывая свой будуар… Фи! как он мизерен в сравнении с тем, какой у нее будет!.. Деньги она положит в банк. Лето проведет на даче, а зиму в Петербурге. Роскошное гнездо на лето, недалеко от Петербурга, на берегу Финского залива, уже было готово. Она ездила как-то на днях с Саввой Лукичом смотреть «приют любви», как назвал очаровательную дачу влюбленный мужик, и пришла в восторг от роскоши этого гнездышка, свитого лучшими мастерами, не жалевшими денег Саввы Лукича. Изящество, роскошь, цветы, картины, полная чаша, готовый гардероб, уютный садик, красивый спуск в купальню, – чего тут только не было к услугам маленькой феи, пленившей взбалмошного мужика.
Валентина везде ходила, смотрела и чувствовала раздолье рыбки, попавшей в воду.
– Будешь любить меня, пташечка? – спросил Савва Лукич, любуясь ее восторгом.
А как же не любить?!.. Как же не отвечать любовью на это нежное внимание, как не быть благодарной за все эти чудеса роскоши, которых она отныне хозяйка… О, она чувствовала, как она начинала любить его, уже любила и будет всегда любить…
Савва Лукич только ухмылялся и приговаривал:
– Раззадорь меня, сударушка, не тем еще удивлю!.. Чего еще?! Довольно ей и этого!..
Наконец, в одно прекрасное утро Никольский привез ей бумагу. Вот она, эта самая, давно желанная бумага, благодаря которой можно даже и не горевать, что нет у нас развода. Эта бумага устраивает порядочных женщин отлично и без формального развода.
Валентина жадно пробегала глазами о том, что она может свободно проживать в обеих столицах и городах империи вместе с малолетним сыном.
«Пусть попробует он теперь требовать сына! – усмехнулась „добрая малютка“. – Он будет со мной. Он будет богат, мой мальчик. Я его одену, как маленького принца! Кого взять к нему, англичанку или француженку?» Мысли весело роились в маленькой счастливой головке. Она суетилась словно птичка перед тем, как выпорхнуть из отворенной клетки. Она несколько раз благодарила Никольского и, конечно, охотно обещала подарить ему еще «одно счастливое мгновение». Что ей было теперь до мгновения, когда перед ней открывалась новая жизнь. Не только одно мгновение, два, три, только бы «мужик» об этом не знал. Она уж окрестила Савву Лукича «мужиком» и находила, что он слишком по-мужицки целуется. Надо его от этого отучить!
– Так значит, Евгений Николаевич, я теперь совсем… совсем свободна?
– Вам теперь остается только жить и наслаждаться! – усмехнулся Никольский.
Но вдруг облачко легло тенью на лице «доброй малютки».
– А если он разыщет, где я живу?..
– Что ж… Пусть разыщет. Вы его примите!
– Что вы, Евгений Николаевич! Вам хорошо шутить!.. Он может сделать скандал, особенно в минуты запоя. Я так боюсь его… Он иногда ужасен!
– Не бойтесь. Теперь ваш муж бессилен…
– Ах, добрый мой, вы так много для меня сделали… Неужели нельзя совсем успокоить бедную женщину?..
– Чем же еще успокоить бедную женщину, а?
– Уж я не знаю. Вы должны лучше знать, Евгений Николаевич… Я глупенькая, что я знаю!.. – говорила Валентина милым тоном наивного ребенка.
– Ну, ну, говорите, что вы знаете? – отвечал в том же тоне Никольский.
– Если бы… например… удалить его совсем из Петербурга? Ведь ему все равно где жить, а я… я тогда была бы совсем покойна!
Евгений Николаевич пристально взглянул на «добрую малютку» и улыбнулся.
– Совсем удалить?.. Это вы недурно придумали, несмотря на то, что вы глупенькая женщина…
– А разве нельзя?..
– Нельзя?.. Я не говорю – нельзя… С таким беспутным человеком, как ваш супруг, все можно, но вы, мой ангел, уже слишком спешите. Спешить не надо. Подождите – увидим… А если он и в самом деле вздумает сделать скандал, ну, тогда мы посмотрим и посоветуемся с Саввой Лукичом.
– О, я ему непременно скажу. Пока муж в Петербурге, я буду вечно бояться.
Никольский ни слова на это не ответил и снова посоветовал не спешить, обещая быть ее другом и советником, если только она не забудет, что есть на свете ее верный поклонник. При этом Евгений Николаевич на первый раз дал «доброй малютке» дружеский совет жить первое время потише, чтобы не возбуждать толков.
– Вы хоть и совсем свободны, но очень легко и потерять эту свободу. Надо пользоваться ею умеючи.
– Потерять? Как потерять? – уже испуганно спрашивала Валентина.
– Не пугайтесь! Ах, какая вы пугливая! Я предостерегаю только вас. Вас обрадовала эта бумага, да? Ну так надо помнить, что эту бумагу легко можно отнять и снова отдать вас на съедение вашего мужа. Но, разумеется, мы вас не отдадим. Как можно! Такое прелестное создание и снова в зависимости от господина Трамбецкого! Ну, что ж мы не улыбаемся?
И Никольский опять стал говорить, что этому никогда не бывать. Валентина улыбалась сквозь слезы, смущенная и испуганная. Хотя Евгений Николаевич и успокоивал ее, но она смутно сознавала, что она далеко не так свободна, как казалось ей с первого взгляда, и что этот красивый солидный молодой человек, который когда-то носил ей букеты, может лишить ее желанной свободы так же легко, как и дал ее.
Но что делать? Надо нести крест!
«Ах, зачем не умирает этот ужасный человек, из-за которого она переносит столько горя и страданий!» – подумала Валентина. Она нежно простилась с Никольским, обещалась помнить советы и не забывать «своего друга».
Валентина плохо спала всю ночь. Радость и страх не давали ей сомкнуть глаз. Она временами забывалась, и в эти короткие промежутки тяжелого сна ей все казалось, что муж гонится за ней, настигает, и все счастие ее рушится. Она вышла к чаю бледная, взволнованная и испуганная, избегая смотреть на мужа. А Трамбецкий, как нарочно, сидел за чаем долее обыкновенного, шутил с сыном и спрашивал, не пора ли искать дачу. Валентина обрадовалась этому вопросу и сказала, что она сегодня же поедет посмотреть дачу где-нибудь на островах и возьмет с собою сына – ему после болезни будет полезно прогуляться. Он так давно не был на воздухе.
Голос ее дрожал, а взгляд был какой-то странный.
Отец и сын подняли на нее глаза.
– Что с тобой? – опросил Трамбецкий.
– Ничего… нездоровится…
– Ты сегодня какая-то странная! – тихо заметил Трамбецкий, пристально взглядывая на жену.
Он вспомнил, что она была такая же странная в тот день, когда в В. внезапно оставила его. Опять подозрение тихо закрадывалось в сердце. «Какой у нее растерянный вид! Какой у нее загадочный взгляд!» – думал Трамбецкий, подозрительно наблюдая за женой.
– Странная! – усмехнулась в ответ Валентина. – Мне просто нездоровится, вот и вся странность.
– Так ли?
– О господи! Ты опять за сцены. И тебе не надоели они? – капризно промолвила она, поднося к глазам платок.
Еще секунда, и Валентина уже нервно плакала.
– Ну, прости… прости меня, Валентина! – нежно проговорил Трамбецкий. – Я виноват!
Она охотно простила и проводила мужа до дверей, обещая вернуться к шести часам.
– Смотри, Саша, подожди нас к обеду! Без нас не обедай! – прибавила она вслед.
К чему говорила она эти слова, она и сама не знала. Так, они сами собой сказались…
Как только он ушел, Валентина послала за каретой и приказала мальчику собираться. Мальчик изумленно смотрел на мать. Его поражало, что она, собираясь на дачу, так волнуется.
Карета приехала. Мальчик готов. Она давно уже готова и нетерпеливо ходила взад и вперед по комнате. Ах… Она забыла! Надо еще написать письмо!
Она присела к столу, написала несколько строк, запечатала письмо и оставила его на письменном столике..
– Это я прошу папу купить нам конфект! – сказала она на вопрос сына, зачем она пишет папе письмо, когда только что его видела.
– Ну, теперь, кажется, можно ехать! – торопит Валентина.
«Но зачем Паша с нами?» – изумляется мальчик, глядя, как горничная Валентины Николаевны тоже собралась ехать. Мальчик еще более изумляется, заметив под полой ее тальмы дорожный мешок. Он переводит испуганные глазенки с матери на Пашу, с Паши на мать, и бедняжка чувствует, как страх сжимает его сердце. Куда они едут? Отчего мама так волнуется и спешит?
О, как бы хотелось ему теперь, чтобы папа был дома… Еще недавно он слышал, как мать о чем-то шепталась с черноволосым высоким господином, до его ушей долетали какие-то обрывки фраз об отъезде. Смутные подозрения закрадываются в его головку. Он слишком многое видел, слишком многое понимал, и слезы брызнули из его глаз.
– Мама! Я не хочу ехать! – прошептал он.
– Что ты, Коля? Да ты с ума сошел? Отчего ты не хочешь ехать? – проговорила Валентина, чувствуя сама, что голос ее дрожит.
– Я боюсь, мама, ехать… Я не поеду…
Она прижала сына к себе и покрыла его поцелуями. Они скоро вернутся назад. Они поедут только посмотреть дачу, а Паша едет с ними, чтоб маме не было одной скучно.
– А мешок зачем?
– Какой мешок? Ах, да, мешок! – говорит Валентина, бросая быстрый взгляд на Пашу. – Мешок?.. В этом мешке мамины вещи. Она боится оставлять их дома, когда она на целый день уезжает. Глупый мальчик!.. О чем ты?.. Ну, полно же, полно… не плачь.
Она почти силой тащит мальчика в карету, все садятся, и карета катит по улицам. Мальчик нервно всхлипывает, и страх блестит в его больших глубоких глазах.
– Мама! Куда ж мы едем?
– Дачу смотреть!
– Разве это острова?
– Острова, мой милый! Как он, однако, тихо едет! – нетерпеливо заметила Валентина. – Паша! скажи ему, чтобы он ехал скорей!
Извозчик стегнул лошадей. Карета покатила шибче по Выборгскому шоссе.
– Мама! Что же, скоро мы приедем? – снова спросил мальчик.
– Скоро, скоро, дорогой мой!
– Послушай, мама… я…
Он не договорил и тихо зарыдал.
Напрасно Валентина осыпала поцелуями его мокрые от слез щеки. Он отводил лицо от ее поцелуев и просил ехать назад, домой, к папе. Он его так любит. Он не может сказать, как его любит… Больше всех на свете любит! Он ни за что не будет жить без него…
– Ты, мама, его не любишь… я знаю… Я вижу! – шептал он, прерывая слова свои глухими рыданиями.
О боже мой, какой несносный, глупый мальчик! Он может доставить много хлопот! И откуда у него такая любовь к этому пьянице? Надо непременно заставить его забыть об отце…
Валентина утешала мальчика. Но он как будто не верил ее словам.
– Ты правду говоришь? Мы вернемся домой?
– Конечно, вернемся!
– Сегодня?
– Сегодня…
– Честное слово? – строго спросил мальчик, заглядывая в глаза матери.
Она колебалась. Он зорко смотрел ей в глаза.
– Что ж ты молчишь?.. Дай честное слово?
– Честное слово!
– Так, я верю тебе! Папа говорил, что честному слову нужно верить!
Он вытер слезы и стал глядеть на дорогу грустным, задумчивым взглядом.
Трамбецкий сегодня опоздал. Задержали в конторе. Надо было составить очень сложный акт, присланный отставным полковником к нотариусу, с просьбой составить как можно скорей. Просьба полковника равнялась приказанию, и нотариус спешил исполнить желание полковника и отпустил контору обедать в шестом часу.
Трамбецкий шел домой спешной походкой. Он не обращал теперь на себя общего внимания своим костюмом и истертым цилиндром. Он завел себе новую пару платья, вообще подтянулся, перестал запивать и стал лечиться у одного знакомого медика, кончавшего курс. Молодой медик обещал, что Трамбецкий «еще протянет», если будет вести спокойную жизнь, и Александр Александрович решил непременно «протянуть», пока сын его не станет на ноги. Заботы о любимом мальчике заставили подтянуться этого слабохарактерного человека, и он в минуты искушения вспоминал, как нежно его «голубчик» однажды, во время болезни, сказал ему: «Папа, брось пить!» С тех пор он бросил и чувствовал себя лучше. Хотя кашель и душил его, особенно по ночам, хоть иногда, взглядывая на себя в зеркало, он испуганно глядел на свои впалые щеки, удивляясь странному блеску глаз, но вера не покидала его. Он будет жить для мальчика. Он должен жить!..
С августа месяца мальчик поступит в гимназию. Он сам готовил его, и мальчик учился превосходно. Он шел домой, мечтая о том, как они вдвоем с сыном будут проводить вечера на даче и, вспомнив, что мальчик охотник до рыбной ловли, зашел в лавку и купил ему удочку.
Уже пробило шесть часов, когда он позвонил в квартиру.
– Вернулись?
– Нет еще! – отвечала кухарка.
– На стол накрыли?
– Накрыла.
Ужасно хочется есть, но он подождет. Он обещал подождать их возвращения.
Он прошел в свою комнату и стал читать газету. Прочел газету, прочел статью журнала, взглянул на свою «луковку», как прозвал сын недавно купленные им часы, – уже семь часов, а их нет…
– Запоздали как! – проговорил Трамбецкий и спросил у кухарки, как одели Колю.
Кухарка оказала, что не знает.
– Верно, Паша знает! Позовите Пашу!
– Паши нет… Она уехала с барыней.
– Уехала с барыней… зачем?..
Кухарка не знает. Почем ей знать, зачем уехала Паша. Пашу барыня очень любит. Паша зазналась и воображает себя барыней. Паша делает что хочет.
Трамбецкий слушал кухаркины жалобы, но едва ли слышал, что она говорит. Он рассеянно взглядывал на кухарку и повторял:
– Зачем она поехала?..
Он прошел в залу и стал ходить, прислушиваясь к шуму на улице… Вот едет карета… Верно, они!.. Нет, мимо!
Однако, как поздно… Восемь часов!
– Это они! – проговорил он, услыхав, как карета остановилась у подъезда. Он отпер двери и вышел на лестницу. Раздались шаги, и внизу хлопнула дверь…
Печальный вернулся он в комнаты и присел кокну. Ему почему-то припомнилось, как странно глядела Валентина и как дрожал ее голос… Он гнал от себя подозрения, а они, как нарочно, лезли, одно мрачнее другого.
– Подавать обедать? Обед простынет…
– Обедать? Нет… Зачем обедать, – рассеянно отвечал он на слова кухарки. – Сейчас они приедут…
– Должны бы давно быть…
– Еще бы не должны! Коле вредно быть вечером на воздухе…
На маленьких часах в гостиной пробило девять ровных ударов.
Трамбецкому сделалось страшно.








