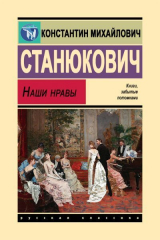
Текст книги "Наши нравы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
XVIII
«ПОСЛЕДНИЕ СЧЕТЫ»
Перед тем как сделаться официальным претендентом на миллион приданого, Борису Сергеевичу предстояло закончить кое-какие счеты холостой жизни.
Аккуратный до щепетильности в делах, он, однако, со дня на день откладывал одно дело. При воспоминании о нем безукоризненный джентльмен, никогда не чувствовавший смущения перед решением вопросов государственной важности, приходил, надо сказать правду, в большое смущение и каждый раз со вздохом повторял, – увы! – поздно, что связь с порядочной женщиной, при некоторых удобствах, имеет весьма значительные неудобства.
«Удобства» забыты теперь неблагодарным человеком, а «неудобства», напротив, восстают перед ним в виде сцен, упреков и слез, – слез без конца.
Едва ли не в первый раз в жизни Борис Сергеевич в душе пожалел о своей экономической предусмотрительности. Любовь без больших расходов – хорошая вещь, но каков-то теперь будет расчет?
О, если бы только объяснение было как можно короче… Отчего это женщины не любят коротких объяснений?! Им непременно объясняйся во всех подробностях!
Если бы слез было меньше, по крайней мере при нем, а упреки… совсем бы не нужно упреков. То-то было бы хорошо! По крайней мере она показала бы себя совсем умной женщиной!
Длинные любовные объяснения недурны в Михайловском театре с Паска и Борисом, но в жизни…
Мечтая таким образом, Кривский очень хорошо знал, что никогда не сбыться его мечтам. Не раз он собирался храбро покончить все разом, но малодушно робел при одной мысли о сцене, в которой он волей-неволей должен будет подавать реплики в качестве любовника, оставляющего любовницу.
Надо было Борису Сергеевичу дипломатически объявить разрыв женщине, но какой женщине?
Молодой, хорошенькой, страстно любящей женщине.
Дело было очень трудное, пожалуй более трудное, чем вести дипломатические переговоры в качестве полномочного посла.
«И зачем она уж чересчур любит!» – с досадой вспоминал Борис Сергеевич.
Какое любит?! Любовь не исключает благоразумия, а она, к несчастию, обожает, как может только экзальтированная женщина обожать человека, имевшего несчастие позволить это обожание. Зато, конечно, она теперь сочтет себя вправе терзать свой кумир, если только он захочет отказаться от счастия быть обожаемым!
Так раздумывал Борис Сергеевич и, наконец, дня за три до помолвки решился поехать и кончить. Он постарается объяснить ей обстоятельства дела. Он начнет издалека, дипломатически… Он призовет на помощь ее любовь… Он… Она умная женщина… Она поймет…
– Да разве женщина может это понять! – с раздражением воскликнул он, прерывая свои мечты. – Разве она даст мне время развить свою идею?.. Как же! Она сейчас преподнесет порцию сцен!..
Молодой генерал кисло поморщился, воображая себе, какова будет эта «порция».
– И черт меня заставлял связываться! – с сердцем повторил несколько раз Борис Сергеевич, поднимаясь в восемь часов вечера по знакомой лестнице в третий этаж. Вот и дощечка с надписью: «Марья Евгеньевна Веребьева». Борис Сергеевич почему-то несколько раз повторил имя и фамилию и дернул, наконец, звонок.
Горничная отворила двери, приветливо улыбаясь.
– Марья Евгеньевна дома?
– Как же-с, дома. Пожалуйте.
К чему он спросил? Она в это время, между шестью и восемью часами, всегда дома, поджидая Бориса Сергеевича.
Небольшая, уютная, мило убранная квартира. Из гостиной дверь в будуар.
Борис Сергеевич с секунду остановился в раздумье. В голове его пробежала мысль: «Если бы кого-нибудь застать. Можно было бы придраться, сделать сцену ревности». Но он тотчас же с горечью подумал, что «к ней ни за что нельзя придраться… Ужасно добродетельная женщина».
Молодой генерал решительно вошел в двери и очутился в хорошенькой комнате, убранной со вкусом и не без роскоши. Все в этой комнате было хорошо знакомо Борису Сергеевичу. Он обвел глазами комнату и почему-то вспомнил, что цветы недавно были подарены им, а обивка мебели, очень изящного рисунка, была куплена по его выбору. «Она непременно хотела. Что тебе нравится, то и мне нравится!
Ах, уж эти влюбленные женщины!»
Но где же она, – она, единственный серьезный враг Бориса Сергеевича в эту минуту?
Отворились двери, и в комнату быстро вошла Марья Евгеньевна, красивая, стройная молодая брюнетка смуглого типа, с большими, черными, выразительными глазами. По словам Марьи Евгеньевны, ей двадцать пять лет. Глядя на нее, этому можно поверить. Она была свежа, с прелестным румянцем на щеках.
При виде Кривского Марья Евгеньевна просияла. Пришел кумир, и на лице ее разлилось такое счастие любящего создания, что генерал почувствовал в эту минуту и досаду и смущение.
Она подбежала к нему, обняла его и, держа его за руку, спросила:
– Отчего так поздно?
Она произнесла эти слова слегка вибрирующим контральто и остановила беспокойный любящий взгляд на Борисе Сергеевиче.
– Здоров?
– Здоров. Что мне делается?
– Отчего ж ты так поздно? Теперь восьмой час, а ты всегда приходишь в седьмом?..
Она как-то нервно спрашивала. Сейчас было видно, что перед вами женщина, поглощенная страстью и ревнивая. Страсть и ревность сказывались в дрожавшем голосе, в подозрительном взгляде, в нервных движениях хорошенькой головки и маленьких рук.
– Дела были. Дома был! – проговорил генерал, все более и более смущаясь перед предстоящим объяснением.
Но Марья Евгеньевна, с проницательностью женщины, поняла это смущение по-своему.
– Дома?.. Борис, и тебе не стыдно?
«Начинается!» – подумал Борис Сергеевич и заметил:
– Честное слово дома, Мари. Где мне быть?
Тогда она порывисто обняла его и прошептала:
– Прости, прости… Я верю… верю!.. Прощаешь?
– Охотно.
– Нет, ты прости как следует… Ты – святой человек, а я… я глупая, гадкая, подозрительная женщина, позволяю себе оскорблять моего кумира… Прости же, чтобы я поверила, что ты простил… Ну?..
Борис Сергеевич поцеловал в лоб молодую женщину, но, боже мой, если бы только она видела, какое комическое лицо было в это время у генерала, то бедной Марье Евгеньевне было бы жутко. По счастию, она не видала и подарила его одним из тех любящих взглядов, от которого у его превосходительства вдруг явилась храбрость сейчас же приступить к объяснению.
– Ты вечер, надеюсь, у меня?
– Видишь ли, Мари, я сегодня не могу… Мне…
– Ты где?
– В комиссии!..
– Ах, уж эти твои комиссии! Гадкие они!
Гадкие?! Напротив! Спасибо комиссиям. Они не раз выручали Бориса Сергеевича. Он в стольких комиссиях членом, что внезапно слетевший ответ нисколько не смутил Марью Евгеньевну.
– Бедный Борис… столько работы… столько занятий!
Однако пора начинать. Борис Сергеевич пересел на кресло, а Марья Евгеньевна уже беспокойно взглядывает на Кривского…
Пора!
Он кашлянул, и лицо его вдруг сделалось такое же серьезное, какое бывает у Бориса Сергеевича, когда он делает замечание чиновникам, опаздывающим на службу. Взор его бродил по ковру, и он заговорил тихим, мягким голосом:
– Мари, мне с тобой надо серьезно поговорить!
«Серьезно поговорить?»
Она взглянула на Кривского, но вместо лица увидала ровную белую дорожку пробора по голове.
Сердце у нее екнуло. Она вдруг вся выпрямилась, побледнела и приготовилась слушать.
– Я слушаю, Борис.
Марья Евгеньевна произнесла эти слова тихо и спокойно, так что Борис Сергеевич даже обрадовался. Начало обещало хороший конец. Быть может, обойдется без сцен.
Напрасно он не поднял головы.
Он увидал бы, как отлила вдруг кровь из-под нежной кожи лица молодой женщины, какой тревогой блистали ее взгляды и как сильно прижала она побелевшую руку к сердцу, словно желая умерить его биение.
– Обещай, Мари, только не перебивать меня.
Она собрала все свои силы, чтобы не выдать волнения, и сказала:
– Обещаю.
– Ты умная женщина, Мари, и ты поймешь…
Борис Сергеевич запнулся, а она уже поняла. Она все поняла и чувствовала, как замерло сердце и как вдруг все помрачилось в ее глазах. Он только начал, а для нее уже было все кончено.
Маленькая запинка была необходимой данью смущенного оратора. Маленькое усилие над собой, – и слова Бориса Сергеевича полились, мягким бархатным голосом с едва заметной дрожью.
Он говорил:
– Ты умная женщина, Мари, и ты, конечно, поймешь, что в жизни людей бывают обстоятельства, когда человек невольно делается рабом их. Что делать? Приходится с ними считаться и часто покорять требования сердца голосу рассудка, сознавая в то же время невозможность поступить иначе… И вот, Мари, я нахожусь в таком именно положении… Я должен принести свою привязанность, горячую привязанность, в жертву долга перед обществом, среди которого я живу. Если бы я был из числа тех людей, которым недоступны высшие интересы, тогда к чему жертвы, но моя дорога – не их дорога… Я должен…
Борис Сергеевич продолжал в том же тоне, изумленный и обрадованный, что Марья Евгеньевна хранила мертвое молчание. На одном из самых, по его мнению, удачных мест он поднял голову, чтобы взглянуть, какое впечатление произвела его речь, и окончание замерло на его устах.
Молодая женщина глядела на него пристальным страдальческим взглядом. Казалось, она собралась выпить всю чашу до дна. Борис Сергеевич ожидал сцен, упреков, слез, – и вдруг вместо этого – убийственное молчание.
Чего она молчит? Лучше бы упрекала, плакала!
Но она не упрекала, не плакала. А, кажется, могла бы упрекнуть. Не он ли ухаживал за ней, за замужней женщиной? Не он ли был причиной, что Марья Евгеньевна оставила мужа, хотя Борис Сергеевич был против такого «решительного», по его мнению, шага; не он ли обещал всегда помнить ее «жертву»?..
Пауза становилась тягостной.
– Что ж вы остановились? Вы еще не кончили? – проговорила наконец молодая женщина.
– Мари!
– Послушайте, Кривский… оставьте это имя… Теперь не нужно… Кончайте поскорей, – серьезно заметила она.
– Я женюсь.
– С этого бы и начали. На ком? – чуть слышно проронила она.
– На Леонтьевой!
– А!
В этом «а!» была и радость и презрение.
– Что делать… Деньги – сила!
Марья Евгеньевна более ни слова не сказала. Она тихо поднялась с места и, шатаясь, вышла из комнаты.
Кривский стоял смущенный. Такая развязка совсем сбила его с толку. Он не знал, чему приписать эту сдержанность в Марье Евгеньевне.
Неужели так и уехать теперь?
– Марья Евгеньевна… Одно слово! – проговорил он, подходя к двери.
Она вышла на порог спокойная, точно ничего не случилось.
– Что вам еще?
– Неужели мы так расстанемся?
– Что же дальше?
– Простите ли вы меня, не будете ли вспоминать лихом?.. Позвольте иногда навещать вас…
– Не хотите ли еще остаться моим любовником?.. Что ж не просите?.. Я, может быть, соглашусь… Просите…
Борис Сергеевич не знал что ответить. Она ли, эта женщина, еще несколько минут обожавшая его, а теперь говорящая с таким презрением?
– Довольно, Кривский… Винить вас не буду. Виновата я.
В голосе ее звучали рыдания.
– Вы виноваты? В чем же?
– Еще бы… Ведь я… Ведь я считала вас, Кривский, честным человеком!
С этими словами она тихо повернулась и ушла к себе.
Рыдания, давно сдерживаемые, вырвались из груди брошенной женщины, когда она осталась одна с своим горем.
Борис Сергеевич ехал домой не в духе. Конечно, женщина сказала ему, что он нечестный человек, но все же…
– По крайней мере теперь счеты покончены! – проговорил он, вздыхая с облегченным сердцем.
XIX
ДЕНЬ ПОМОЛВКИ
– Ты, друг Николай Василич, уж размечтайся и денег не жалей, но только выдумай ты мне обед что ни на есть сюпремистый…[20]20
Наилучший… (от франц. suprême).
[Закрыть] Такую миню смастери, милый человек, чтобы только ахнуть… Ты ведь по этой части в Питере, почитай, первый генерал… Уж удружи приятелю!
Непомерно жирный, маленький, с пухлым, белым лицом розоватого отлива, безбородый и безусый, молодой еще человек, похожий более на откормленного для убоя боровка, чем на подобие образа божия, с трудом приподнялся с оттоманки. Маленькие, бойкие глазки его метнули из своих щелок искоркой. На лице появилось серьезное выражение, он как-то особенно причмокнул пухлыми губами и весело ответил:
– Такому поручению рад, очень рад. Я вас таким обедом накормлю, таким, что вы только оближетесь…
И «милый человек» так вкусно причмокнул свои наливные, пухлые пальцы, что Савва Лукич засмеялся.
– Гляди, уж и нутренность заходила… И в каких таких заведениях эту науку ты проходил?..
– Это талант от бога, достойнейший миллионер. Всякому свой талант. Вы вот умеете сочинять финансовые комбинации, а я гастрономические… Слава богу, два состояния проел, было время научиться!.. – смеясь говорил Николай Васильевич Троянов, прихлебатель, обжора, член какого-то правления, известный мастер заказывать обеды, потомок, как говорил он сам, смеясь, Аскольда.
– А третье проешь?..
– Дайте-ка третье… Я вам покажу!.. Однако вот что, Савва Лукич. Повар ваш хоть и ничего себе, а для настоящего обеда не годится…
– Как не годится… Сто рублей повару плачу и не годится?..
– Уж вы предоставьте мне carte blanche…[21]21
Свободу выбора… (франц.).
[Закрыть] Я приглашу Дюкана из английского клуба… Дюкан – артист, и мы поймем друг друга…
– Ну, ну… как знаешь…
– Сколько человек у вас будет обедать?
– Да, надо думать, человек тридцать!
– Покажите-ка список.
Савва Лукич подал список.
– Гм… Гости будут у вас такие, что надо постараться… Светлейший только, верно, не приедет?
– Это почему не приедет?.. Его светлость обещал беспременно…
– Он, кажется, на днях уезжает… Ну, а старик Кривский?
– Разумеется, будет. Помолвка сына, и не быть. Это почему?
Николай Васильевич тонко улыбнулся, отдал список назад, поднялся с трудом с оттоманки и заходил, переваливаясь и пыхтя, по кабинету.
Савва Лукич молчал, не осмеливаясь нарушать гастрономического вдохновения молодого человека.
Наконец Николай Васильевич присел к письменному столу, взял листок бумаги и стал набрасывать меню. Он несколько раз перечеркивал свой набросок, задумчиво смотрел вокруг и, наконец, торжественно произнес:
– Слушайте, что я вам дам. Ну, разумеется, первым делом, закуска très riche[22]22
Роскошная (франц.).
[Закрыть], ботвинья с осером и лососем… подадим рыбу во всей красе и printanier[23]23
Суп из свежих овощей (франц.).
[Закрыть] с разными пирожками, – пирожками, которые тают во рту, знаете ли, эдакими маленькими, с начинкой, разобрать которую может только сам господь бог… Вино – херес и мадера… Затем я вам дам filet de boeuf[24]24
Говяжье филе (франц.).
[Закрыть] с белыми грибами, да только какое филе! Оно у меня будет три дня мокнуть в мадере, а мадера, по двенадцати рублей бутылка, будет переменяться каждый день под моим наблюдением. Вся говядина пропитается, и вы будете есть не говядину, а восторг…
– Эка, говорит, собака, вкусно как! – облизывался Савва Лукич, еще пятнадцать лет тому назад смаковавший тюрю с луком.
– Вино бордосское Поильяк и Bram-Mouton…[25]25
Марки вин (франц.).
[Закрыть] Конечно, от Рауля… Засим truites de Gatchina à la Belle vue…[26]26
Гатчинская форель по рецепту ресторана «Бель-Вю» (франц.).
[Закрыть] Форель теперь вкусна. Запивать будем хорошим рейнвейном… Ну, разумеется, форель только так, а после форели crème de gibier à la Toulouse[27]27
Отборная дичь по-тулузски (франц.).
[Закрыть] с соусом из трюфелей, а пить бургонское. После этого мы сделаем sorbets à l'ananas;[28]28
Ананасный напиток (франц.).
[Закрыть] затем жаркое, кто что любит: молодые бекасы, дупеля, куропатки, цыплята с салатом, шампанское… и поздравления помолвленных после того, как вы объявите о том в кратком, но трогательном спиче…
– Когда объявлять-то?..
– За жарким непременно… Как только разольют шампанское, вы, Савва Лукич, вставайте и начинайте…
– А начинать как… уж ты скажи, милый человек… Ты за обедом у нас речистый…
– Просто объявите, что, мол, родительское ваше сердце трепещет при мысли о необходимости отдать миллион в руки Кривского, но, так как вы, мол, рассчитываете как-нибудь избавиться от печальной необходимости…
– Полно врать-то… Как, в самом деле, объявлять… Вкратце, что ли?..
– Об этом речь впереди… Эх, быть бы мне, как вижу, обер-церемониймейстером, а подите ж… Спич я вам, Савва Лукич, сочиню. Будет кратко и трогательно, а теперь, после тостов и речей, – речь о значении вас, как действительного статского советника, в экономии природы, я беру на себя! – а теперь, после тостов и речей, мы дадим артишоки aux fines herbes[29]29
С пряностями (франц.).
[Закрыть], спаржу непомерной толщины, выпьем еще Heidsig или Шандона[30]30
Марки вин (франц.).
[Закрыть] и угостим свежей земляникой, а затем подадим parfait à la reine Victoria[31]31
Мороженое королевы Виктории (франц.).
[Закрыть] с бриошами à la maréchal Mac-Magon[32]32
Маршала Мак-Магона (франц.).
[Закрыть]. Затем дюшесы, ананасы, мандарины, стильтон[33]33
Сорт сыра (англ.).
[Закрыть], рокфор, кофе и двадцатипятирублевый зеленый чай и, наконец, винт по рублю фишка, с тем, что вы мне держите тридцать пять копеек в случае проигрыша и ни одной полушки в случае выигрыша. Идет?
– Идет… В карты грабить будешь?
– Буду… Надо комиссию за обед взять… Каково меню-то… Хорошо?
– Верно хорошо, только малость не понял…
Николай Васильевич перевел непонятные Леонтьеву названия и проговорил:
– Ну, теперь денег… Обедец этот вам тысчонки в две влезет… Кстати… серебра и всей сервировки довольно?..
– Хоть сто человек зови…
Леонтьев выдал деньги. Николай Васильевич распростился и поехал делать нужные распоряжения.
Савва Лукич был в прекрасном расположении духа. Дело с дорогой спорилось. Впереди мерещились золотые горы… Девка делает хорошую партию. Мог ли он об этом мечтать? Он, Савка, битый не раз исправниками и становыми, мог ли думать, что он породнится с его превосходительством Сергеем Александровичем, по приказанию которого Савку два раза отодрали на съезжей?…
– Сила, силушка – мошна-то! Ох, какая силушка! – самодовольно проговорил Савва Лукич, отходя в тот вечер ко сну.
Ясный, прекрасный летний день второго июня застал Савву Лукича в наилучшем настроении. По обыкновению, сидел он утром в одном нижнем белье с расстегнутой рубашкой и выводил каракули на бумаге и пощелкивал счетами. Но не сиделось ему и не считалось. Он то и дело подходил к окну – взглянуть, не приехал ли кто объявить ему о генеральском звании. Он знал, что чин действительного статского советника будет радостным подарком в этот день, приказ подписан вчера и сегодня будет напечатан, а все как-то не верилось.
Он, Савка, генерал… его превосходительство!
Главное то, что теперь он, Савва Лукич, уже совсем барин, как есть по всем статьям…
Чувство гордости и тщеславия бывшего мужика не могло не отразиться радостным выражением на его красивом, энергичном лице. Он невольно припоминал свое прошлое, сравнивая его с настоящим, перекрестился тихим крестом и проговорил гордо и самоуверенно:
– В пыли был, а теперь, слава тебе господи!
Савва Лукич самодовольно оглянулся вокруг. Действительно, слава тебе господи. И из пыли-то вылез он сам, благодаря уму, смекалке и отваге.
Одна за другой картины быстро мелькали перед ним. Человеку, добившемуся счастия, весело вспоминать, чем он был и чем стал теперь.
А чем он был до тех пор, пока «линия» не пошла?
Широкий простор деревенских полей, запах навоза и спертый воздух покосившейся избы сменился бьющим в нос сивушным запахом кабачного подземелья, где шустрый, черноглазый, бойкий Савка впервые учился житейскому обиходу, всматриваясь пристально в проделки хозяина, скрадывая пятачки и невинно встряхивая кудрявой головенкой при допросах хозяина, почему водка отдает чересчур водой. Случалось, били Савку, больно били, но он только посверкивал глазенками, скаля острые зубки, как молодой волчонок, у которого зубы не отросли еще настолько, чтобы вцепиться как следует… Били Савку и говорили, что Савка плут, что Савка – вор мальчишка, но так говорили, что Савка только весело ухмылялся от таких комплиментов и стал вместо пятаков скрадывать гривны, присматриваясь в чаду кабака в людей и подмечая пакость человеческую… Вырастал Савка удалым красавцем, и когда заходил в свою деревню, девки вскидывали на него глаза, а он так взглядывал, что поневоле глаза опустишь. Пронзительный, плутоватый, насмешливый взгляд был у Савки.
Сбился – и сам кабачишко открыл. Люди помогли, и своя рука владыка помогла, а Савка был отважен… Дальше – дела шли лучше, и Саввушка уже три кабака снял, стал от своих деревенских рожу воротить и одеваться по-купечески… Тоже и в долг за «проценту» стал давать, – видит, дело не мудрое, а прибыльное… Стал Саввушка у крестьян и мещанского люда Саввой Лукичом. «Савва Лукич, не обессудь. Савва Лукич, помоги. Савва Лукич, нельзя ли…» Все можно. Неси заклад. Вся округа понесла…
В те поры, в городишке, где свил себе гнездо Саввушка, жила бедная дворянка и была у этой бедной дворянки дочь – бледная, худенькая, тщедушная, из лица приятная, с голубыми глазами. Саввушка посматривал, заглядывался и стал мимо окон ходить. Ни малейшего внимания. Плюнул было Саввушка и подумал: «Не нам с дворянкой связываться», а сердце клокочет. Эта худенькая белобрысая дворянка понравилась красавцу Саввушке, что-то в ней было такое сиротливое я жалкое… Семейка бедная, а туда же, дворянство… Стал Саввушка чаще под окнами ходить и однажды повстречал девушку одну и так взглянул на нее, что девушка покраснела и, как испуганная перепелка, засеменила прочь.
Стал Саввушка наводить справки. Офицер ходит, жениться собирается… «Голь голь разводит!» – подумал Саввушка, а сердце все клокочет. Однако бросил ходить под окнами. Прошло полгода. Повстречал он девушку в церкви, и, боже ты мой, какая она стала печальная да жалостная… Дело, видно, с офицером врознь. Опять справки. Дело дрянь: офицеришко обманул и бросил, девка младенца ждет, а мать воет, воет и поедом девку ест. Призадумался Саввушка – и к матери. Бедность непокрытая, а тоже форс какой. «Так и так». – «Ты с ума спятил, мужик». – «В купцы выпишусь и перестану мужиком быть». – «Подумаю».
Через три месяца бледнолицая девушка венчалась с купцом третьей гильдии Саввушкой. Плакала она и спрашивала перед свадьбой, не станет ли он бить ее. А Саввушка в ответ так обнял ее, что бледнолицая с благодарностью поцеловала у него руку. Но благодарность – не любовь, и Саввушка скоро увидал, что жена не любит его… Стал он сперва поколачивать ее, больше для срыва сердца, а потом перестал. Младенец умер, а как родилась дочь Дуня да сын, Савва Лукич увидал, что жена и совсем сохнет, и оставил ее в покое. Тут вдруг подошла линия. Савве тесно стало в трех кабаках. Савве захотелось простору. Приглядывался он долго. Надо было действовать.
День этот, когда «линия» вышла, Савва Лукич помнит, как будто сегодня это было… в городишко приехал большой петербургский барин заглянуть в свое имение. Имение большое, а доходу никакого или очень мало. Саввушка призадумался, заглянул в кубышки, оделся и пошел к барину. «Тебе чего?» – спрашивает камердинер. «С его сиятельством насчет дела». – «Насчет какого?» – «Насчет важного», – а вместе с тем Саввушка синенькую и просит доложить. Пустили. Поклонился и глазами вскинул. «Ты кто такой?» – «Купец». – «А по какому делу?» – «По вашему, ваше сиятельство. Слышали мы, что имение доходу мало дает?» – «Это правда. Мошенники обкрадывают». – «Это точно, ваше сиятельство; нонче мошенник как клоп развелся, а что ваше имение – дно, золотое дно. Нам это известно, и если бы ваша милость, то я бы аренду со всем моим удовольствием». – «Какую же аренду дашь?» – «А на первый раз десять тысяч, а там видно будет, как по совести». Его сиятельство чуть не привскочил. Никто двух тысяч не давал, а нашелся человек – десять дает, да еще обещает больше.
Поманил пальцем – подойди поближе. Саввушка подошел. «Расскажи, как ты с имением-то». Саввушка подробно насчет золотого дна: и тут доход, и там доход, и отовсюду доход. «Ты, вижу, умный мужик?» Савва только встряхнул кудрями.
Дело было облажено скоро. В первый год выслал Саввушка десять тысяч, во второй – двенадцать тысяч, а на третий сам в Питер приехал и пятнадцать тысяч привез, да божится, что и сам нажил.
Очень понравился Савва его сиятельству, – видит, умный хозяин. А Савва, не будь дурак, насчет подряда… Обещали, да вместо подряда целую дорожку строить дали…
С тех пор как попал Саввушка на вольную воду, он уж поплыл крупной рыбиной… Почет, уважение – все пришло, точно в сказке.
«А допричь всего было!» – вспомнил Савва Лукич.
Однако никто не едет! Или отложено?
– Имею честь поздравить, ваше превосходительство, с монаршей милостью! – проговорил, входя, курьер, подавая печатный листок.
У Саввы Лукича бросилась кровь в голову.
«Наконец-то!»
Радужная курьеру, и он один впился глазами в листок и прочитывает: «Коммерции советник Леонтьев в действительные статские советники».
Приятно щекотит по всему телу, и в сердце как-то щекотно. Кажется, всего только несколько слов напечатано, а радости…
«То-то Хрисашка сегодня!» – не мог не вспомнить Савва Лукич.
А в доме уже вся челядь узнала. Все подходят, всякий норовит урвать бумажку. «Ваше превосходительство», – жужжит в ушах Саввы Лукича. Подают телеграмму. «Управление NNской дороги, поздравляя ваше превосходительство с монаршей милостью, сообщило телеграммой по линии о радостном для всех событии».
Все уже знают.
Приехали инженеры, прихлебатели и разный люд. Савва Лукич, едва успевший одеться, делает вид, что равнодушен к чину. Он уже успел в несколько часов привыкнуть.
– Не чин важен, а внимание…
– Так… так…
Савва начинает немного советь. Уже слишком много народа в кабинете у него поздравляют и говорят: «Давно бы вам, Савва Лукич, быть генералом!» – «Это, Савва Лукич, всем нам отличие…» – «Вы, Савва Лукич, ведь три тысячи верст построили и как построили».
Савва не знает что отвечать. Его красивое, энергическое лицо глупеет, а природный здравый смысл и находчивость вдруг исчезают под шумом всех этих приветствий…
– Ну-ка, генерал, повернись! – иронически замечает миллионер старик Потапов.
Подали шампанское…
Пользуясь случаем, немало из гостей призаняли у Саввы Лукича..
Отказа не было.
Наконец кабинет опустел. Шмели разлетелись. Савва Лукич пошел сперва к матери и объявил ей, но на нее никакого впечатления генеральский чин не произвел. Жена – та обрадовалась, когда Савва Лукич, ласково целуя ее в губы, сказал:
– Поздравляю, ваше превосходительство!
Дуня молча обняла отца, а сын, мальчик пятнадцати лет, спрашивал, какой будет у отца мундир.
В четвертом часу приехал Николай Васильевич и, наскоро поздравив его превосходительство, отправился на кухню.
Генерал нетерпеливо ждал обеда, на котором должен быть непременно Хрисашка. Из-за него у Леонтьева была даже стычка с Борисом.
Когда Борис Сергеевич просмотрел список приглашенных на обед, – а в списке были «отборные» гости, – то он сказал:
– Зачем вы Сидорова зовете?..
«Зачем он Сидорова зовет? Да разве без Сидорова обед будет обедом? Зачем тогда и светлейший, и старик Кривский, и разные директоры канцелярий будут, как не для Хрисашки?.. Он лучше согласится исключить из списка его сиятельство, чем Хрисашку…»
– А отчего ж? Хрисанф Петрович, слава богу, не мелочь какая-нибудь…
– Все-таки…
– Нет, Борис Сергеевич… Кого другого я вам уступлю, а приятеля моего ни за что!..
Так Борис Сергеевич и не настоял…
А будет ли его превосходительство, Сергей Александрович?
Что-то говорило ему, что он не приедет, а без старика торжество неполное… Положим, его светлость один чего стоит, но все же сват…
«И чего гордится-то, сватушко… Нынче, слава богу, другие времена… не прежние… На тебе чин, да в карманах пусто!.. Сановник! И мы нонече в генералы вышли!»
Он вспомнил, как холоден был с ним несколько дней тому назад его превосходительство, и мысль эта омрачила торжественное настроение счастливого мужика…
Он даже начинал сердиться при мысли, что его превосходительство вдруг не приедет на обед.
– Эка невидаль сын-то твой… Нонече не то что за генерала, а за прынцев можно наших дочерей отдавать, только не оставь нас бог своей милостью, Прынец теперь обнищал, а сила – мы, бывшие посконные мужики и нынешние генералы! – проговорил Савва Лукич, встряхивая кудластой головой.








