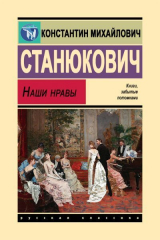
Текст книги "Наши нравы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– И вы здесь?.. Ну, поздравляю, дорога за вами!
Тяжело вздохнул Савва и не оказал ни слова. Счастие подействовало на него очень сильно. Когда он садился в сани, приказывая кучеру ехать домой, мимо него шмыгнула толстая фигура Хрисашки. При свете фонаря Савва увидал злую рожу соперника и отвернулся.
– Ну, матушка, бог не оставил раба своего, – прошептал Савва, припадая к руке старухи.
Старуха глядела на сына и недоумевала:
– Я снова человек, маменька!
Через две недели Савва с подписанным уставом ехал за границу, в сопровождении целой свиты инженеров и мелких дельцов.
XIV
ЕВДОКИЯ
На руках у Никольского остался маленький Коля.
Петр Николаевич дал себе слово свято выполнить обещание, данное покойному неудачнику. Он позаботится об участи мальчика и ни за что не отдаст его Валентине.
«Быть может, и человека вырастим!» – говорил про себя Никольский, с любовью поглядывая на приемыша.
Какое-то особенно нежное, теплое чувство сказалось в отношениях молодого человека к сироте. Он, бывало подсмеивавшийся над чересчур сильной любовью к детям, сам сделался нежным, заботливым отцом. Он старался всячески развлекать горевавшего ребенка, не отходил от него ни на шаг, сажал к себе на колени и рассказывал сказки, а по ночам на цыпочках входил в комнату, где спал Коля, и заглядывал в его лицо, прислушиваясь к дыханию ребенка.
Добрая Прасковья Ивановна ревновала даже Колю к своему племяннику и ссорилась с Петром Николаевичем, находя, что все эти заботы – дело не мужское, а бабье. Она сама отдавала все время своему Колюнчику и не знала, чем бы потешить сиротинку. Одним словом, и тетка и племянник, наперерыв друг перед другом, спешили приласкать и приголубить Колю и хотя сколько-нибудь утешить ребенка в его тяжелой потере.
– Ты хочешь всегда с нами жить, Коля? – спрашивал Петр Николаевич, покачивая в своих объятиях мальчика.
– Еще бы. Разумеется, хочу! – ласково шептал ребенок, прижимаясь крепче к груди Никольского. – После папы я тебя да тетю больше всех на свете люблю…
Никольский крепче сжимал мальчика в своих руках, и детский ласковый лепет каким-то теплом охватывал его сердце.
– Тетя наша, брат, славная тетя… Такой другой и не сыскать…
– Ну уж и не сыскать! – подскакивала откуда-то Прасковья Ивановна, ревниво поглядывая на племянника. – Что ты все на руках да на руках ребенка-то носишь… Дай-ка мне…
– Она в обиду тебя не даст! – продолжал Никольский, – ты с тетей в деревню поедешь… Хочешь ехать в деревню?
– Хочу.
– А через месяц и я к вам приеду… Вместе отлично заживем.
– Ты приедешь?
– Еще бы. Не бойся, мальчик, не обману – приеду!
Через неделю после похорон Трамбецкого Петр Николаевич отправил тетку с Колей из Петербурга в одну из южных губерний, в имение Евдокии, и только тогда известил Валентину о смерти и похоронах мужа, причем написал «доброй малютке», что если она желает его видеть, то он к ее услугам.
Валентина, однако, не высказала этого желания.
Посоветовавшись, по обыкновению, с Евгением Николаевичем, она отказалась от мысли требовать сына к себе, да и, по правде говоря, не особенно на этом настаивала, когда Евгений Николаевич почему-то горячо отсоветовал ей поднимать дело. По-видимому, он знал, где находится ребенок, и утешал мать тем, что сын ее в хороших руках.
При той жизни, которую вела Валентина, мальчик мог только стеснить «прелестную малютку», да и, наконец, долгая разлука с ним значительно ослабила ее материнские чувства. Она почти никогда не бывала дома, а если и бывала, то окруженная веселым обществом мужчин. Где тут думать о ребенке… Без него как-то свободней и веселей, ничто не могло стеснять ее в наслаждении жизнью.
И Валентина наслаждалась со страстью и легкомыслием тщеславной женщины. Она жила с безумной роскошью, сорила деньгами, ощипывая в последнее время перья у юного наследника петербургского миллионера. Этот юнец был влюблен по уши в очаровательную женщину и подписывал векселя на огромные суммы, доставая деньги под баснословные проценты. Валентина подзадоривала молодого наследника, кокетничала с ним, и когда, наконец, отдалась ему, то упитанный телец уже подписывал вторую сотню тысяч векселей.
Странные отношения существовали между Никольским и Валентиной. Он был ее ментором и любовником, но любовником нисколько не ревнивым.
Он позволял «кроткой малютке» увлечения и требовал только два дня в неделю для себя. Он тщательно скрывал от всех свое знакомство с Валентиной, никогда не показывался у нее при гостях и давал дружеские советы обворожительной женщине, кому из поклонников отдать предпочтение.
Валентина чувствовала к Никольскому какой-то страх. Она его боялась и уважала. Он всегда давал ей хорошие советы. В свою очередь, он третировал Валентину и держал ее в полном повиновении. Он ей доставал деньги, когда у нее их не было, и он же учитывал векселя юного наследника через одного еврея, достававшего деньги. Об этом, конечно, никто не знал, и Никольский, при помощи Валентины, исполнял вторую часть своей житейской программы – составить себе состояние. Никто и не подозревал в молодом чиновнике, пробивающем себе карьеру, ростовщика. Один только Петр Николаевич знал тайны своего когда-то нежно любимого брата.
Евдокия приняла искреннее и горячее участие в судьбе Коли. Благодаря молодой женщине Никольский мог так скоро отправить своего приемыша в деревню.
Однажды, вскоре после похорон, Никольский, только что окончив урок с сыном Леонтьева, вышел из подъезда и тихо побрел по улице, раздумывая, куда бы отправить своего питомца, как его окликнул тихий голос:
– Петр Николаевич!
Никольский обернулся и увидал Евдокию, торопливо догонявшую его. Он только что виделся с ней и несколько изумился, когда молодая женщина сказала:
– Извините, Петр Николаевич, что задержу вас на минутку… Вы не торопитесь?
– Нет. А вы куда?
– Я домой…
– Так, если угодно, пройдемте вместе.
– С удовольствием… Видите ли, Петр Николаевич, давеча я не успела спросить вас о сыне Трамбецкого… Он не выходит у меня из головы.
Евдокия остановилась и прибавила:
– Вы извините меня, что я спрашиваю об этом. Вы были так добры, что обратились тогда ко мне насчет покойного, и я так была рада…
Никольский вспомнил, с какою готовностью несколько времени тому назад Евдокия предложила, по его рекомендации, Трамбецкому место управляющего в ее имении, и поспешил ответить:
– В самом деле, мальчуган-то хороший, Евдокия Саввишна… Он остается у меня!
– У вас? А мать?
– Я не отдам его матери! – решительно сказал Никольский. – Покойный просил не отдавать, и я постараюсь исполнить его просьбу.
Евдокия взглянула на Никольского. Ей очень понравился его решительный и энергичный тон.
– Разве это можно?
– Можно! – усмехнулся Никольский. – Вы, верно, слышали, какова матушка?
– Но она все-таки может требовать сына?
– Ну, мы с нею сговоримся. Она, кажется, не особенно горюет о сыне, а, впрочем, бог ее знает, что она думает делать… Я только что размышлял, куда бы спровадить подальше на первое время моего приемыша…
– Если будет удобно, то… вы знаете, Петр Николаевич, я с удовольствием готова предложить поселиться в моем имении.
– В самом деле? можно? – весело переспросил Никольский. – Мальчик с моей теткой поедет. Это не стеснит вас?
– Что вы? Стеснит? Разве это… это может стеснить? Я так рада, когда могу чем-нибудь быть полезной… Только это так редко случается! – с грустью прибавила она, краснея.
– Крепкое спасибо вам, Евдокия Саввишна, за мальчика… Только вот в чем дело, я и забыл об одном обстоятельстве. Вы-то согласны, а ваш муж?
Евдокия вспыхнула.
– Конечно, и он будет согласен! – проговорила она.
– Ну, и слава богу… Значит, можно с богом в дорогу!
– Конечно…
– Так еще раз позвольте поблагодарить вас! – промолвил Никольский, протягивая руку.
– Вы благодарите, точно и в самом деле я что-нибудь особенное сделала…
– Эх, Евдокия Саввишна, по нынешним временам… – Он не окончил фразы и стал раскланиваться.
– Так что, но нынешним временам? – остановила его Евдокии.
– Вообще… Ну, да это вас, кажется, не касается!.. – ответил Никольский, еще раз крепко пожимая руку молодой женщине.
Хотя Никольский уже года два, как знал Евдокию, встречаясь с ней в доме ее отца, но редко говорил с молодой девушкой и вообще не обращал на нее особенного внимания. И Евдокия, в свою очередь, не заговаривала с ним, смущенная после одной попытки, кончившейся очень неудачно: так однажды сухо и лаконично ответил молодой человек на какой-то вопрос, предложенный молодой девушкой. Никольский, видевший Евдокию мельком, совсем не знавший ее, считал дочь Леонтьева за обыкновенную приглуповатую купеческую дочку, которая выйдет замуж, станет рожать детей и заботиться о том, чтобы все шло в дом и ничего из дому, и только в последнее время обратил на нее внимание и стал замечать, что Евдокия далеко не та приглуповатая барышня, какой он себе ее вообразил. Из разговоров с сыном Леонтьева он узнал кое-что, заставившее его попристальней всматриваться в эту загадочную натуру, и был поражен, когда узнал, что Евдокия выходит замуж за Бориса Сергеевича Кривского.
«Верно, очаровал своим изяществом!» – подумал он и вскоре уехал из Петербурга.
Евдокия из разговоров с братом тоже заинтересовалась Никольским, но все-таки как-то не решалась заговорить с ним. Так они и не встречались до той поры, когда Евдокия вышла замуж и вернулась осенью в Петербург.
Когда, по возвращении в Петербург, Никольский опять встретился с Евдокией, то был поражен ее задумчивым и грустным видом. Он рассчитывал встретить довольную, веселую, счастливую молодую генеральшу, а вместо этого встретил слабенькое, застенчивое создание, с печатью горя и какой-то внутренней работы на миловидном личике. В больших восторженных глазах он теперь прочитал гораздо яснее, чем читал прежде. Эти глаза говорили ему, что напрасно он так поспешно судил прежде об этом странном создании, совсем не похожем, как оказывалось, на тех дочерей миллионеров, каких ему не раз приходилось встречать у Леонтьева.
Евдокия как будто смутилась при встрече с Никольским.
Он поздравил ее с замужеством, и она смутилась еще более. Никольский хотел было поправиться, и сам сконфузился при виде этого смущенного и страдальческого выражения.
Так они не сказали ни слова в тот раз, и, когда Евдокия вышла из комнаты, Петр Николаевич задумчиво посмотрел ей вслед и пожалел ее.
«Верно, благовоспитанный супруг не дал ей счастия!» – подумал Никольский и скоро узнал, что Борис Сергеевич женился на приданом. Ему об этом намекнула вскоре сама Леонтьева, любившая почему-то Петра Николаевича и приглашавшая его нередко после урока выпить с ней чашку чаю.
– Так чего же вы отдавали дочь замуж-то?
– Мы, Петр Николаевич, не неволили. Сама хотела.
– Сама?
– Сама, сама, голубушка… Она ведь у нас, – вы-то и не знаете ее, – какая-то как будто порченая! – рассказывала больная женщина, довольная, что может перед кем-нибудь излить свое горе…
– Как порченая?
– А так, бог уж ее знает… Очень уж близко к сердцу все принимает Дуня моя родная… Так и закипятится вся… С малолетства такая росла. И чем старше, тем загадчивей становилась голубушка… Бывало, и к отцу пристает, зачем он делами все занимается. Дела, видите ли, глупенькой не нравятся. Правды какой-то она все искала… Люди, говорит, не так должны жить…
– Правды? – с любопытством спрашивал Никольский.
– Да! Подите ж! – усмехнулась сквозь слезы мать. – Правды! а какой такой правды? и сама не могла объяснить. Так, мечтания какие-то лезли в голову… Отец, глядя на нее, жалел дочь и сокрушался… Думал, выйдет замуж и пройдут ее мечтания, да только какое? Не на радость-то она замуж вышла…
– Она по любви вышла за Кривского?
– То-то не любила, кажется, а тоже свободы какой-то искала. «Я, говорит, замужем начну по-своему жить, только бы муж добрый я честный человек был, не мешал бы мне». А она его считала очень хорошим человеком, ну и с весом… По ее мыслям выходило так, будто они вдвоем-то с мужем и бог весть чего не наделают, а вышло совсем не то… Уж я говорила ей, что не на ней он-то женится, а на приданом, так она, что бы вы думали? – вскипела вся и говорит: «Разве, говорит, люди все, маменька, негодяи и подлецы?» Что с ней было делать, а вот теперь и мается… Любви нет, ладу нет.
Дивился Петр Николаевич, слушая жалобы матери, и сам не замечал, с каким любопытством и злобой слушал рассказы о молодой женщине.
Встречаясь с Евдокией, он как-то особенно почтительно стал ей кланяться. Евдокия нередко заходила к матери именно в то время, когда Никольский после урока шел наверх пить чай.
Но более дружеское сближение их началось с того дня, когда судили Трамбецкого.
Во время перерыва заседания Евдокия подошла к Никольскому. Она была, видимо, возбуждена.
– Как вы хорошо говорили… Я с самого начала думала, что Трамбецкий не виноват, а как выслушала вас, то вполне убедилась, что он прав… Ведь его оправдают?
– Ему уж все равно. Вы разве не видите, что перед вами живой мертвец. Это бедный неудачник… вся жизнь его была рядом неудач.
И Никольский рассказал в коротких словах о Трамбецком.
Евдокия слушала с напряженным вниманием и, когда Никольский кончил, конфузясь, сказала:
– Послушайте, Петр Николаевич, не могу ли я что-нибудь сделать для Трамбецкого?..
Она ждала нетерпеливо ответа и когда Петр Николаевич оказал, что может, то радость засветилась в ее кротких глазах. Тут же было решено, что Трамбецкий поедет в имение Евдокии управляющим.
– Благодарю вас, Петр Николаевич!.. – вся краснея от внутреннего волнения, проговорила молодая женщина. – Вам я обязана, что хоть одному больному человеку могу дать пристанище. Если бы вы знали, как хотелось бы мне быть полезной… Но только я не знаю, как приносить пользу… что делать… Научите хоть вы меня…
Никольский с особенной любовью взглянул на это кроткое создание и, ласково улыбаясь, проговорил:
– Сердце само вас научит.
– Что сердце?.. Мало ли что хочет сердце, но с одним сердцем ничего не сделаешь…
На этом и оборвался разговор, но с этих пор между молодыми людьми мало-помалу началось сближение. Никольский встречался с Евдокией у Леонтьева, и когда Евдокия не бывала день-другой, ему как будто чего-то недоставало. Он с изумлением стал замечать, что эта молодая женщина начинает его интересовать гораздо более, чем простая знакомая. Сперва он уверял себя, что видится с ней просто ради изучения этой оригинальной натуры, и если не встречал Евдокию у Леонтьевых, то шел вечером к одной общей их знакомой и просиживал целый вечер с Кривской. И она радовалась, когда он приходил, весело встречала его, рассказывала ему свои заветные мечты и просила его советов и помощи.
О чем только они не говорили! Они обо всем говорили, исключая любви. Этот вопрос они оба как-то осторожно обходили постоянно. Никольский даже посмеивался над любовью, если заходил об этом разговор. По его мнению, любовь была излишней роскошью для таких людей, как он. Петр Николаевич как будто нарочно высказывал иногда перед Евдокией оригинальную теорию любви, причем предъявлял такие требования к женщине, которую бы он мог полюбить, что Евдокия, слушая его, была вполне уверена, что Никольский, кроме участия, не чувствует к ней ничего, а Никольский, в свою очередь, был уверен, что молодая женщина так ласкова с ним только потому, что доброе ее сердце ищет исхода из той тьмы, которая ее окружала.
«Я для нее просто новая книга, которую она жадно читает!» – размышлял нередко Никольский, провожая Евдокию домой от Леонтьевых или от кого-нибудь из их общих знакомых.
И они чаще и чаще виделись друг с другом, обманывая себя самым добросовестным образом и не замечая, как дружба начинала сменяться любовью… Начинавшееся чувство оказывалось в мелочах: в заботливости, с которой Никольский взглядывал в лицо Евдокии и опрашивал о ее здоровье, в предупредительности, с которой он советовал ей беречь себя, когда она распахивалась на улице, в напускном равнодушии, с каким он говорил ей при встречах о нечаянности этих частых встреч, словно бы боясь, чтобы она не подумала, что он ищет этих встреч…
И она верила, верила этим словам и чаще, и чаще сравнивала Никольского с мужем и… и с каждым днем сильнее чувствовала, что с ним она не может жить… Ей хотелось примирения с возмущенной совестью, а разве его превосходительство, Борис Сергеевич, мог примирить ее?.. Ей хотелось подвига, креста, а разве он возложит на нее тот крест, который ей хотелось?!
Вот человек, который поможет ей! – думала она не раз о Никольском и гнала прочь невольно закрадывавшееся в сердце искушение.
Никольский тоже испытывал борьбу и после долгих размышлений решил бросить эти «глупости» и ехать в деревню.
И без того застрял он здесь на целый месяц. Довольно!
XV
РЕШЕНИЕ
Через несколько дней Никольский объявил Леонтьеву, что должен прекратить занятия с его сыном.
Известие это неприятно поразило Савву Лукича, Он питал доверие к Никольскому и – что было удивительно! – этот прошедший огонь и воду делец уважал молодого человека и относился к нему с каким-то особенным почтением.
– А за сына не беспокойтесь, Савва Лукич, – прибавил Петр Николаевич. – Вместо себя я порекомендую вам отличного учителя.
– Как не беспокоиться, Петр Николаевич? – воскликнул Савва. – Вам хорошо говорить, а беспокойство все-таки останется…
– Да вам не все ли равно? – спросил Никольский, несколько удивленный словами Леонтьева.
– Эх, любезный человек, мы хоша и сиволапые, а понять человека наскрозь можем. Глаз-то у меня зорок на человека. Я башковатость-то вашу да усердность довольно хорошо вижу. Слава богу, несколько годов знакомы. Только с вами и стал сынишка как следовает заниматься учением. Огорошили вы меня, Петр Николаевич, право, огорошили!
Леонтьев пристально взглянул на Никольского и, несколько конфузясь, проговорил:
– Или, может, вы, Петр Николаевич, чем-нибудь не уважены? Не потрафили на вас? Так вы, родной, только заикнитесь. По нашему, по-мужичьему, оно, пожалуй, и невдомек, а вы не жалейте казны нашей. На учение я завсегда с удовольствием, потому учение, по нонешним временам, первое дело…; Требовайте, Петр Николаевич! – прибавил Савва, поднимая глаза на Никольского. – Мы вину загладим.
– Не в том речь! – улыбнулся Никольский. – Причина тут другая – уезжать мне надо.
– Опять в отлет? Давно ли отлетывали? Место, что ли, вышло?
– Нет.
– По делам, значит?
– По делам!
– Так, так! – подсказал Леонтьев. – Выходит, такие дела, что и отложить нельзя?
– Нельзя, Савва Лукич.
Савва замолчал и в раздумье посматривал на Петра Николаевича. Потом, словно бы отвечая на мысли, занимавшие его, он произнес, покачивая голевой:
– Погляжу я на вас, Петр Николаевич, и будто все не могу вас в толк взять… вот тебе бог свят, не могу!
– Будто уж и трудно? – засмеялся Никольский..
– Не обессудишь за речь мою, Петр Николаевич? – продолжал Савва.
– Не стесняйтесь, Савва Лукич. Рассказывайте, чего это вы в толк не можете взять?
– Людей, братец ты мой, на своем веку я встречал довольно. По делам, промежду всякого калибера трешься, а только нонече завелся какой-то калибер, что и невдомек. Чудной вы народ!
Никольский посматривал с любопытством на «сиволапого генерала», и образ Евдокии пронесся перед ним. В самом деле, как это под боком у Саввы могла развиться такая противоположная натура, как Евдокия? Этот хищник, настоящий хищник, как следует быть хищнику, умный, энергичный, бесстрашный пройдоха, а дочь, наоборот, пострадать хочет… Каким образом могла явиться такая разница? Сынок тоже скорее в отца, только пожиже и умом и натурой, а дочь-то как сохранилась среди этой обстановки?
А Савва между тем продолжал:
– Люди вы хорошие, люди вы мозговатые, а катаетесь вы ровно перекати-поле, без устали… Глядючи на вас, смекаешь, словно вы бродяги какие-то по божьему свету… Право, бродяги. Другие при занятиях, при должности, как следует по благородному званию, а вы точно бездомники какие-то! Поглядишь на вас: ни одежи, ни виду настоящего, ни сытости, а ведь захоти только?.. Да, например, будем так говорить, Петр Николаевич… Я вам какое хочешь место у себя бы предоставил! У меня теперь местов этих много открывается… Народу как саранчи налетит, а по совести сказать, народ все какой-то неверный – вор-народ к нам льнет, так и норовит смошенничать… А верных-то быдто мало… Ну, согласись вы, Петр Николаевич, при моем деле, да я сейчас же вам пять ли, десять ли тысяч отвалил бы жалованья, потому нам верного-то человека выгоднее держать, чем неверного… Пошел бы?
– Нет, Савва Лукич, не пошел бы.
– Я так и знал… Потому и говорю, что оно мне невдомек!.. Чудеса нонче какие-то на свете пошли… Мы, мужики, в генералы лезем, а генеральские сынки вдруг в мужики полезли…
– Как так? – опять засмеялся Никольский.
– Да так… У меня вот на чугунке случай был. Ехал я с экстренным поездом, – ну, как водится, при компании… Инженеров этих и всякого народа вокруг. Ну Савве-то Лукичу все кланяются… деньгам почет отдают… Только на станции, гуляючи, смотрю на паровозе машинист стоит, молодой такой парень, только вид у него совсем как будто особенный, хоть и рожа его вся грязная и руки грязные. Поглядел на него, и он на меня так поглядывает смело и зубы белые ровно волчонок скалит. Отошел я и спрашиваю своих-то: «Откуда машинист?» Так как бы вы думали: генеральский сын оказался, в ниверситете обучался, сродственники богатые, а он в машинистах ездит. Согрешил сперва: подумал, не проворовался ли парень, нарочно справлялся. Говорят: парень примерный и башковатый и по своему делу усердный… Диковина! А то еще у нас же на чугунке дорожным мастером полковницкий сын был… Да мало ли этого калиберу нонче развелось… Люди ищут, как бы им лучше, а вы словно норовите, как бы вам похуже, чтобы и недоесть, и недопить, и недоспать… Это вот мне и невдомек, Петр Николаевич… Какого калибера вы будете люди и что у вас на разуме?..
Но так как Петр Николаевич не показывал намерения подавать реплики, то Савва продолжал:
– И ведь гоняют же вашего брата, ровно зайцев, а вы все свое… Али крест на себя такой приняли?.. Чудно, как погляжу!.. В департаменте есть воротила, про Егор Фомича, может, слышал? У него мошна-то тугая, а сын, единственный сын, где-то мотается. Отец и то и другое, а сын рожу воротит…
Савва задумался.
– Вот тоже и дочь у меня, Дуня, ровно бы блажная какая-то. Душа кроткая, а что-то в ней неладное. Чем бы ей, кажется, не жизнь, а поди ж? И как иной раз подумаешь об ней, так сердце за нее и заноет. Что за причина, Петр Николаевич, по вашему разуму? Пошто она блажит?
Никольский взглянул на красивого энергичного мужика с косматой головой.
Эту голову, очевидно, посещали мысли, с которыми она не могла оправиться. Раздумье виднелось в морщинах, прорезывающих высокий большой лоб Леонтьева, в сжатых крупных губах, в мягком взгляде, полном любви, когда Савва говорил о дочери… Он дотронулся широкой рукой до руки Никольского и как-то печально проговорил:
– Вас, Петр Николаевич, Дуня уважает. Я с ней говорил, так она, голубушка, только жалостно как-то глядит, а ответа не подает, – отцу поперечить не хочет, – а вы, верно, смекаете, что у нее на разуме?.. Ведь долго ли бедненькой до греха, коли она – генеральша-то моя – тоже по вашему калиберу пойдет. А нюх-то мой сказывает, что у нее что-то засело в голове.
Никогда Савва не говорил с Никольским так задушевно, как сегодня. Никогда Никольский не видел в этом мужике такого нежного проявлении чувства к дочери и страха за ее будущность.
Но что мог отвечать он?
Ясно, что Савва не понимал, да и не мог понять того сложного процесса, который происходил в его дочери. То, что пугало отца, к тому стремилась дочь. Ничто не в состоянии было наполнить пропасти, разделявшей эти две натуры. В дочери как будто олицетворился протест против всей жизни отца, и обоим им совершенно естественно приходилось жалеть друг друга из противоположных побуждений.
– Что ж, Петр Николаевич. Видно, и вы не можете успокоить родительское сердце. Кровь-то родная!
– Человек на человека не походит, Савва Лукич. Что по вашему счастие, то, быть может, Евдокии Саввишне горе. Пусть себе живет, как ей совесть велит! Авось будет счастлива. Такие натуры согнуть нельзя… Их сломать можно, а согнуть никогда…
– Правда, правда ваша. Дуню не согнешь…. Авось бог над ней смилуется… Пойдут дети, и господь пошлет мир ее сердцу! – попробовал успокоить себя Савва.
«Напрасно утешает себя!» – подумал Петр Николаевич и стал прощаться с Саввой.
Леонтьев, по обычаю, три раза поцеловался с Никольским и, крепко пожимая руку, проговорил:
– Ну, дай вам бог хорошего, Петр Николаевич… Бег доведет вернуться, коли не побрезгуете нами, милости просим! Всегда я, любезный человек, с моим полным удовольствием… А умаетесь бродяжничать-то, – улыбнулся Савва, – только словечко черканите. Для вас всегда место будет.
– Спасибо вам, Савва Лукич! – проговорил Никольский.
– Чудной народ, чудной! – несколько раз повторил Савва, когда Никольский ушел. – Только без пути они маются, сердечные… Без плутовства нельзя прожить на свете! Ни в жисть.
Евдокия сидела за книгой, когда вошел Петр Николаевич, и вспыхнула, увидав Никольского, Он присел на кресло и заговорил;
– А я пришел проститься с вами, Евдокия Саввишна.
– Как проститься? Вы разве уезжаете? – проговорила она испуганно.
– Уезжаю к своим.
– Так скоро? – проронила молодая женщина.
– И то зажился здесь.
– А скоро вернетесь?
– Не знаю, скоро ли… Надо думать, нескоро… Здесь-то нечего делать.
Разговор как-то не клеился. Евдокия сидела молча, опустив голову. Никольский чувствовал себя неловко. Обоим хотелось так много оказать друг другу, и между тем ничего не говорилось.
Так прошло несколько минут. Наконец Никольский поднялся с места.
– Уж вы уходите… совсем уходите? – прошептала Евдокия. – А я хотела у вас обо многом спросить… Обо многом.
– Спрашивайте.
– Да вы торопитесь. Лучше я вам напишу… Впрочем, подождите… Вы знаете, что на днях я буду богачка… Отец отдает мне огромное состояние. Вы помните, что мы с вами говорили об этом?
– Как же, помню.
– Я этими деньгами не воспользуюсь… ни одной копейкой не воспользуюсь! – прибавила Евдокия. – Но только мне бы хотелось знать ваше мнение, как употребить их… Мне бы хотелось, чтобы они были употреблены как можно лучше.
– Вы твердо на это решились? Проверили себя?
– И вы еще спрашиваете, Петр Николаевич? – с укором заметила Евдокия.
– Добрая вы душа, Евдокия Саввишна! – как-то ласково проговорил Никольский. – И большой вы подвиг делаете, сами того не сознавая, в этом-то и есть величие подвига… Отказаться от состояния, об этом легко говорить, но сделать это…
– Какой тут подвиг? – улыбнулась Евдокия. – Вы уж и о подвиге, а помните, что вы же сами говорили?
– Каюсь, вы поймали меня… Знаете, ли… ну… ну… не буду, вижу, вам это не нравится… О вашем решении надо подумать, да хорошо подумать. Я подумаю и напишу вам свое мнение, а также укажу, с кем здесь посоветоваться, как оформить дело. Отдавать тоже надо умеючи…
– То-то и я думаю… Так вы будете писать мне?..
– С удовольствием…
– Когда я кончу с этим делом, тогда и о своей судьбе подумаю…
Никольский почему-то вдруг стал серьезен.
– Так жить, как они живут, я не буду, я не могу! – тихо проговорила она, как-то восторженно глядя куда-то вдаль. – Я прежде думала, что можно иначе, но вижу, что ошибалась… Отдаваться вполовину я не умею…
Она говорила, и голос ее дрожал какой-то восторженной нотой.
– Разве это жизнь? О господи, если б вы знали, как тяжело бывает чувствовать себя виноватой…
Она помолчала и прибавила, натягивая на свой пополневший стан большой платок:
– Вот только поправлюсь и тогда в деревню. Не нравится мне здесь жить… А там я надеюсь на вас, Петр Николаевич… Вы поможете мне найти дорогу… Ведь поможете?
Никольский нахмурился.
– Сердце само подскажет вам, Евдокия Саввишна, что делать. Дороги бывают разные и указывать их к чему же?.. Жизнь сама укажет, а советовать я не стану…
– Отчего не станете?
– Оттого, во-первых, что это будет насилием. Вы еще молоды и под влиянием возбуждения можете сделать шаг, за который потом раскаетесь… А быть может, я сам ошибаюсь?.. быть может, дорога, которая мне кажется легкой, покажется вам трудной; потом вы, разочарованная, неудовлетворенная, горько упрекнете и себя и того, кто вам дал совет… Или, наоборот, я укажу вам тропинку, которая покажется вам слишком узкою! Нет! я ничего вам не буду советовать, Евдокия Саввишна… Я видел много горьких примеров. Я видел много загубленных жизней… Смолоду душа отзывчива, она рвется на первое горячее слово, а потом… одна горечь, озлобление и какая-то пустота… Ни тут, ни там нет зацепки… А тащить ярмо поневоле, нести, так сказать, обряд службы, не участвуя всем сердцем, а, напротив, питая к ней недоверие… избави бог от этого… Ничего не предпринимайте слишком поспешно… Обдумайте прежде… Рвать со всем прошлым, со связями, с знакомством, привычками легко в молодые годы, а после что? А раз корабли сожжены… поздно их вновь строить!
Евдокия слушала Никольского с каким-то восторженным вниманием. Он говорил горячо, искренно, подкупающе…
– А во-вторых, почему? – тихо спросила Евдокия, когда Никольский замолчал.
– А во-вторых? – переспросил Никольский и сконфузился. – Во-вторых, – как-то резко проговорил он, вставая с кресла, – советы мои могут быть пристрастны…
– Как пристрастны?..
– Очень просто… Во мне могут говорить эгоистические побуждения… Люди не ангелы, Евдокия Саввишна! – обрезал он и так крепко пожал руку молодой женщине, что она чуть было не вскрикнула от боли.
– Ну-с, прощайте, Евдокия Саввишна… Желаю вам всего хорошего и, главное, душевного мира… Ваша натура вас вывезет – это верно…
– Прощайте, Петр Николаевич… За все благодарю вас.
– Не за что… Я для вас был только товарищем, в котором вы нашли отклик, вот и все…
– Ах нет… больше! – прошептала она, вся краснея.
Но Никольский, по счастию, не слышал этих слов. Он поспешно вышел из комнаты, спустился с лестницы и даже не заметил презрительного взгляда, которым смерил его Борис Сергеевич, встретившийся с молодым человеком в нескольких шагах от подъезда.
В тот же вечер Никольский отправился в деревню.
Прошло два месяца со времени отъезда Никольского. Борис Сергеевич очень был рад, что «этот господин», как обыкновенно он называл Никольского, перестал посещать его жену, и в сердце его нет-нет да и закрадывалась надежда, что жена его со временем избавится от своих диких выходок и каких-то дурацких мечтаний, о которых Борис Сергеевич не мог говорить иначе, как с презрительной насмешкой. Он возлагал надежды на рождение ребенка и особенно ухаживал последнее время за женой, прося ее беречь свое здоровье, в заботах о сохранении состояния, положенного в банк на имя Евдокии.








