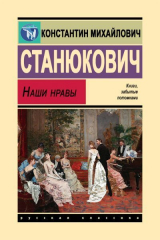
Текст книги "Наши нравы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
III
ТИРАН МУЖ И «ДОБРАЯ МАЛЮТКА»
Господин, так неделикатно встретивший свою «добрую малютку», казался очень странным субъектом.
Это был худой, худой как спичка, долговязый брюнет с бледным, умным лицом, впалой грудью и подозрительным румянцем на щеках, намекавшим о чахотке.
Он имел вид больного, сильно помятого жизнью человека, который, однако, не сложил оружия, а пробует еще бороться. Что-то необыкновенно характерное, страдальческое и в то же время ироническое сказывалось в этой долговязой фигуре, в лихорадочном взгляде глаз, в едкой улыбке, искривившей тонкие, поблекшие губы, в надтреснутом, глухом голосе, вылетавшем из его груди, в торопливых жестах его длинных худых рук.
Большая черная борода с густой проседью окаймляла старообразное, но еще красивое лицо с резкими обострившимися чертами. Из глубоких темных впадин, словно из ям, блестели большие черные глаза, оживлявшие эту больную чахоточную физиономию. Почти седые волосы выбивались из-под порыжелого цилиндра.
Одет он был в потертую черную пару платья, которая висела на нем, как на вешалке, но костюм, видимо, не смущал его; казалось, он не обращал на него ни малейшего внимания. На вид он казался совсем стариком, хотя «добрая малютка» и говорила Кривскому, что мужу ее сорок лет.
– Что ж ты молчишь? – еще раз повторил Трамбецкий, впиваясь глазами в красивую нарядную жену, сиявшую под лучами весеннего солнца. – Ну, рассказывай же… рассказывай, как ты хлопотала о разводе… как ты, по обыкновению, рассказывала длинную печальную историю своей жизни с тираном мужем, погубившим кроткое создание ревностью и пьянством… Не забыла ты при этом спустить мантилью?.. В обморок падала?.. Что, господин Кривский приводил тебя в чувство… а?..
Трамбецкий говорил торопливо, словно боясь, что не успеет сказать все, что нужно было.
– Александр! прошу тебя, вспомни, что ты на улице… Разве я не говорила вчера тебе, разве вчера ты не верил мне?.. Ты ошибся. Я не о разводе просила, я просила за тебя… хлопотала о месте! – проговорила Валентина Николаевна тихим, нежным голосом, взглядывая на мужа кроткой, детской улыбкой, которая так понравилась Кривскому… – Пойдем домой… я тебе все расскажу…
Трамбецкий жадно вглядывался в эти кроткие глаза, словно бы в глубине их желал прочитать правду.
Он знал, отлично знал свою «малютку» и отрывисто произнес:
– Валентина!.. Опять?.. Кто просит тебя лгать? Одно слово правды, и я, знаешь, буду доволен!
– Александр… ты помнишь, что было вчера?.. Ты простил меня… ты верил… Вспомни, что говорили мы о нашем будущем… Сегодня ты опять не веришь?..
Он слушал, недоверчиво слушал этот мягкий голос, проникавший в глубину его наболевшего сердца. Ему так хотелось верить, забыть горе прежней жизни, и он снова пытливо взглянул ей в глаза.
Глаза смотрели так ласково и нежно, так же как вчера, когда для этого человека блеснул луч надежды, как оазис в безбрежной пустыне… Вчера она говорила не так, как обыкновенно. Вчера они говорили о будущем… «О нашем будущем!»
«Не может же наконец человек так лгать… Это невозможно… Это было бы чересчур жестоко!» – говорил он себе, и с его страдальческого лица постепенно исчезла злая улыбка, и большие его глаза осветились добрым, мягким выражением. Он присмирел. В голосе его зазвучала нотка надежды.
– Валентина! Как хочется мне верить! – проговорил он.
Они сперва пошли вместе, но скоро расстались. Валентина Николаевна, видимо, смущалась своим неизящным спутником и заметила:
– Иди домой… Я сейчас приду… Мне только надо зайти в Гостиный двор купить чулки Коле. Как он?
– Лежит… Доктор был без тебя и уложил его в постель.
– И ты оставил его?.. Иди скорей домой. Я буду сейчас.
Трамбецкий пошел один, как-то грустно усмехнувшись, когда Валентина Николаевна села на извозчика.
Валентина Николаевна хорошо знала мужа. Когда он верил ей, из него можно было вить веревки.
Не обращая ни на что внимания, погруженный в мысли, роившиеся в опущенной голове, дошел он до Загородного проспекта, тихо поднялся на четвертый этаж, останавливаясь на площадках и схватываясь длинными пальцами за грудь, и вошел в квартиру с робкой надеждой, согревшей его сердце.
Который раз входил он домой с надеждой!.. Как часто он надеялся, и как часто надежды его безжалостно разбивались, оставляя каждый раз новое больное место в наболевшем сердце. И теперь он верил и не верил… Ему так хотелось верить и успокоиться… Довольно он мучился, довольно пережил; казалось, пора бы давно наконец найти тихую пристань. Ведь он так мало требовал!
Он старался отогнать длинную цепь воспоминаний прошлого, помимо воли закрадывавшихся в его голову… Он гнал их, а они всё шли, как непрошеные гости… Прочь! Он вошел в маленькую кокетливую гостиную, и все в ней, начиная от рояля и кончая диваном, напоминало о чем-то скверном, безобразно скверном… Он прошел далее через женину комнату, игрушку-будуар, ярко залитый солнечными лучами, остановился на секунду, окинув грустным взглядом голубое гнездышко с коврами, мягкой мебелью и цветами, и поскорей перешагнул порог.
– Это ты? Наконец-то ты пришел, милый мой! – раздался из-за угла маленькой, скверной, почти голой комнаты тихий детский голос.
С этими словами из кроватки приподнялся мальчик лет десяти в белой рубашонке с расстегнутым воротом, открывавшим тоненькую шейку, на которой была посажена несоразмерно большая детская головка. У ребенка было необыкновенно умное личико с большими голубыми глазами, глядевшими серьезно и вдумчиво. Видно было, что головка работала не по летам. Мальчик улыбнулся при взгляде на отца и присел на кровати.
При звуках этого ласкового голоска Трамбецкий ожил, как оживает завядший лист под утренней росой. Он быстро приблизился к кроватке, поцеловал мальчика, взглянул в лихорадочно блестевшие глазенки, ощупал горячую голову и, озираясь, спросил:
– А няня где?
– Няня ушла. Я отпустил ее. Ей скучно со мной. Ты не сердись, папа, – прибавил мальчик, заглядывая отцу в глаза. – Право, я сам ее отпустил…
– Тебе одному скучно было?
– Нет, папа… Я привык… Я все думал…
– Думал, о чем же ты думал, мой мальчик?
– Много о чем… Я тебе все расскажу. Больше о тебе думал… Такой ты, голубчик, больной у меня… все кашляешь!
Мальчик взглянул в глаза отцу и долго, долго всматривался в них серьезным, ласковым взором.
– Что ты, Коля?.. – тихо спросил отец.
– Ничего… На тебя смотреть хочется… я ведь тебя так люблю, и сказать не могу, как люблю… Я все думал, что ты больше не уедешь? Нет?..
– Нет… родной мой… нет! Однако укройся хорошенько… Ишь, головка какая горячая!.. У тебя болит что-нибудь? – шептал отец, накрывая мальчика одеялом.
– Ничего не болит, только жарко. Так приятно и жарко, а ничего не болит. Пить хочется…
Отец подал воду. Мальчик глотал ее жадными глотками.
– Ты не уезжай смотри, а то мне без тебя будет скучно. Ах, как мне было скучно, когда тебя не было… Если б ты только знал… Ты ведь меня не оставишь?.. Я вырасту, и мы будем вместе, всегда вместе. Только, папочка, милый мой… прости меня, что я тебе скажу…
– Что, дитя мое? Говори все… говори…
Мальчик остановился, задумался и потом тихо, совсем тихо прошептал:
– Ты не пей вина… От него у тебя грудь болит и кашель… Ты так кашляешь, и мне жаль тебя…
Крупные капли слез скатились из глаз отца на горячую руку мальчика.
Он привстал, страстно обвил шею отца, замер в немом отчаянии и, всхлипывая, повторял:
– Я тебя огорчил, добрый мой… Прости меня…
Но в ответ отец покрывал горячими, страстными поцелуями возбужденное лицо сына и шептал ласковые, нежные слова.
– Я не буду больше пить, милый мой, и я никогда не оставлю тебя. Я буду учить тебя… Ты ведь мой ненаглядный.
Мальчик тихо сжимал своими маленькими ручками длинную бледную руку отца.
Они не говорили ни слова, но, казалось, ребенок понимал, что делается с отцом, и все крепче и крепче сжимал любимую руку.
Отец бросал частые тревожные взгляды на горевшие щеки мальчика, прикладывал руку к его пылающей головке, прислушиваясь трепетно к прерывистому дыханию.
– Тяжело тебе, Коля… скажи, мой родной!
– Ты, папа, не беспокойся. Я скоро буду здоров! – ласково улыбался в ответ мальчик, – день, два полежу в постели и встану… опять вместе учиться будем… Вот ты не лечишься – это нехорошо, папа! – серьезно добавил ребенок. – Тебе непременно надо лечиться… Ты будешь лечиться?..
– Буду, буду… непременно буду.
– Ты лечись у другого доктора, а не у того, который меня лечит. Этот какой-то нехороший, все улыбается да смеется с мамой… Как ты полечишься, то будешь такой толстый, здоровый… кашля у тебя не будет… Правда ведь?.. – оживленно болтал ребенок, возбужденный лихорадкой.
О господи! Каким нежным, теплым чувством охватывалось наболевшее сердце отца. Под звуки этого детского лепета, казалось, горе уходило куда-то далеко, далеко, и на глаза невольно навертывались слезы радости и раскаяния за то, что он слишком много думал о себе, хотя и уверял себя, что думает о сыне. Он любил его недостаточно сильно… Нет! Никогда не оставит он своего мальчика, что бы впереди ни было, какие бы испытания ни сулила ему жизнь. Он все вытерпит, все перенесет для сына… Он и без того ради него терпел, но этого еще мало. Что он без него, без этого ребенка? К чему тогда и жить?.. Ведь только осталась одна цель, серьезная цель: воспитать своего мальчика, сделать из него хорошего, честного человека, который сумеет бороться и выйдет из житейской борьбы не такой искалеченной тварью, какой вышел он. Если отец неудачник, «настоящий неудачник!», – грустно улыбнулся Трамбецкий, то зато он, вот этот крошечный мальчик, не будет таким. Он не погубит себя в добрых намерениях и в бесплодной борьбе с женщиной.
Так думал отец, слушая возбужденные речи своего любимца и отвечая на них словами горячей любви и ласки. Так говорили они несколько времени, и, казалось, оба черпали во взаимной любви новые силы.
Громкий звонок в передней смежил их уста. Раздался свежий женский голос, и вслед за тем пронесся тихий шелест платья в соседней комнате. Отец и сын вдруг присмирели и почему-то взглянули друг на друга. Особенно серьезен стал взгляд мальчика.
Валентина Николаевна тихо подошла к постели с тою особенной грацией и томным видом, с которым обыкновенно входят женщины в комнаты, где лежат больные. Она склонила голову над постелью ребенка, улыбнулась ему ободряющей улыбкой, слегка дотрогиваясь до головы.
– Ну, как мы? Посмотри – нравится тебе? Она подала сыну ящик с игрушками.
Ребенок взял ящик, положил около себя и проговорил тихо:
– Благодарю.
– Что ж ты не говоришь: нравятся тебе игрушки?..
– Нравятся, мама! – еще тише проговорил мальчик и закрыл глаза.
– Он спать хочет… У бедняжки сильный жар! – заметила Валентина Николаевна, видимо не зная, что затем делать: оставаться ли у ребенка или идти в комнаты.
А солнце, как нарочно, врывалось яркими лучами и раздражало молодую женщину… На улице так ярко, хорошо, весело, а здесь… здесь так скучно: угрюмое лицо тирана мужа, больной ребенок и запах лекарства. Она любила Колю, но любила его здорового, веселого, нарядного, когда, бывало, она гуляла с ним или каталась. Она часто целовала его урывками, кормила конфектами и иногда забывала его по целым дням. Но когда бывали гости, она всегда на несколько минут сажала мальчика, разодетого и напомаженного, к себе на колени, прижимала его щеки к своим розовым щекам, трепала маленькой выхоленной ручкой и осыпала поцелуями. Это была такая трогательная картина, что гости нередко любовались и находили эту добрую мать с ребенком на руках еще пикантней…
Впереди еще объяснения… Ах, как хотелось ей, чтобы не было никакого объяснения, чтобы жизнь ее текла весело и нарядно, чтобы муж – этот ужасный человек, сгубивший ее молодость, не нарушал спокойствия жизни своим видом, своими притязаниями… Она его не любит, к чему ж он стесняет ее свободу, свободу женщины?..
Когда дело касалось свободы женщины, Валентина Николаевна морщила свой лоб и принимала строгий вид. Она серьезно возмущена была положением женщины и всегда, вздыхая, говорила очень много фраз, вылетавших с ее уст как-то нечаянно, бессвязно, но очень мило. Она считала себя несчастной женщиной, жаловалась на мужа и при этом плакала так вкусно, что дамам хотелось поплакать вместе, а мужчинам – расцеловать это миленькое, пухленькое личико. Знакомые верили всему, что она рассказывала про мужа, тем более что он никогда ничего не говорил и имел вид такой суровый. В самом деле, все считали его тираном, погубившим это кроткое, несчастное создание… Положим, она увлекалась, но разве можно не увлечься, имея под боком негодяя и пьяницу? Так думали все, знавшие Валентину Николаевну, и она умела прекрасно поддерживать это мнение.
В головке ее пробегало одновременно несколько мыслей. Она подумала о предстоящем объяснении с мужем, собираясь обмануть его как можно грациозней, понадеялась, что Кривский избавит ее от «этого человека», и вспомнила, что сегодня вечером она должна быть в Михайловском театре и что надо поскорей взять билет.
Ей вдруг так захотелось быть в театре, что эта мысль заняла ее более всего, и она теперь обдумывала, как бы найти предлог, чтобы тотчас же снова вырваться из дому на воздух, на солнце, к людям, подальше от постылого мужа, которому вчера еще со слезами на глазах клялась в верности, не вызванная на это ни единым словом мужа, вспоминая во время клятв веселое и смеющееся лицо молодого Кривского…
Она обманывала как-то шутя, добродушно, с наивностью доброй малютки, с цинизмом развращенной женщины. Она любила блеск, роскошь, шум, и приезд мужа, этого рыцаря печального образа, изменил вдруг ее веселую обстановку. Нельзя было не стесняться. Приходилось обманывать и ворочаться раньше домой. Приходилось льстить, браниться, плакать, требовать развода, уверять и себя и мужа, что без сына она несчастная женщина, рассказывать, утирая слезы, что муж ее бьет, и даже рассказывать с наслаждением.
Валентина Николаевна простояла несколько минут и вдруг спохватилась, что у ребенка нет мешка для льду на случай, если жар усилится и доктор прикажет прикладывать лед. Она тотчас же сказала об этом мужу и вызвалась съездить.
Трамбецкий внимательно следил за ней и, казалось, понимал, что происходило в душе у этой «доброй малютки»… В другое время она, быть может, подняла бы в нем желчь, вызвала бы горячие замечания, его возмутила бы ложь, а теперь он только усмехнулся и тихо прибавил:
– Что ж, поезжай…
Она тотчас же вспорхнула, как птичка, и уже на пороге почему-то обернулась и, обращаясь к мужу, заметила:
– А с тобой мы поговорим, как я вернусь… Кривский обещал тебе место…
Солгавши, она усмехнулась про себя и мечтала, что Кривский освободит ее от этого человека. Ей казалось, что она произвела на старика впечатление, и она весело шла по улице, вспоминая те косые взгляды, которые останавливал он на дрожавшем кружеве, и с обычным своим легкомыслием строила воздушные замки, рассчитывая на свою красоту и ловкость.
Когда ушла жена, Трамбецкий нагнулся к сыну. Ребенок лежал с открытыми глазами… Они ни слова не сказали о Валентине Николаевне и продолжали беседовать.
Через несколько времени мальчик уснул.
Отец сидел подле и задумался. Прежняя жизнь проносилась перед ним с своей убийственною ясностью.
Есть неудачники – особенно много их между русскими людьми, – которых жизнь постоянно гладит против шерсти, словно бы испытывая человеческое терпение, в наказание за неумение приурочиться к жизни и плыть вместе со всеми по течению.
К таким неудачникам принадлежал и Александр Александрович Трамбецкий.
Перед ним пронеслась вся его прошлая жизнь, и он скорбно улыбался, подводя итоги. В итоге – разбитая жизнь, подорванная вера, сознание одиночества и общественной бесполезности. В сорок лет – старый инвалид, без положения, без средств, без личного счастья, брюзгливо отворачивающийся от современной сутолоки, слишком совестливый, чтоб вступить с жизнью в сделку и взять от нее то, что другие берут с ясным взором и спокойным сердцем.
Это был один из могиканов шестидесятых годов, не смирившийся еще от житейских потасовок, еще возмущавшийся тем, чем сверстники его давным-давно перестали возмущаться, сидя в департаментах, правлениях, канцеляриях, и готовый еще проспорить из-за какой-нибудь статьи до петухов, толковать об идеалах и решать вопрос о человеческом счастье, забывая, что самого его счастье не баловало никогда.
Он возмущался, злился и в такие минуты говорил горячо, бросая молнии из глаз и размахивая длинными неуклюжими руками. Сперва его слушали, но пришла пора – слушать его перестали, как человека смешного и даже беспокойного. В самом деле, еще понятно, когда возмущается двадцатилетний юноша, но возмущаться в сорок лет, говорить страстные тирады где-нибудь в департаменте или в съезде мировых судей, лезть на стену по поводу какого-нибудь «пустяка» и не делать никакой карьеры – это казалось большинству его знакомых странным, смешным и даже неприличным, так что Трамбецкому оставалось только махнуть на них рукой.
Мало-помалу от него отвернулись прежние близкие люди и товарищи, находя, что знакомство с этим беспокойным черноволосым малым, неделикатно касавшимся самых щекотливых вопросов, и неприятно и небезопасно для их репутации. Большинство бежало взапуски за положением, за богатством, за карьерой, а он – смешной человек, как говорили его сверстники, – «застыл на старых взглядах» и не понимает, что надо жить, жить надо, как люди живут, а не бездольным скитальцем с места на место. Тогда Трамбецкий попробовал сойтись с молодежью… Он думал найти отклик у горячих сердец на свои горячие монологи, но его монологи, к изумлению старого идеалиста, встречали почтительную улыбку и более ничего… Он очутился между двух стульев и понял, что он одинаково чужой и тем и другим… Пришлось говорить монологи перед графином водки, изливая в пьяном виде горечь разочарования и оскорбленного самолюбия.
Для таких беспокойных, отзывчивых, раздражительных натур, как Трамбецкий, одиночество было ужасно. Он искал привязанности. В ней мечтал он найти зацепку к жизни, примирение после тех мытарств, которые ему пришлось испытать, как только он перешел на третий курс университета. Он занимался отлично, но говорил монологи со всем пылом и горячностью юноши, готового схватить мир божий как быка за рога. Это были такие невинные юношеские монологи, но все-таки пришлось оставить на время университет и познакомиться с местоположением Архангельской губернии, прожить там два года и вернуться оттуда к практической деятельности. Он сдал кандидатский экзамен, поехал к своим старикам в Полтавскую губернию, получил наставление от отца и горячую мольбу матери быть умнее и поступил на службу.
Сколько служб переменил он в течение восьми лет!
Где только он не был, где только не служил и в каких только канцеляриях не говорил монологов и не имел «историй»… Скитания с места на место, казалось, должны были бы утомить другого человека, но Трамбецкий был неисправим… Он брался горячо за дело, принимал слишком близко к сердцу важное и неважное, ссорился, говорил своим резким тоном азбучные, но неприятные истины и… смотришь… опять путешествует наш чудак из захолустья в захолустье, устраивается снова, снова ссорится и снова путешествует налегке с маленьким чемоданом, в котором заключалось все его имущество…
В один прекрасный день он получил известие о смерти отца и сделался владельцем изрядного имения в Полтавской губернии… Он приехал в деревню, завел немедленно школу, ссорился в земстве, негодовал, что мужик не понимает его горячих монологов и подчас обманывает – его, любившего народ, самым добродушным образом… Он приходил в недоумение. На земских собраниях распинался за интересы крестьян, а дома выходил из себя, приходил в отчаяние от «непонимания» подневольного человека и под конец перессорился со всеми соседними помещиками. Помещики считали его красным; мужики относились к «блажному пану» с мягкой снисходительностью рабочего человека и посмеивались над его неумелостью и горячими монологами. Трамбецкий совсем потерялся и не знал, как ему приняться за дело…
В это время он встретился с Валентиной. Какой прелестной кроткой девушкой показалась она Трамбецкому! По своему обыкновению, он увлекся ею сразу и из хорошенькой, неглупой и испорченной девушки создал в своем воображении идеал ума, развития и нравственной чистоты.
– Эти глаза… эти кроткие глаза не могут лгать…. В этих глазах, точно в светлом озере, видно все! – говорил он тогда в сумасшедшем экстазе, любуясь ясными глазами Валентины, слушавшей, бывало, его монологи с тем особенным вниманием, с каким слушает невеста всякие речи жениха.
Внимание он принял за сочувствие, желание выйти замуж – за любовь, пустоту – за наивность.
– Такого наивного ребенка и надо мне. Я перевоспитаю ее, и мы заживем отлично!.. – говорил он своей матери, практичной старухе, сразу понявшей чутким материнским инстинктом, что Валентина, этот милый ребенок с кроткими глазами, не любит сына и выходит замуж ради партии.
Но разве можно было убедить Трамбецкого? Он полюбил воображаемую «добрую малютку» со всем пылом помятого жизнью человека, наконец нашедшего на своем тернистом пути верного друга, товарища и любовницу. Он строил планы будущей их жизни, а она все слушала, внимательно слушала, подкупая влюбленного человека своей неизменно кроткой улыбкой.
После свадьбы они уехали за границу. Заграничная поездка входила в план воспитания «доброй малютки». Первое время он был опьянен счастием любви и близостью этой красивой, грациозной женщины и не замечал, что кроткие глаза «малютки» также ясно смотрели на него, когда он, захлебываясь от восторга, говорил ей о любви или когда он прозаично говорил об обеде. Она терпеливо, впрочем, выслушивала еще монологи, но после монологов незаметно сводила разговор на деньги и тратила их на наряды. Она любила блеск, любила общество, наряжалась, а он – сумасшедший человек – думал, что она наряжается для него, стараясь ему понравиться.
Валентина Николаевна очень исказила факты, рассказывая свою исповедь Кривскому. Она представила мужа ревнивцем и, по обыкновению, грациозно обошла причины ревности. А причины были…
Ужасный был для Трамбецкого тот день, когда первая глубокая рана была нанесена ему «доброй малюткой» прямо в сердце нежданно-негаданно, когда на губах его еще не успели остыть ее поцелуи, а ясный взор ее точно еще смотрел на него с кроткой улыбкой ангела.
Они жили тогда в Швейцарии, в прелестном уголке на берегу озера, среди роз и зелени, любуясь снежными высями темно-синих гор из окон хорошенького домика. Однажды он уехал на целый день к одному, жившему в соседнем городке знакомому, обещая вернуться на следующий день. Она проводила его, щебеча как птичка и ласкаясь как кошечка.
Он оставил свою «малютку», счастливый своею любовью, любуясь природой, с наслаждением вдыхая горный воздух полной грудью. Ему так было хорошо. Он еще раз обернулся, чтобы взглянуть на милое создание. Кудрявая головка Валентины приветливо кивала с балкона.
Дальше он помнит только, как вместо следующего утра он возвратился в тот же день поздно вечером, как торопился поделиться с ней впечатлениями, как подошел к двери спальни и замер в ужасе и тоске.
У себя ли он? Не ошибся ли?
Он оглянулся вокруг, схватился дрожащей рукой за голову и прислушался.
Из спальни ясно долетали звуки голосов: испуганный шепот жены и ободряющий голос мужчины.
У него помутилось в глазах. Он хотел было рвануть двери, но вдруг повернул назад и, бледный, убитый, вышел на улицу.
Через несколько минут мимо скользнула знакомая фигура соседа их за табльдотом, пожилого итальянца, с которым жена, бывало, разговаривала при встречах. Сам он говорил с ним редко.
Трамбецкий взглянул вслед итальянцу «Убить разве?» – промелькнула мысль.
– Не стоит! – тихо прошептал он, склоняя низко голову и тихими шагами удаляясь от дома, не зная, куда и зачем идет он.
Где ходил он в эту памятную ночь, он до сих пор не помнит. Когда Трамбецкий шел домой с твердой решимостью немедленно уехать в Россию и никогда более не встречаться с «малюткой», лицо его было такое скорбное и больное, что прохожие обращали на него внимание, принимая его за сумасшедшего или пьяного.
Он тихо поднялся в «гнездышко» и прошел в маленькую комнатку, где лежала еще раскрытая книга, которую он читал своей «малютке». Слезы тихо закапали из его глаз, когда среди безмолвия раннего утра он стал укладывать свои вещи.
«За что, за что?» – повторял он, беззвучно шевеля губами, не отдавая вполне отчета в том, что случилось. Он сознавал только, что случилось нечто безобразное, жестокое, и понимал, что отныне он снова одинок, с новой раной в сердце.
Он обернулся, заслышав шаги, и опустил глаза от стыда. Перед ним стояла Валентина в белом капоте, бледная, печальная, с скорбным взором, умоляющим о пощаде.
У него не хватило смелости поднять на нее глаза. Из груди не вырвалось ни одного звука. Он чувствовал только, как сильно бьется его сердце, и чего-то ждал, ждал со страхом и надеждой.
Валентина тихо приблизилась и как сноп упала в ноги, рыдая сдавленными, глухими рыданиями.
Он поднял ее и, глядя в сторону, слышал тихий нежный голос, робко моливший о прощении, шептавший слова любви и раскаяния… Из отрывистых слов, с трудом вылетавших из ее груди, он только слышал, что она невинна, что фамильярность итальянца развлекала ее, и затем вместо слов опять слезы и слезы…
Он взглянул на нее. Господи! Какая кроткая, молящая улыбка… Как хороша, как изящна ее маленькая фигурка, как нежно дрожат ее розовые губы… Неужели уехать?.. Неужели впереди опять сиротство одинокого существования? Но ведь он же любит ее, все-таки любит, несмотря…
Валентина инстинктом поняла, что делается с мужем. Она обвила его шею и, прижимаясь к нему всем телом, тихо рыдала у него на груди.
Он ничего не понимал, ничего не расспрашивал… Он чувствовал только на себе горячее дыхание женщины, чувствовал, как испуганно трепетала она и… и остался…
В тот же вечер они оставили свое гнездышко. Он ни словом не упоминал об этом случае, и Валентина, казалось, с тех пор полюбила его больше.
Прошел год, и у них родился сын… Трамбецкий радовался и мечтал, что сын теснее сблизит их. Он нянчился с малюткой и нежно упрекал жену, что она часто забывает его.
Из памяти его понемногу изглаживалась швейцарская сцена… Она казалась ему каким-то тяжелым кошмаром. Он начинал верить, надеяться, как вдруг снова повторилась подобная же сцена, с измененными несколько подробностями: вместо Швейцарии – Италия, вместо итальянца – русский, вместо молений о пощаде – уверения в невинности, и снова тот же кроткий взгляд светлых невинных глаз…
Что это была за жизнь… Что это была за каторга!.. Он любил и презирал ее в одно и то же время. В порыве заносил он на нее руку и в ужасе останавливался, замечая страх животного в ее глазах.
Они уехали в Россию, поселились в деревне, и скоро «кроткая малютка» сделалась сказкой уезда… Она жаловалась везде на мужа, обманывала его, отдавалась без разбора, начиная с мужа и кончая случайным любовником. Она тяготилась жизнью в деревне, кутила на стороне, уезжая в город, и рвалась, как бабочка на огонек, в Петербург.
Трамбецкий махнул рукой, запил и привязался сильнее к сыну… Дела его в это время расстроились; он поступил на службу в город В. Там жена его сделалась любовницей губернатора; все об этом знали, кроме Трамбецкого. Наконец узнал и он и сделал сцену. Она жаловалась, что муж ее бьет, и в городе все жалели Валентину. Далее потеря места, состояния, пьянство – и в один прекрасный день исчезновение жены с сыном.
Разбитый, усталый, совсем больной, прожил он год в Крыму, и праздниками для него были те дни, когда он получал письма от сына.
Скверный был тот год. Тяжело было Трамбецкому оставлять сына у «доброй малютки», о жизни которой приходили дурные вести из Петербурга. Он приехал в Петербург.
Валентина Николаевна была изумлена, когда увидела сгорбленного старика с блестящими глазами и чахоточным румянцем. Она приняла его ласково, просила забыть все, обещала жить для ребенка и первые дни проскучала дома.
Он поселился в дальней маленькой комнатке, редко показываясь к жене, и занимался с сыном… Он был тих и покорен, но на него находили порывы бешенства; тогда он вдруг начинал язвить Валентину, допрашивал, чем она живет и где пропадает по целым дням… В такие минуты Валентина его боялась.
Бледный, худой, держась руками за грудь, он то бранил, то умолял ее, то поражал своими сарказмами, питая надежду, что еще не все потеряно и пробудится совесть. Он обещал забыть все, не требуя любви, не делая упреков, но только пусть же она живет как человек, пусть помнит она, что у нее сын, который видит все.
Он просил отдать ему сына, но она не соглашалась. Он грозил – она запиралась в комнату или закрывала руками лицо, словно ожидая удара. Он уходил к себе и заливался слезами, как беспомощный ребенок.
На другой день он снова видел изящную, блестящую жену и тот же кроткий взгляд ее светлых глаз… Он избегал смотреть на нее, страшась, как бы она не узнала, что он все-таки еще любил ее. Она догадывалась об этом и в минуты хорошего настроения духа бросала мужу ласку, как бросают милостыню нищему.
«Бежать разве… бежать!» – нередко закрадывалась ему мысль в голову, но в это время тихо подходил к нему сзади мальчик, целовал его в щеку, играл с его бородой и, крепко прижимаясь к нему, вселял новую силу и бодрость в этого измученного человека.








