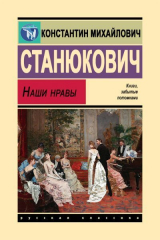
Текст книги "Наши нравы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
VII
СОЛИДНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
«Где видела она этого серьезного молодого человека?» – припоминала Валентина, всматриваясь в строгое, бледное лицо с шелковистыми светло-русыми бакенбардами и такими же гладко зачесанными назад, без пробора, мягкими редкими волосами. «Где видела она его?» – спрашивала себя молодая женщина, чувствуя почему-то неловкость под резким, чуть-чуть насмешливым взглядом серых стальных глаз.
В каком-то тумане ее разнообразного прошлого припоминались ей знакомые черты этого лица и мягкие, вкрадчивые звуки тонкого голоса. Но когда и где встречалась она с этим бледнолицым солидным молодым человеком? В деревне? За границей? Здесь, в Петербурге?
Валентина припоминала и не могла припомнить.
Евгений Николаевич сел против молодой женщины и продолжал:
– Его превосходительство принимает большое участие в вашем положении. Ваша правдивая исповедь произвела на доброго, мягкого старика сильное впечатление, но так как справедливость прежде всего, то Сергей Александрович поручил мне собрать необходимые сведения и доложить ему, чтобы он имел право просить за вас, основываясь на данных. Вы, вероятно, знаете, что эти дела от нас непосредственно не зависят. Я постараюсь добросовестно выполнить поручение его превосходительства и…
Евгений Николаевич на секунду остановился.
– И что же? – тихо пролепетала Валентина, поднимая испуганные глаза на Никольского.
– И, разумеется, сведения оказались самые для вас благоприятные! – проговорил Никольский, глядя на Валентину с нескрываемой насмешливой улыбкой.
«Чего он так странно улыбается?» – со страхом думала Валентина, смущаясь все более и более и недоумевая, как держать себя с этим господином.
– Ваш супруг, господин Трамбецкий (произнося эту фамилию, глаза Евгения Николаевича вспыхнули недобрым огоньком и тонкие губы искривились злой улыбкой), ваш супруг такой господин, с которым порядочной женщине, как вы, разумеется, жить невозможно…
«Он знает его?» – промелькнуло в головке «доброй малютки»; от нее не скрылось выражение лица собеседника, когда тот произнес фамилию мужа, и глаза ее просветлели. С любопытством и страхом ждала она, что скажет Никольский.
– Я знавал вашего супруга!.. – тихо проговорил Евгений Николаевич и прибавил: – Он, кажется, недавно получил место?
– Да, в конторе у нотариуса.
– Вы знаете через кого?
– Наверное, не знаю… Кажется, за него хлопотал какой-то студент, я не припомню его фамилии. Он часто бывает у мужа. Такой белокурый господин с черными глазами.
– Вероятно, господина Трамбецкого и оттуда скоро выгонят?
– О, этот человек нигде не уживется! А если бы вы знали, Евгений Николаевич, как он со мной обращается!
– Знаю, знаю, дорогая Валентина Николаевна. Я ведь и вас хорошо знаю, но только вы не узнали меня или не хотите узнать! – улыбнулся Никольский.
– Извините… Я припоминала… припоминала и не могла вспомнить. Вижу знакомое лицо, а где встречалась с вами, решительно забыла… Извините…
– Не извиняйтесь, Валентина Николаевна. Вам меня не мудрено было и забыть, но мне трудно было бы забыть вас. Помните в В. молодого скромного чиновника, носившего вам ежедневно букеты от губернатора?
Валентина покраснела и теперь отлично припомнила худенького, молодого белобрысого господина, носившего ей от губернатора цветы и письма и часто смотревшего на нее долгим робким взглядом. Но, боже мой, какая разница! Тогда этот самый Никольский казался ей некрасивым, заморенным и несчастным чиновником, а теперь? Кто узнал бы в этом уверенном, серьезном молодом человеке бывшего посыльного влюбленного губернатора? Вслед за тем она отчетливо припомнила, как однажды муж застал у нее этого самого молодого чиновника, смиренно ожидавшего у нее в будуаре ответа на бред влюбленного помпадура, накинулся на скромного чиновника, как с побелевших, дрожавших губ мужа слетали ужасные слова: «Мерзавец!», «Сводник!». Она не припомнит теперь, что еще говорил тогда ее муж. Она помнит только, что маленький чиновник как-то весь задрожал, побледнел и ничего не ответил, но только, уходя, взглянул тогда на Трамбецкого долгим злым взглядом, которым, казалось, обещал никогда не забыть оскорбления. С тех пор молодой чиновник не показывался у них в доме, и Валентина его никогда не видала.
И вот теперь она сидит перед ним в качестве просительницы, смущенная, робкая под его насмешливым, пронизывающим насквозь взглядом.
– Как видите, мы с вами давно и хорошо знакомы, милейшая Валентина Николаевна! – проговорил Никольский, меняя строгий, деловой тон на фамильярный тон старого знакомого, хорошо знающего с кем имеет дело. – Не правда ли? – усмехнулся он, без церемонии заглядывая в глаза Валентине. – С тех пор много утекло воды, но судьба снова привела нас встретиться. Тогда я подносил вам букеты, а теперь постараюсь поднести вам отдельный вид на жительство. Ну, а вы?.. Вы мало переменились… – оглядывал Никольский молодую женщину с ног до головы. – Такая же хорошенькая, изящная, как были, и, слышно, по-прежнему одерживаете блестящие победы?..
– Ах! не до побед теперь! – смутилась Валентина. – Я, Евгений Николаевич, так измучена, так измучена, и наконец воспитание ребенка! – пробовала было она впасть в серьезный тон страждущей женщины, но Никольский перебил ее словами:
– Оставьте со мной, Валентина Николаевна, жалкие слова! Когда будете беседовать с Кривским, ну, тогда вы можете рассказать ему о всех ваших несчастиях, и добрый старик поверит, а со мной к чему вам? Со мной смейтесь, показывая ваши беленькие острые зубки и ямки на прелестных щечках, и поверьте, что так будет лучше… Вы, слышал я, пленили Леонтьева?..
– Он принял во мне участие…
– И прекрасно!.. Участие его ведь так драгоценно!.. Он самодур и миллионер. Вместо букетов из роз он станет посылать вам букеты из ассигнаций… Эти букеты лучше пахнут, не правда ли?..
Никольский шутил с «доброй малюткой» с холодным едким цинизмом. Он фамильярно целовал ее руки повыше перчатки, раз даже приложился своими тонкими губами к ее горячим щекам, оговариваясь, что поцелуй его «холодный, мирный», и обещал на днях устроить ей дело совсем.
– А в награду за хлопоты, милая моя барыня, я возьму с вас слово поужинать вместе… Идет?
– Идет! – смеясь ответила Валентина.
– Вот и прекрасно!.. Да кстати пришлите ко мне Леонтьева!.. Мы поговорим с ним о вашем деле… Придется там у этих бракоразводных мастеров немного посорить деньгами. А ужин на днях… смотрите! – проговорил, прощаясь, Евгений Николаевич.
– Когда хотите… Я так вам благодарна…
Веселая, довольная ехала Валентина домой, где уже поджидал ее Савва Лукич и нетерпеливо встряхивал своими кудрями, прислушиваясь, не звякнет ли звонок.
Слегка склонив голову, с серьезно-почтительным выражением, которым особенно любят щеголять молодые деловые чиновники, знающие себе цену и вместе с тем близкие к начальству, Евгений Николаевич вошел в кабинет его превосходительства, с чувством пожал ласково протянутую ему руку, и, по обыкновению, замер в изящно-почтительной позе, в которой не было ничего раболепного, но было столько преданности, что лицо его превосходительства осветилось благосклонной улыбкой, и он произнес:
– Садитесь-ка, Евгений Николаевич… Вы, как вижу, опять донимать будете? – улыбнулся старик, искоса поглядывая на толстый тисненый портфель, который Евгений Николаевич держал в руках.
– Нет, ваше превосходительство, сегодня я не обеспокою вас. Из числа бумаг только две спешные записки, которые вы третьего дня приказали составить как можно скорей.
– Это какие? о чем? Мы так много пишем с вами разных записок, – улыбнулся Кривский, – что с ними голова пойдет кругом.
– Одна по вопросу о народном здравии, а другая – контрпроект по вопросу о мерах, изложенных в записке графа Захара Ивановича Привольского, которая была сообщена вашему превосходительству для соответствующих замечаний.
– А вы уж успели написать? Спасибо! Неутомимы вы, как посмотрю.
Евгений Николаевич просиял.
– Хотите сигару?.. Берите!.. – пододвинул Кривский своему любимцу ящик с сигарами и спросил: – А новенького что? что говорят о затеях графа Захара Ивановича? – с любопытством спросил старик.
– Пресса относится к ним недоброжелательно, и, сколько кажется, все находят проект графа Захара Ивановича слишком…
Евгений Николаевич находчиво затруднился в выборе выражения, но зато его превосходительство быстро подхватил:
– Слишком глупым, хотите сказать? Voila le mot[13]13
Вот именно (франц.).
[Закрыть]. В самом деле, граф Захар Иванович хочет вернуть нас ко временам Гостомысла и фрондирует теперь в роли спасителя отечества… Старик чересчур хватил и чуть ли не нас с вами имеет в виду, говоря об административном нигилизме!.. – улыбнулся Кривский, презрительно щуря глаза.
Он помолчал и пустил тонкую струйку дыма.
– Им хочется спихнуть меня, но еще руки коротки! – проговорил его превосходительство, как-то выпрямляясь на кресле и чувствуя прилив сил, бодрости и энергии при воспоминании об интриге, направленной, как полагал он, против него.
– Я читал, что пишут газеты, но мне кажется, что все они не вполне уясняют себе суть вопроса. Чего мы хотим? Мы хотим мирного преуспеяния, но далеки от крайности в ту или другую сторону. Между тем все газеты – и особенно эти нетерпеливые! – смешивают нас, людей порядка и постепенного прогресса, с господами, желающими остановить мановением руки течение рек и морей! – усмехнулся его превосходительство, – это непростительное и, пожалуй, у многих злонамеренное заблуждение, мой милый, и мне очень бы хотелось, чтобы вопрос был разъяснен насколько возможно. Хотя наша пресса, – при этом Кривский как-то насмешливо прищурил глаза, – хотя наша пресса, – повторил он, – и не английская… ну, а все-таки газеты читают, и потом общество судит вкривь и вкось…
– Если позволите, ваше превосходительство, я напишу статью, в которой и волки будут сыты и овцы будут целы!
– Именно… именно! – весело проговорил Кривский, ласково поглядывая на своего секретаря, умевшего всегда отлично схватывать суть мнения его превосходительства. – Я бы просил вас об этом, мой милый. Оно не мешает. Пусть говорят…
– Напечатать прикажете в «Синице»?
– Ну, разумеется, в «Синице». «Синица» – солидная, приличная газета и распространена в обществе… Вы отвезите статью к редактору и дайте ему понять, что я желал бы видеть напечатанной вашу статью… Мой старый приятель будет очень рад сделать мне одолжение, тем более что взгляды «Синицы» принципиально не расходятся с моими!..
К «Синице» его превосходительство питал некоторую нежность еще с давних пор, еще тогда, когда Сергей Александрович, после своего заграничного путешествия с целью изучения сокращенных форм делопроизводства, игриво говорил, что «все будет в свое время», и написал несколько статеек в «Русском вестнике». Статейки эти тогда сделали свое дело. Представители высшей администрации получили лично от автора по одному изящно переплетенному экземпляру на веленевой бумаге с просьбою удостоить посильный труд благосклонным вниманием, и не только отнеслись одобрительно к труду автора, но везде говорили, что этот труд обнаруживает замечательные в молодом чиновнике государственные способности. Но не так одобрительно отнеслась к этим статьям журналистика того времени. Их беспощадно изругали, к немалой досаде Сергея Александровича. Хотя он и говорил, презрительно скашивая губы, что «наши литераторы – люди, не имеющие ni foi, ni loi»[14]14
Ни чести, ни совести (франц.).
[Закрыть], тем не менее он написал возражение, сам отвез его к редактору «Синицы» и просил его напечатать, конечно под чужим именем. Опровержение было напечатано с весьма лестным примечанием от редакции, в котором, между прочим, делались комплименты автору статеек и на автора указывалось, как на «одного из желательных деятелей, умеющих совмещать любовь к порядку с горячею любовью к прогрессу отечества». С тех пор Сергей Александрович – да простит господь его авторское самолюбие – всегда был поклонником «Синицы» и находил, что при бедности нашей прессы «Синица» все-таки единственная порядочная газета.
Выслушав от Евгения Николаевича две-три новые сплетни и добродушно посмеявшись над новой остротой, пущенной только вчера насчет одного из почтенных сотоварищей его превосходительства, Кривский стал слушать чтение контрпроекта, сочиненного Евгением Николаевичем.
Записка была написана хорошо, тем строго выдержанным казенным тоном, прелесть которого отлично понимают департаментские литераторы и люди, привыкшие к поэзии сухой, безжизненной, строго стилистической, чиновничьей прозы.
Его превосходительство мерно, словно маятником, одобрительно покачивал головой, слушая, как деликатно и в то же время ехидно разбивался проект графа Захара Ивановича, как некоторые лирические отступления приятно разнообразили сухой перечень статистических исчислений и как в заключение резюмировались последствия благодетельных реформ недавнего времени, а между строк незаметно сквозила поэтическая легенда об исполнителях, начиная с первого и кончая последним. С необыкновенным изяществом составленная на четырех листах министерской бумаги, записка полагала бы «приостановиться, дабы сосредоточиться», но никак «не остановиться и свернуть с пути, как бы свидетельствуя, что пройденный путь не вел ко благу России…» Тихий, вкрадчивый голос Евгения Николаевича точно создан был для выражения всех тайных красот этой канцелярской поэзии: он не читал, а скорее пел, напирая на выражениях, блещущих либо красотой оборота, либо ядовито деликатной шпилькой, запускаемой прямо в сердце неумеренного в своих требованиях графа Захара Ивановича. «Если идти по пути, внушенному, по-видимому, самыми искренними намерениями почтенного автора проекта, то этот путь привел бы к неисчислимым горьким последствиям (которые подробно и перечислялись), но если идти по пути, рекомендованному его превосходительством или, вернее, Евгением Николаевичем, то он вел к такому административному блаженству, что, казалось, оставалось только воскликнуть: „Ныне отпущаеши раба твоего с миром“».
Надо заматореть в канцеляриях, чтобы понять всю прелесть сочинения, прочитанного Никольским со скромным торжеством автора, чувствующего, что слушатель его млеет от восторга…
И действительно, его превосходительство млел. Когда Евгений Николаевич кончил и скромно взглянул на старика, старик подозвал его, обнял и сказал:
– Превосходно… Превосходно… Отдайте переписать… Воображаю, как почувствует себя граф Захар Иванович!.. – весело засмеялся старик. – Ну, а теперь не донимайте больше меня… Записку о народном здравии оставьте и бумаги, какие нужно, – до завтра.
– Два слова только, ваше превосходительство…
– Ну, говорите ваши два слова.
– Я собрал сведения о госпоже Трамбецкой.
– Об этой хорошенькой женщине, у которой изверг муж… Ну что же?..
– Она действительно заслуживает участия. Муж ее беспокойный человек.
– Беспокойный?
– Очень, ваше превосходительство… Он даже несколько раз уволен был из службы…
– Бедная женщина!.. Ну, так напишите письмо о ней, я попрошу за нее. Она такая несчастная…
– Слушаю, ваше превосходительство! – промолвил Никольский, откланиваясь.
– Ну, до свидания. Спасибо, мой милый… Не поздоровится, я думаю, Захару Ивановичу, а? – повторял Кривский, – не поздоровится… – улыбался он, подавая Никольскому руку. – Увидимся сегодня?.. Вы обедаете у нас?
Никольский еще раз поклонился и ушел.
Его превосходительство позвонил и приказал попросить к себе Бориса Сергеевича.
Старику предстояло щекотливое объяснение со старшим сыном.
Борис, по его мнению, готовился сделать опасный шаг, и надо было остановить его. Шаг этот – замышляемая женитьба на дочери Леонтьева, о которой на днях сообщила Кривскому его жена.
VIII
ОТЕЦ И СЫН
Когда Анна Петровна осторожно сообщила мужу, в виде предположения, о возможности женить Бориса на Евдокии Леонтьевой, старик удивленно взглянул на жену, но не сказал ни слова. Только по лицу его пробежала судорога, он весь как-то съежился и с брезгливой миной выслушивал доводы Анны Петровны в пользу брака.
– Борис на виду, но мы, как ты знаешь, ничего не можем ему дать. Леонтьева девушка образованная, приличная… правда, не нашего круга, но Борис получит громадное состояние.
– Она нравится Борису? – прервал Кривский.
В свою очередь и Анна Петровна подняла на мужа глаза, словно бы удивляясь вопросу.
– Я не спрашивала Бориса. Отчего ж не нравиться?.. Леонтьева не хороша, это правда, но далеко не урод. «Странный вопрос! – подумала Анна Петровна. – Сергей Александрович, – вспомнила она, – тоже женился на ней без особенной страсти, а скорей по расчету; однако мы прожили счастливо!..»
С тихой грустью, молчаливо, точно решившись терпеть до конца, продолжал слушать старик защитительную речь Анны Петровны. Она не отрицала «неровности» брака, но объясняла, что излишняя щепетильность в настоящее время является «непростительным предрассудком», что теперь многие роднятся с представителями других сословий и тому подобное.
– Конечно, приятнее было бы найти Борису другую партию, но где же найти миллион приданого?
Тяжело отдавались эти речи в сердце гордого старика, резали своею вульгарностью его слух, но не поражали Кривского. Его превосходительство давно уж замечал в жене, по мере того, как тратилось их состояние, чересчур большую наклонность к уступкам духу времени, некоторую юркость и непростительную снисходительность, доходящую до того, что денежные выскочки появлялись даже изредка в ее гостиной и жали своими плебейскими руками руку его жены, урожденной графини Отрезковой.
Он сразу догадался, что мысль об этом браке – ее мысль, но Борис?
«Неужели и Борис, первенец его, будущий представитель рода Кривских, разделяет взгляды матери и унизится до брака с дочерью вчерашнего целовальника?
Не может быть!..
А если?..» – шепнул тайный голос, и Сергей Александрович покачал головой.
Удивительного ничего нет. Представители порядочного сословия за последнее время на его глазах так часто компрометировали себя и не только неравными браками, а бог знает какими мерзостями, что Сергей Александрович перестал даже изумляться, когда газеты докладывали ему о новом подвиге какого-нибудь шалопая хорошей фамилии.
– Опять?! – шептал только старик, грустно качал головой и повторял: – Что они делают… Что они делают!
Но «они» продолжали делать, и Кривский нередко с грустью останавливал долгий взгляд на любимце своем «Шурке» и не раз говорил ему об обязанностях порядочного молодого человека, просил не делать долгов и не срамить «его седой головы». Шурка слушал с нетерпеливым вниманием школьника, обязанного выслушать урок, и, по выходе из кабинета, конечно, тотчас же забывал отцовские наставления. Весело насвистывая какой-нибудь мотив, он придумывал, где бы занять денег, чтобы ехать в клуб и попробовать, не повезет ли ему сегодня.
За Бориса его превосходительство был спокоен. Строгий, серьезный, рассудительный Борис хорошо шел в служебной карьере; старик иногда мечтал о видном посте для сына. Смущало его только то, что Борис путался в разных частных службах, но приходилось соглашаться с сыном, что «без этого нельзя», так как надо жить, государство платит скудное жалованье, а отец многого давать не может.
Что же касается до второго сына Леонида, то он был далеко на Востоке, где служил по дипломатической части, не отличался особенными способностями, был скромный, трудолюбивый малый, никогда не беспокоил просьбами о высылке денег, редко переписывался и вообще не был особенно близок к семье, так как с молодых лет жил на Востоке.
Когда Анна Петровна истощила весь запас своего красноречия в пользу давно лелеянной ею мысли женить сына на богатой невесте – при этом она имела в виду и интересы дома – и, выжидая ответа от мужа, взглянула на старика, то старик неподвижно сидел в кресле, опустив голову и как бы продолжая еще слушать.
– Какого ты мнения, Сергей Александрович? – спросила жена.
Кривский медленно поднял голову и проговорил:
– Твоя новость не особенно обрадовала меня. Борису Кривекому жениться на дочери целовальника… Это… это уж слишком блестящая партия! – едко усмехнулся Кривский.
– А женитьба графа N на танцовщице?
– Знаю!
– Или князя Z на дочери банкира еврея? А ведь князь Z, ты, кажется, говорил, Рюрикович?
Сергей Александрович не возражал. Анна Петровна, зная характер мужа, не настаивала. Она только «приготовила» его и тихо вышла из кабинета, мимоходом напомнив мужу, что через две недели летний бал у ее светлости и что нужны деньги для туалета дочерей. После бала они уедут в деревню.
Когда старик, освободившись от суеты дня, садился иногда подремать в большом кресле в углу своего кабинета, то нередко перед ним проносилась картина всей прожитой жизни, и он с скептической улыбкой взирал на новые нравы, на новых людей, припоминая старые нравы и старых людей.
«Странно, очень странно! – не раз думал Кривский в такие минуты. – Или я стар становлюсь, или в самом деле традиции ничего не значат… Нынче ими не дорожат, и, пожалуй, я доживу до того времени, когда Леонтьев будет министром торговли!» – улыбался его превосходительство.
Сергей Александрович не был исключительным защитником прав дворянства. Он охотно допускал постепенную ассимиляцию, не прочь был видеть представителей других сословий, заседающих где-нибудь в земском собрании рядом с представителями дворянства, но руководительство, по его мнению, должно всегда оставаться за представителями высшего сословия, как людьми испытанными, оказавшими немало услуг отечеству и наконец опытными и представляющими наиболее гарантий в умении пользоваться властью. Втайне он завидовал английскому лорду, гордящемуся правом стоять с покрытой головой перед королевой, дорожил традициями и находил, что у престола могут стоять только люди хорошей крови. Там, вдали, могут быть и разночинцы, но у источника должен быть цвет государства. А между тем молодые представители этого «цвета» совсем забыли о своем долге, и Сергей Александрович не раз грустно покачивал головой, вспоминая, чем стал этот цвет и чем он был когда-то.
С грустью сознавал он, что «песенка спета» вместе с крестьянской реформой, то есть и не совсем спета, но, во всяком случае, поется лебединая песнь, и какой-то пришлый, безвкусный элемент назойливо лезет в глаза, вкрадывается в гостиные, в суд, толкается в приемных, давит роскошью обедневшего современного дворянина в городе, соседится в деревне и дробит те уже немногие большие гнезда, где царит запустение и мрачно стоят одинокие, осиротелые усадьбы.
Аристократическую натуру Сергея Александровича резали и нагло улыбающиеся довольные лица, и манеры, и слишком ярко убранные гостиные, и слишком яркие костюмы всех этих представителей нового элемента, и он не без грусти наблюдал, как более и более выдвигалась эта сила, сила денег, с какой почтительной фамильярностью держала она себя в кабинете у самого его превосходительства, как бы давая знать своими довольными плебейскими лицами, что и над ними восходит солнышко, что с ними надо считаться, надо выслушивать их и… и не брезгать пожатием потной грубой руки, которая может швырнуть сотню, другую тысяч, чтобы дать возможность «жить» представителям высших интересов…
Биография Леонтьева слишком пахла еще кабаком, чтобы из нее можно было сделать нечто приличное. Не далее, как пятнадцать лет тому назад его превосходительство в первый раз увидел Савву Лукича у себя в передней с просьбою в руках, отвешивающего его превосходительству низкие поклоны. Тогда это был известный плут, содержатель двух кабаков в городе В., где его превосходительство был особой.
В то время его превосходительство брезгливо взял просьбу, как бы боясь прикоснуться к красной, вспотевшей, жилистой руке черноволосого высокого мужика, и вдруг теперь у жены является предположение женить на его дочери Бориса Кривского… Кривского, потомка старинной дворянской фамилии!..
Это что-то неправдоподобное, невозможное, что-то сказочное!
Но однако ж, этот мужик теперь en vogue[15]15
В чести (франц.).
[Закрыть]. С ним ласковы во всех канцеляриях. Ему жмут руки разные особы… Не сегодня-завтра его, чего доброго, произведут в действительные статские советники… его, целовальника, в действительные статские советники! «Бывший мужик Савва», – припоминал Кривский, – которого не раз сажали в полицию за буйство в пьяном виде и раз даже посекли там, теперь сделался Саввой Лукичом, у которого, если верить молве, пятьсот тысяч дохода… В раззолоченном его кабинете толпится разный сброд, между которым, однако, блестят генеральские эполеты, потешает остротами обнищавший потомок Рюриковича и почтительно выслушивает приказания молодой статский советник, бывший правовед, оставивший блестящую карьеру для службы у Саввы Лукича, раздающего своим служащим министерские жалованья… Какое министерские – больше!.. «Правовед», говорят, получает у него тридцать тысяч в год! У этого смелого «мужика», точно гордящегося тем, что он – «посконный мужик», обедают важные лица; недавно еще Савва Лукич принимал на своей богатой даче проезжавшего мимо известного князя X., и князь благосклонно принял обед и был в восторге от роскоши сервировки, обеда и вин, от здравого смысла этого, как князь выразился, «умного русского мужика»…
Год тому назад, – припомнил его превосходительство, – Леонтьев во фраке и белом галстухе, с Владимиром в петлице и со звездою Льва и Солнца стоял в приемной зале его превосходительства и, не так кланяясь, как пятнадцать лет тому назад, просил уже только «содействия». Когда Сергей Александрович припомнил Леонтьеву, что знавал его прежде, хитрый мужик не только не смутился, а, напротив, точно обрадовался и, весело ухмыляясь, так и брякнул:
– И я очень хорошо помню, как ваше превосходительство, в бытность вашу в В., учили меня, мужика, уму-разуму… Разок даже отечески изволили приказать полициймейстеру посечь меня за безобразия… Как-с не помнить? – прибавил, низко кланяясь, Савва Лукич.
Сергей Александрович даже смутился тогда от этой простодушной выходки мужика со звездой Льва и Солнца на груди и поневоле отнесся с фамильярной ласковостью к этому чудаку и обещал ему «содействие»…
«Теперь этот мужик не прочь и породниться с нами! – усмехнулся Сергей Александрович. – С Кривскими!!»
Сергей Александрович дорожил своей родословной. Предки его происходили из старинного литовского рода. При царе Иване Третьем Васильевиче один из них перешел на службу к московскому государю.
Хотя, как свидетельствует хроника, бояре Кривские были близки ко двору и не раз «удостоивались батога» из собственных рук грозного царя, не раз бывали биты Борисом, а борода одного из Кривских была припечатана к столу не в меру подкутившим Лжедмитрием, но все-таки Кривские больших отчин не имели и оставались худородными боярами. При Петре один из Кривских был казнен за близость к Софии и участие в стрелецком бунте, и род Кривских постепенно худал.
Только при Екатерине Второй Кривским чуть было не выпало счастие. Прадед его превосходительства, секунд-майор Кривский, был на пороге к случаю. Молодого, красивого, но робкого секунд-майора заметил сам Потемкин и обратил на него особенное благосклонное внимание и приблизил к себе. Секунд-майора что-то очень скоро произвели в полковники, Потемкин сделал его своим генеральс-адъютантом и готовил ему блестящую судьбу, но робость сгубила застенчивого молодого человека. По какой-то комической случайности, где молодой Кривский растерялся совсем, он внезапно был выслан Потемкиным в свою деревеньку, и только через несколько лет полковнику прислали в подарок патент на звание бригадира и благодаря Потемкину дали ему триста душ.
Несмотря на внезапную ссылку, бригадир до глубокой старости сохранил благоговение к екатерининскому времени и охотно рассказывал досадный анекдот о своей робости, лишившей его великих и богатых милостей Потемкина.
Дед Сергея Александровича, если не придал блеска фамилии Кривских, то взамен того приобрел громадное состояние, занимая при графе Каменском в турецкую войну видную должность по провиантмейстерской части. Человек смелый и решительный, он через короткое время приобрел такие громадные богатства (рассказывали, что он под видом винограда пересылал в деревню бочонки с золотом), что смелость эта обратила на себя всеобщее внимание и дошла до слуха императора Александра Первого.
Провиантмейстеру приказано было «скрыться с глаз», и, как гласит семейное предание, император Александр, узнав подробности грандиозных злоупотреблений, изволил прослезиться и выразить надежду, что «сей корыстолюбивый россиянин, унизив себя беспримерным поступком, умрет от позора», и на предложение отобрать похищенное только брезгливо изволил замахать рукой.
Однако «корыстолюбивый россиянин», хотя и удалился в деревню, но не только не умер от позора, а напротив, сделавшись богатейшим помещиком Т. губернии, задавал такие пиры, легенды о которых сохранились и доныне. Впоследствии он благодаря графу Аракчееву призван был снова к делам и умер наверху почестей, оставив громаднейшее состояние единственному своему сыну.
Отец его превосходительства, воспитанный якобинцем-гувернером, чуть было не пострадал за свои взгляды, рано вышел в отставку и уехал за границу. Он вел там безумно роскошную жизнь, путешествовал, вел блестящие знакомства, женился на бедной русской княжне, скоро услал ее в Россию и, убитый каким-то французом на дуэли из-за пустяков, оставил сыну своему, тогда блестящему молодому офицеру, более чем скромное наследство.
Сергей Александрович тотчас же оставил военную службу и перешел в гражданскую. После крестьянской реформы, как знает читатель, Кривский выдвинулся.
«Нет, этому браку не бывать!» – еще раз решил Кривский, пожимая руку Борису Сергеевичу и приглашая его сесть.
Первенец его превосходительства, высокий стройный красивый господин, которому можно было дать от тридцати до тридцати пяти лет, поражал своим удивительным сходством с отцом.
У сына были те же красивые черты лица, та же безукоризненная английская складка, такой же тихий голос с мягкими нотами и умный, серьезный взгляд, с тою только разницею, что в сосредоточенном взгляде небольших серых глаз Бориса Сергеевича ярче блестела жизнь, и в нем не было того скептического выражения, которое нередко проглядывало в усталом взоре его превосходительства.
Сергей Александрович сдержанно любовался сыном, окидывая мягким, довольным взглядом джентльменскую, изящную фигуру в безукоризненном костюме темного цвета. Во всем, начиная с прически с пробором сбоку, с английских бакенбард каштанового цвета и кончая носком сапога, проглядывала порядочность и тот солидный, хороший тон, который, не имея ничего общего с бьющим в глаза хлыщеватым видом петербургских кокодесов[16]16
Франтов (от франц. cocodès).
[Закрыть], так идет к молодым солидным чиновникам на виду, рассчитывающим на блестящую карьеру.








