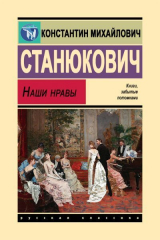
Текст книги "Наши нравы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
XIX
ЭПИЛОГ
Прошел год.
Прелестное весеннее утро занялось над роскошным уголком южной Швейцарии, живописно ютившимся у лазурных вод Лемана, под защитой нависших над ним островерхих пушистых альпийских отрогов.
Среди торжественной тишины и безмолвия распускавшегося утра, в одном из балконов отеля тихо скрипнули двери, и на балкон вышел в сером полухалате его превосходительство, Сергей Александрович Кривский.
Полной грудью вдыхал высокий старик чудный горный воздух, полный острой свежести и аромата, невольно любуясь с высоты балкона открывшейся перед ним картиной, ласкающей взор.
Длинными переливами всех цветов радуги сверкали перед ним горы. Под лучами подымавшегося солнца ослепительным блеском сияли белоснежные макушки высоких альпийских «зубов», и между ними Dent de Midi[41]41
Южный пик (франц.).
[Закрыть] сиял как-то особенно торжественно и ярко, прикрытый наполовину медленно ползущим вверх бело-молочным облаком. Внизу, на склоне, лепился Монтре, а далее, еще ниже, среди яркой молодой листвы высоких тополей, акаций, платанов и лавров, прорезываемой темной зеленью кипарисов, по голубому фону озера тянулась белая лента домов, гостиниц, пансионов и вилл, заканчиваясь темным пятном мрачного Шильона, купавшегося в воде. Гладь озера казалась сверху восхитительной голубой дымкой, нежно лизавшей высокие отвесные подножия гор противуположного берега, который в прозрачной атмосфере казался совсем близким…
Было как-то торжественно тихо и безмолвно.
Его превосходительство задумчиво любовался утром и долго не мог оторваться. Со всех сторон открывались новые виды, и глаз невольно приковывался к мягким сочетаниям всевозможных цветов, являвшихся под золотистыми лучами ослепительного солнца, сверкающего на высоком лазурном небосклоне.
Старик наконец ушел с балкона и, по обыкновению, присел к столу оканчивать новую меморию[42]42
Записку (от лат. memoria – запись для памяти).
[Закрыть], которую его превосходительство писал для спасения России.
На чужбине, вдали от родины, его превосходительству еще яснее представилось, что Россия идет к неминуемой гибели, и он все еще про себя таил надежду получить от его светлости короткую телеграмму: «Приезжайте немедленно!» Время было горячее. Подымался призрак Восточной войны… Нужны опытные, дальновидные люди, способные подать совет, а он, он, как Прометей, прикован к Альпам, всеми забытый, переживавший тяжелое личное горе, угрюмый, желчный, с замиранием сердца читавший новые назначения, появлявшиеся в «Journal de S.-Petersbourg».
Здесь, под чудным небом, старик еще более почувствовал свое сиротство. Он сердился и скорбел, что его не призывают. Один намек, и он снова готов служить отечеству. Но намеков не было, и старик, несмотря на то, что к запискам его относились с невниманием, все-таки несколько недель тому назад послал в Петербург длинную записку для представления его сиятельству. Записку эту он писал при письме к своему приятелю, князю Z, в котором просил князя разузнать, «как дует в Петербурге ветер». В этом письме его превосходительство, между прочим, писал, что «время, которое мы переживаем, чревато последствиями и государственным людям надо быть настороже, дабы не быть поставлену в крайность. Нужно действовать очень осторожно и, во всяком случае, не распускать вожжи под влиянием патриотического одушевления, так как, в противном случае, обстоятельства могут привести к последствиям, весьма для близоруких людей неожиданным».
Под влиянием событий перед сербско-турецкой войной старик думал, что Россия пойдет по пути слишком быстрых перемен, и счел долгом предупредить, объясняя не без дальновидности, что «освобождение народов весьма обоюдоострая затея, требующая искусных кормчих для урегулирования возбужденных надежд».
Князь Z успокоивал старика и писал, чтобы его превосходительство не предавался опасениям. Хотя «освобождение» и решено, но оно вовсе не будет иметь тех влияющих последствий, на которые указывает его превосходительство. Все останется по-старому. Что же касается до записки, то она, при посредстве «известной особы», была передана его светлости, но, к сожалению, еще не прочитана. Впрочем, его светлость изволил вспомнить о Сергее Александровиче и в самых милостивых выражениях справлялся несколько раз о его здоровье…
Горькая усмешка пробежала по его лицу, когда он прочитывал ответ.
«Бедная Россия!» – опять вздохнул он и в тот же день после обеда, в обществе таких же двух отставных стариков, как и он, прусского графа фон Вельца и английского лорда Брута, его превосходительство особенно горячо беседовал по вопросам внутренней политики.
Названные лица: прямой как палка, высокий неуклюжий граф Вельц, бывший министр, вздрагивавший при имени Бисмарка, и добродушный краснощекий старик лорд, недовольный Биконсфильдом, составляли единственное общество, в котором часа два в день его превосходительство коротал свое время. Ни с кем больше он не знакомился, а русский язык какого-нибудь соотечественника заставлял его пугливо сторониться.
Целый год уже прожил старик в одиночестве, изредка получая письма от дочерей. Ни с женой, ни с Борисом он не переписывался и, узнав о разводе его, порадовался за Евдокию. О Шурке старался не думать и гнал от себя мысли о нем, невольно закрадывавшиеся в голову.
Последние события наложили на его превосходительство свою печать. Он одряхлел, совсем поседел и почти никогда не улыбался. Всегда безукоризненно одетый, с спустившимся на лоб локоном, несколько надменный и брезгливый, его превосходительство входил за общий стол и садился между графом и лордом, обменивался с ними отрывистыми фразами за обедом о погоде, и только после обеда, когда три старика могли оставаться одни, они иногда вступали в разговор, причем прусский граф говорил о погибели Пруссии, лорд о мерзостях Биконсфильда, а его превосходительство с сожалением говорил, что в России нет опытных и дальновидных администраторов.
У всех у троих была сильно увеличена печень и, усевшись в отдалении от всех, они нередко изливали друг перед другом жалобы за чашкою кофе на террасе…
Затем раскланивались, и каждый из них шел в одиночку на прогулку в горы, продолжая скорбеть о своем отечестве.
На другой день повторялось то же самое.
А дни, как нарочно, тянулись долго в однообразии прогулок, завтраков, обедов и критики внутренней и внешней политики.
Его превосходительство, хоть и убивал остающееся время сочинением записок и чтением газет, но все-таки тосковал…
В крайнем случае, он не отказался бы от дипломатической должности, размышлял не раз старик.
Но с севера никаких утешительных вестей не приходило.
Напротив, газеты приносили всё неприятные известия. Его заместитель, «выскочка» и «проходимец», как называл Сергей Александрович господина Стрелкова, отличался и преуспевал, обнаруживая самую недюжинную энергию в порученном ему управлении. Его приказы по департаменту были категоричны и коротки. Реформы, предпринятые им, тотчас же по вступлении в должность после Кривского, имели целью, как объясняли пояснительные циркуляры, «поднять дух учреждения». Замечательные слова, сказанные им при ревизии чиновникам, возбуждали восторг. Он сказал коротко, но ясно: «Господа, помните, что я не обладаю слабыми нервами, а потому советую быть на высоте положения. Теперь время, когда истинные слуги отечества должны быть с железными нервами. Так знайте, что у меня железные нервы!»
Эти «железные нервы», напомнив почему-то Бисмарка, произвели сильное впечатление, как писали его превосходительству, и репутация Стрелкова сильно поднялась после этой речи. Про него говорили, как про человека делового и энергичного…
Кривский только морщился, прочитывая эти известия, и повторял:
– Бедная Россия!
После завтрака его превосходительство, по обыкновению, обменялся с графом и лордом мнениями по поводу превосходной погоды и пошел гулять… Вернувшись с прогулки – он нарочно тянул ее как можно долее, – он нашел у себя на столе газеты и тотчас же стал пробегать правительственные известия.
«Вот как! – ядовито усмехнулся он. – И этот господин назначен администрировать!»
При воспоминании об этом «господине» (старик прочел о назначении Евгения Николаевича Никольского) облако тяжелого воспоминания легло на лицо Кривского. Заглохнувшая было обида острой болью кольнула его в сердце… Из груди его вырвался вздох при мысли о жене…
Он стал читать далее. Сегодня, как нарочно, газеты напоминали ему людей, которых бы он хотел забыть. Стрелков получил новую почетную награду, его личный враг, князь Вяткин, старик, по мнению Сергея Александровича, годный только для пугания детей, призван к делам.
«Что они делают! Что они делают!»
Но вот Сергей Александрович переворачивает страницу и читает реляцию о каком-то деле на далекой окраине. Ему попадается на глаза имя Кривского, и в глазах старика мелькает удовольствие. Он читает о личной храбрости сына, о том, как храбро Шурка врезался в скопище и способствовал окончательному поражению. Шурка являлся героем дня. Блестящие награды вознаградили подвиг.
Старик как-то весь размяк и еще раз стал читать длинную реляцию.
– Молодец, молодец! – повторил он и когда кончил, то вытер невольно навернувшиеся слезы.
Наступил август месяц. Прелестный уголок оживился. Множество больных и здоровых стекалось к этим благодатным местам. На улицах замелькали новые лица. Нередко раздавалась русская речь.
Однажды его превосходительство, свершая послеобеденную прогулку, далеко забрел в горы и, спустившись к Шильону, тихо шел по дороге к Монтре. Навстречу ему тихо подвигались два всадника.
Взрывы веселого хохота и обрывки русских фраз заставили Кривского поднять голову.
Его поразил этот смех. Что-то знакомое, близкое послышалось в звуках громкого голоса.
Он пристально взглянул на всадников, прищуриваясь под светом заходящего солнца, опять взглянул, и вдруг сердце его забилось сильней, ноги задрожали.
В блестящем, румяном, смеющемся молодом человеке он узнал Шуру, а в амазонке, ехавшей рядом, «прелестную малютку», Валентину.
Они ехали шагом, тихо подвигаясь навстречу, красивые, веселые и сияющие.
Старик остановился, отвернувшись к озеру.
Всадники проезжали мимо.
– Ну, Шурка, довольно говорить глупости! – громко смеясь, проговорила Валентина. – Догоняй!
Всадники поскакали.
Старик взглянул им вслед и, ниже опустив голову, тихо побрел по дороге.
– Что за прелестная парочка! – воскликнул по-русски один из двоих господ, обгонявших старика.
– Вы разве не знаете их? – смеясь ответил другой.
– Кто такие?
– Русские: Шурка Кривский и известная кокотка Трамбецкая.
– Кривский, недавно отличившийся?
– Да. Известный Шурка Кривский. Тот самый, который, как говорят, украл деньги у Гуляева. Помните дело Трамбецкого?
– Не может быть!
– Говорят. Разумеется, дело замяли благодаря отцу, и Шурка уехал внезапно в Ташкент. Недавно опять вернулся героем и сделался артюром у Трамбецкой. Она влюбилась в него как кошка, бросила своего старика и с Шуркой уехала за границу. Я их встретил месяц тому назад в Париже. Они вели безумную жизнь…
– Хорош гусь. А где отец?
– Где-то злобствует за границей.
Старик пошел еще тише. С трудом поднялся он в гостиницу и в тот же вечер приказал себе подать счет.
Рано утром на другой день он уехал из Монтре в Северную Швейцарию и поселился в одном из малопосещаемых туристами местечек.
Зимой он переехал в Палермо и там, одинокий, угрюмый и недовольный, все еще имел надежду, что его призовут спасать Россию, но его не призывали, так как и без его превосходительства было кому спасать отечество.
Зимние томительные сумерки спустились над маленьким захолустным городком пустынного дальнего Севера…
В это время старая наша знакомая Прасковья Ивановна торопливо шла по безлюдной улице с почты, неся в руках пачку газет. Она дошла до края города, где приютился маленький домик, отворила двери и весело крикнула:
– Газеты принесла!
Из соседней комнаты выскочили Никольский и Коля. Они помогли старушке раздеться, и через несколько минут вся компания сидела за столом.
Петр Николаевич читал вслух. Прасковья Ивановна и Коля внимательно слушали. Но вдруг Никольский остановился. Прасковья Ивановна взглянула на племянника. Лицо его начинало подергиваться мелкими судорогами, углы рта опустились книзу, брови приподнялись, и страдание исказило его черты…
– Петя… Что такое… Что с тобой?.. – испуганно произнесла она.
Но он не отвечал и молча кивнул на газету.
Прасковья Ивановна взяла номер и медленно прочитала следующее известие:
«В Н… госпитале скончалась от госпитального тифа сестра милосердия Евдокия Саввишна Леонтьева. Это была одна из тех самоотверженных женщин, которых нельзя вспомнить без благоговения».
Прасковья Ивановна не могла окончить. Слезы душили ее.
– Бедняжка… Она таки сдержала свое слово!.. – проговорила старушка.
Никольский вышел из дому и долго бродил по улицам… Поздно вернулся он, присел к столу и стал перечитывать письма покойной…
– Зачем я отсоветывал ей ехать сюда… Зачем? – повторял он в каком-то безумном отчаянии. – А она так хотела!.. Зачем я скрывал от нее свою горячую любовь?.. К чему?.. – шептал он, ломая руки.
Никольский опустил голову и тихо заплакал, покрывая поцелуями письма женщины, так рано погибшей..
Когда весть о смерти Евдокии дошла до Саввы, то горю его не было границ. Он тотчас же поехал в Сербию и перевез прах своей любимицы в Россию… Долго еще не мог забыть он своей Дуни, и в память ее выстроил церковь в том городе, где родилась Евдокия. На украшение церкви он потратил сумасшедшие деньги. Он не жалел их, тем более что в виду у него было новое предприятие, при помощи которого он собирался, по его выражению, «огреть казну».
Старуха бабушка, известившись о смерти внучки, сказала Савве своим пророческим голосом:
– Это она за твои грехи крест приняла, голубушка! Теперь есть у тебя, недостойного, предстательница перед господом… Опомнись же, Савва… Подумай о боге! Брось все дела, перестань людей грабить! – сурово предостерегала старушка.
В первые минуты отчаяния и горя Савва обещал было матери «бросить все».
Но разве деятельная его натура могла успокоиться?
Савва снова работал над какой-нибудь новой, особенно остроумной комбинацией, снова беседовал по душе с Егором Фомичом, с писарьками и с генералами, снова выискивал разных «дамочек» или утирал нос Хрисашке, вырывая у него из-под носа новый кус с алчностью ненасытного волка, пользуясь общим почетом и уважением.








