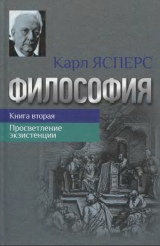
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
во-вторых, реального требования действительности существования в форме государства и общества;
в-третьих, требования, настаивающего на принятии нами переданного в традиции содержания и тем самым образующего, в форме знаемости (Wißbarkeit): объективность человека распространяется, становясь историей, в которой целокупность человеческого существования между началом и концом, насколько она доступна, изучается, насколько недоступна – вымышляется: и она же уплотняется как становление-образом (Bildwerdung): личное величие наглядно являет нам в человеческом образе, чем являются государство, религия и культура в их никак иначе не доступной для нас основе. В обоих этих случаях знаемое содержание, относящееся к бытию человека, становится возможностью для знающей его экзистенции.
Требование долженствования
Я не действую разумно, если действую слепо и случайно. Проясняя себе, чего я хочу и какой путь к цели я выбираю, я привожу свою деятельность во взаимосвязь: выбирая средства, подходящие для достижения еще несомненной цели, и задавая вопросы самой цели. Я ищу для своей деятельности задающей направление объективности как долженствования. Но в этом вопрошании я прихожу к нескончаемому. Ибо никакая цель не является для знания в мире конечной целью, всякая цель вновь подлежит вопросу: зачем?
В своей деятельности я сознаю, что действую правильно, если мои действия отличаются всеобщей предсказуемостью и если я знаю, что моя деятельность определена неким всеобщим законом как правильным. Там, где предполагается некая цель, эти средства правильны, а другие – неверны; долженствование соотносительно с целью. Но если я задаю вопрос самой цели, которая не есть уже средство, то она может или потонуть в ничто, или же она должна быть абсолютной: с этой последней целью для меня сопряжено безусловное долженствование, которым я сознаю себя обязанным во времени и в вечности. Я действую как подлинная самость {als eigentlich ich selbst), не потому что мне так нравится, но потому что я сознаю: я делаю навеки правое (das Bewußtsein habe, das Rechte für immer zu tun). Деятельность по произволу нарушает покой моей совести и губит силу моего бытия: я становлюсь насильственно порывистым или колеблющимся и неопределенным. Действуя так, потому что это справедливо, я обретаю сознание того, что я должен действовать так, потому что обязан так действовать (Handeln, weil es so recht ist, gibt mir das Bewußtsein, daß ich so handeln muß, weil ich so handeln soll). Необходимость, возникшая из экзистенции, говорит в моей совести как долженствование, если ее содержание получает объективное выражение.
1. Объективное и экзистенциальное долженствование.
– Если долженствование есть преднайденный мною мир этически значимых законов деятельности, с которыми я должен считаться, то это – чистая объективность. Экзистенциальное долженствование существует в форме усвоения субъективностью, которая противопоставляет себе то, чем она определяется, как объективное. Будет ли признано объективное долженствование – подлежит еще решению экзистенции, исходя из которой закон долженствования принимается в этом историчном положении как выражение ее воления, так что субъективность знает себя как определенную долженствованием из истока необходимости (Ob das objektive Sollen Anerkennung findet, ist noch Entscheidung der Existenz, von der aus das Gesetz des Sollens in dieser geschichtlichen Lage als Ausdruck ihres Wol-lens ergriffen wird, so daß die Subjektivität sich bestimmt weiß durch ein Sollen aus dem Ursprung des Müssens). Как возможная экзистенция я получаю через долженствование ясность и решительность в своей субъективности, потому что, когда я слышу, что ко мне обращается долженствование, в этом призыве меня касается существенность. Я как субъект бываю спокоен, если следую, беспокоен, если не соглашаюсь, восторжен, если фактически нахожусь в созвучии с долженствованием. Но как возможная экзистенция я наделен также силой сопротивляться всякому объективно фиксированному, высказанному в виде закона долженствованию, если оно достигает меня не так, как то долженствование, которое я сам для себя есмь. Экзистировать – значит требовать объективности и признавать ее, но мириться с этой объективностью как налично данной не иначе, как только если она есть истинное выражение экзистенциального пути для этой субъективности.
Если экзистенциальная истина заключается в свободной деятельности, которая есть не принуждение чем-то чуждым, но единство нашей собственной воли с непреклонностью услышанного долженствования (Ist existentielle Wahrheit in dem freien Handeln, das nicht Zwang durch ein Fremdes, sondern Einheit des eigenen Willens mit der Unerbittlichkeit des gehörten Sollens ist), – значит, то, что в качестве этой истины уже не постигается всеобщим образом, должно поначалу оставаться недоступным для мысли. Если за это единство принимается делящий рассудок, то его истина необходимо должна рассеяться, как если бы ее вовсе не было. Тогда долженствование согласно всеобщезначимому закону отделяется от воли как произвола, а единство становится лишь неохотным повиновением (widerstrebendes Gehorsam) одного другому. Эти три разделенных способа существования: фиксированный закон, произвол и повиновение в противлении – уже представляют собой как таковые уклонения экзистенции:
Закон как чистая объективность становится мертвым механизмом. Как внешнее принуждение веления он требует слепого подчинения. То, что было необходимостью, которую возможная экзистенция слышала как свое подлинное самобытие и которая объективировалась в долженствовании, становится неподвижной внешностью. Восхождение к самобытию становится насильственно принуждающей волей к пустой необходимости порядка и формы.
Произвол есть своеволие, возникающее не из необходимости влекущегося к объективности экзистирования, но из витальности одного лишь существования. Он пользуется объективностями долженствования и так же точно отвергает их, всякий раз софистически обосновывая свои произвольные цели.
Повиновение в противлении следует долженствованию, как чему-то чуждому. Существование, в котором возможная экзистенция не слышит себя и не находит себе пути, и все же неопределенно чует (spürt) себя, ищет подчинения, как спасения.
Против мертвого закона восстает экзистенция, в ее никогда не фиксируемых с неизменностью возможностях; против нужды и крайности хаотического произвола – пафос закона; против повиновения – пробуждение самобытия.
Но произвол и повиновение находят друг друга, как в своей противоположности друг другу родственные. Они знают объективность закона не как свою, но как чуждую объективность. Не только произвол становится софистом; повиновение тоже старается в среде объективности нагнуть и приладить по себе то объективное, которому повинуется. Ибо в чисто объективном возможна нескончаемость рефлексии, подвергающая все сомнению, потому что никакая объективность еще не является абсолютной как фиксированная и навсегда значимой, и всякая объективность есть отдельная (eine vereinzelte) объективность. Напротив: в изолированной объективности этические веления, которые по большей части суть запреты, предстают двусмысленными.
2. Пример: «не лги».
- Каждый не только соглашается с положением «не лги», но каждый внутренне чувствует, что в этом законе с ним говорит истина. Но он тут же, принимаясь аргументировать объективно, делает и ограничения: вынужденная ложь, говорит он, дозволена, если к ней нельзя не прибегнуть в интересе другого, например, чтобы спасти ему жизнь (Aber alsbald macht er auch Einschränkungen in objektiven Argumentationen: Notlügen seien erlaubt, wenn sie unentbehrlich im Interesse des Anderen, z.B. um ihm das Leben zu retten, geschehen). Ложь во имя отечества не только дозволена, но в конкретном случае и требуется. Абсолютно всегда высказывать всю правду безнравственно (Schlechthin immer die Wahrheit heraussagen, ist unsittlich). Мы не только имеем право молчать, но там, где молчание само есть речь, мы прямо и непосредственно должны говорить неправду (das Unwahre), если этого требует высший интерес.
Обо всех подобного рода объективных ограничениях запрета и оправданиях лжи следует сказать, что эти обоснования никогда по-настоящему не убеждают. Тот, кто однажды проникся в душе возможностью говорить исключительно только правду, всегда станет остерегаться этих обоснований, приспосабливающихся к действительности и вводящих в заблуждение относительно истока долженствования. Ибо кто решает, требует ли от нас лжи благо отечества, или жизнь другого человека, – кто решает, таков ли способ экзистенции отечества и жизни другого, чтобы ради них вообще возможно было требовать отказа от правдивости? Если я высказываю суждение, что есть-де такие случаи, когда мне позволено лгать, то никто уже не знает с достоверностью, не считаю ли я, что по отношению к нему для меня настал такой случай; надежная уверенность в ожидании истины совершенно прекращается. Если я лгу, то в то же мгновение я потерял перед самим собою то достоинство, которое присуще мне, если я всегда говорю только то, что считаю истинным. Я покорился силе, которая смогла принудить меня ко лжи. Поэтому философы с абсолютным радикализмом запрещали всякую ложь: ложь как действие есть, говорили они, противоречие в самом себе и отменяет всякую нравственность.
Если я лгу, то оправдать этого я не могу. Попытка привести в форму объективности то, что я сделал, солгав (was ich mit der Lüge getan habe), хотя и может обсуждать и углублять то, что действительно было, но не может вывести отсюда никакого закона. Напротив, закон «не лги» как всеобщий закон неизбежно остается в силе. Вопрос только в том, может ли быть такая истинная, экзистенциальная деятельность, которую бы мы постигали как истинную не из всеобщего закона, и которая поэтому не могла бы быть высказана в своей подлинности, а значит, не становилась бы образцом (Vorbild). Этот вопрос должен остаться нерешенным. Объективно на него можно ответить только отрицательно. Но ведь этот вопрос хочет не объективно знать, а только бросить взгляд на экзистирование, которое, в субъективности и объективности, двигаясь в них обеих, не может адекватно обнаружиться в явлении ни в той, ни в другой, и, однако, совершается для себя в достоверности долженствования так, что остается недоступным для обобщений. Здесь можно только обсуждать, окончательно не определяя:
Абсолютно открытого, всегда правдивого человека, – если только он не окажется в благоприятных и преходящих условиях жизни в материально обеспеченном положении, – другие непременно погубят. Он не может рассчитывать на то, что ему будут отвечать тем же. Поэтому есть существенное различие, отвечает ли мне другой, когда я обращаюсь к нему с правдивым словом, в коммуникации на том же уровне в том же умонастроении, или же он противостоит мне, как «природа», в решающем отношении как нечто чуждое. Даже самый правдивый не постесняется использовать обман и хитрость, скажем, в отношении опасных животных. Если человек встречает меня в невысказанной и наполовину неосознанной позиции homo homini lupus, то в столкновении с ним, как и со зверем, я пропаду, если только не буду предусмотрителен и вступлю в борьбу с ним. Если же человек встречает меня как возможная экзистенция, обращающаяся как его самость к моей самости, тогда, даже при крайнем несовершенстве и постоянных уклонениях, ситуация оказывается в принципе иной: я могу положиться на разум и возможную экзистенцию другого в той мере, в какой я их сам, – то есть безусловно, не в смысле предсказуемости, а в смысле возможности взаимных корректировок из истинной готовности.
У нас есть возможность для существования в абсолютной правдивости под угрозой – или даже при достоверности – надвигающейся гибели, как всегда же есть и возможно святое существование, которое, если не идет на компромиссы, всякий раз может только погибнуть. С существованием, которое сохраняет себя, сопряжено неотменимое сознание вины. Единственно лишь в этом одном заключается основание робости, мешающей нам высказывать столь дешевые правила, как «не лги», в качестве абсолютных требований. Именно тот, кто не задумываясь произносит их, кто, может быть, с назойливым расчетом на сенсацию поступает согласно этим правилам, тот обыкновенно и бывает самым закоренелым лжецом, и это тем более бросается в глаза, если поза выставляемой напоказ правдивости и излишней резкости манер говорит, казалось бы, обратное.
Абсолютная правдивость экзистенции как раз с объективной стороны, т.е. одними только внешними действиями, и не может быть охарактеризована. Тот, кто не желает ни в чем лгать объективно, пособляет себе нескончаемыми софизмами и оправданиями, заявлениями и ссылками на забывчивость, и умолчанием, которое он подобно туману раскидывает над всем своим существованием. Кто же поистине не хочет лгать ни в чем, не допускает подобной дымки. Он с радикальной непреклонностью углубляется в свое существование, с сознанием, что первая и последняя задача его – никогда не лгать самому себе, никогда не лгать своему другу. Здесь – корень и основа всякой правдивости, ее соблюдение требуется абсолютно. Но это требование правдивости, именно по его же собственной мерке, ослабевает там, где не совершается коммуникация: в отношении вполне враждебного мне существования я применяю хитрость, в отношении просто знакомых, поверхностно мной встречаемых людей – молчание, в отношении многих – обычную в обиходе полуправду на началах взаимности. Правдивость требует признать, как факт, что люди повсюду лгут. Правдивость требует считать возможным, что ложь может быть истинным действием в известных ситуациях, не становясь оттого, однако, правдой как объективно значимым законом.
Но это будут только временные подспорья, если мы станем различать: принадлежащие к моему кругу люди (zu mir Gehörige) -и масса с ее слабостью, инстинктивностью, неверностью. Различие внутренней и внешней морали есть эмпирически-социологическая фактичность; оно становится вспомогательным доводом там, где гибель некоторой экзистенциально внутренне связанной группы нежелательна, и где поэтому правдивость любой ценой представляется неистинной, как безмирная негативность. Всегда остается в силе требование, выражающееся в том, что каждое человеческое существование, как разумное существо и возможная экзистенция может измениться, может вступить в другое отношение со мной, может даже стать другом. Человек предстоит человеку с неотменимым притязанием на взаимность. Даже если кто-то, любезно встречая меня, говорит мне лестное, но в то же самое время отрицает меня перед другими и всегда между делом работает против меня, если он, задавая на первый взгляд случайные вопросы, вытягивает из меня то, что он хочет знать, меня же оставляет в полной неясности о своих действиях и желаниях, все же я никогда не могу окончательно подвести черту, сказав себе: дело обстоит вот так-то. Но там, где есть человек, все остается возможно, лишь в ситуации может стать необходимым конкретный образ действий, становящийся нашей виной и все же являющийся истиной для временного существования в мире.
3. Этические положения и правовые положения.
- Законы долженствования, которые, подобно положению «не лги», значимы всеобщим образом как объективные, высказываемые законы, в своей объективной изоляции не являются уже чисто этическими законами; они как таковые получают характер правовых положений. Как правовые положения они словно бы механичны и мертвы, они говорят всегда одно и то же и, если им следуют, означают предсказуемость деятельности. Они кажутся значимыми абсолютно. Этим положениям в их значимости недостает только принудительной власти, присущей правовым положениям, если они составляют фактическое право. Этические положения поэтому отнюдь не однозначны: под эти положения мы не можем с простой прямолинейностью рационально подводить случаи. Они нуждаются в толковании, не только при помощи объективных соображений как правовые положения, но откликом преобразующей, из своей свободы, субъективности. Итак, не будучи ни действительны, ни недействительны, а скорее непредсказуемы, они, тем не менее, достоверны в своем содержании, которое нужно еще пробудить обращением (Sie bedürfen der Deutung, nicht nur wie die Rechtsätze durch objektive Erwägungen, sondern durch den Widerhall der aus Freiheit verwandelnden Subjektivität. So weder gültig noch ungültig, vielmehr unberechenbar, sind sie in ihrem durch Ansprechen zu erweckendem Gehalt dennoch gewiß).
Если, однако, анализ этических положений приводит нас к утверждению двойной морали, изымающей некоторый узкий круг людей из общего их числа, то эта кажимость обманчива. Этические положения невозможно ограничить и подчинить условиям так, как делается с правовыми положениями, – если только мы не станем трактовать сами эти положения как правовые, – но можно привести их в движение в их объективной диалектике, чтобы экзистенциально дать почувствовать говорящую в них безусловность.
Объективно остается единая истинная нравственная деятельность, сходным образом признаваемая в своих всеобщих правилах всеми людьми: не лги, не убий, не кради, не прелюбодействуй и т.д. Это внешним образом постижимые положения, которые выступают в истории не с произвольными изменениями, но, ограниченные в своих модификациях, выражают как имеющее силу нечто общечеловеческое. Часто их отрицали; но они вновь спонтанно являлись как само собой разумеющиеся правила. Несмотря на это, они, во-первых, не абсолютны; ибо в противном случае жизнь в согласии с этим объективным всеобщим долженствованием уже была бы единственным путем экзистирования, – а, во-вторых, их слишком мало; ибо для них нужна свобода в историчном усвоении. Правда, объективно есть только одна-единственная мораль в ее всеобщих принципах как имеющая силу мораль. Но объективно значимым не исчерпывается то, что составляет истину экзистенциальной деятельности в сознании своего долженствования. Объективность рождает неистинную безусловность внешне-рациональной последовательности, она дает правильное, которое, казалось бы, существует как наличное достояние. Но правда (das Rechte) существует только в напряжении борьбы – не только в напряжении между значимым и инстинктивным, но существенным образом – в напряжении борьбы объективного с субъективным и борьбы объективного с самим собой. Лишь объективное претендует на всеобщезначимость; экзистенция в субъективности и объективности желает истины. Если даже в самом деле есть только одна мораль, то в отношении к объективно-всеобщему есть все же и исключение. Исключение есть по своей сущности то, чего обосновать нельзя, поэтому оно в объективном смысле как раз не только недостоверно, но, как противящееся объективности, абсолютно сомнительно. Исключение должно посметь (Die Ausnahme muß sich wagen). Оно переживает и то, и другое: подлинность самобытия как истина и – как не подлежащее объективным оправданиям – вину. Оно не станет намеренно сообщать о себе всем подряд; оно не желает подражаний себе. Оно не может объективироваться в виде всеобщего положения: «в подобных случаях правильно делать то или это». Ибо здесь нельзя провести границу. Деятельность исключения направляется к его собственной ответственности и опасности без образцов и без всеобщности. В случае внешней огласки его действия, если они противоречат общераспространенному здравому смыслу, общественным правилам или уголовным законам, ожидает как в виде смеха, изгнания или наказания за абсолютно недозволенную человеку в обществе самовольность его решений. Может оказаться, что самые правдивые, подлинно экзистенциальные действия – это те, которым свойственна известная черта подобной необъективности, остающаяся нечувствительной только потому, что здесь не случается прямого конфликта с объективным законом.
4. Долженствование и трансценденция.
- Долженствование в его объективности есть как экзистенциальное долженствование неодолимость обращенного ко мне требования присутствия моего самобытия (Das Sollen in seiner Objektivität ist als existentielles die Unwiderstehlichkeit der Forderung der Gegenwart meines Selbstseins an mich). Всюду, где я подлинно есмь я сам (eigentlich ich selbst bin), я все же не есмь только я один. Поэтому в безусловности долженствования, обращенной ко мне, я чувствую трансценденцию (Daher spüre ich in der Unbedingtheit des Sollens an mich die Transzendenz). Эта безусловность в подлинном долженствовании заставила человека, – вместо того чтобы принять его как шифр, которым оно несравнимым образом является (die es unvergleichlich ist), – представить его прямо как заповедь божества. Императив долженствования не есть сам по себе слово Божие; Бог как самость (als er selbst) остается потаенным. Только наивная вера и самонадеянность узурпирует Бога себе. Безусловное долженствование есть автономное долженствование свободы экзистенции, которая слышит сама себя и в этом слышании стоит в отношении к своей трансценденции. То, что она слышит как правду (das Rechte), это ее самобытие. То, что этого хочет Бог, есть опасное и сомнительное выражение для метафизической защищенности экзистенции, если экзистенция сохраняет верность своей глубочайшей основе.
5. Смысл требования.
- С долженствованием сопряжено некоторое требование. Всеобщезначимого, имеющего форму правового положения, безличным образом ожидают от каждого. Требование в собственном смысле имеет такой же характер, как если я требую от себя самого: оно обращено только к тому, с кем я как возможная экзистенция вступаю в коммуникацию. Я требую из возможной экзистенции там, где я узнаю или ожидаю от другого того же на том же уровне. Здесь требуют не всеобщим образом сформулированного в его объективности, но на пути этого объективного требуют усвоения и самобытия, не внешнего повиновения, но внутреннего экзистирования. Это требование, предъявляемое не в отстраненности, не всезнайство и не руководство, но как бы в беседе совести с самим собой; это требование не как предвосхищение чего-то определенного, но абсолютное сознание касается здесь в коммуникации другого абсолютного сознания, хотя само оно и остается некоммуникабельным.
Условия возможности для подобного требования нельзя сформулировать объективно; их возможно высказать лишь в призыве. Это: открытость; при всяком слове – оговорка о том, что возможны коррективы; речь с полной ответственностью за сказанное, которое подразумевается в ней всерьез и не случайно; сломленность своеволия, которое как честолюбие, несговорчивость сразу отталкивает другого на дистанцию; неприменение каких бы то ни было защитных мер, например, когда неистинно требуют – не задевать друг друга; невозможность предательства, совершаемого молчанием, уклоняющимися беседами с третьими лицами или благоразумным устройством отношений; сознание того, что без другого я вовсе не буду тем, что я есмь; – а кроме того также: чуткость ко времени и к ситуации, к формам и психическим неизбежностям нашего существования; готовность не требовать каждый раз всего в наличной данности; но все же не забывать о подлинном как простой и скромной предпосылке коммуникации, и все же снова и снова будить это подлинное в самом себе и в другом.
6. Возможность философской этики.
- Если твердые веления и запреты, рационально мыслимые и применимые подобно правовым положениям, утратили свою абсолютность, из истока философствования возможной экзистенции хотя и остается невозможной этика, возвещающая истину, но все же остается возможной такая этика, которая тем с большей решительностью будит содержание в самобытии при помощи диалектического обсуждения. Очерк этой этики нельзя было бы дать в абстрактном виде, она должна была бы осваивать долженствование в действительности существования как в общности семьи, общества, государства, из нормативного притязания религии, затем в пространстве порождающей обязанности людей сообщимости созданного и понятого в культуре. В конкретности действительного содержания она обращалась бы к истокам человека в его самобытии, проходя во всех направлениях от одной возможности действования в историчном мире к другой. Предпосылками ее мышления были бы готовность признать и сознаться себе самой в том, что действительно есть, не полагая действительности существования абсолютной как масштаб и как источник; далее, в бесконечной рефлексии, в которой вопрошание и вымысливание не знает границ, надежное разграничение обрывающей насильственности от созидающей безусловности; и наконец, в слове и в слухе – выходящая навстречу основа самобытия, которое есть и которое за себя в ответе. Эта этика не могла бы поэтому двигаться лишь на одном-единственном уровне всеобщего. Ее просветляющие обсуждения всякой активной действительности должны были бы охватить выдающуюся над средним уровнем возможностей человека благородную элиту (Adel) и примитивнейшие зачатки просыпающегося самобытия, просветленное восхождение и запутавшуюся в самой себе нерешительность, короче говоря, всю не поддающуюся объективной фиксации, но пронизывающую всю человеческую жизнь иерархию ступеней (Abgestuftheit).
Требование действительности существования в государстве и обществе
Человеческое существование есть только в обществе. Для всякого индивида общество было материальным условием его становления. Оно дало ему условия для жизни и традицию, благодаря которой он проснулся духовно и стал тем, что он есть. Оно остается условием его существования: если бы он мог изолироваться на каком-нибудь острове, то внутренне взял бы общество с собою.
Общество объективно существует в тех или иных данных институтах, в профессиях и функциях, в государстве, в требованиях к поведению, имеющих силу как самоочевидные. Но эти объективности действительны лишь в фактическом волении и действовании живущих в них людей, через исполнение их на почве субъективностей. Общество есть целое существования, налично действительное в отношении к индивиду, перед которым стоит выбор – уничтожиться, исключая себя из общества в своей субъективности, или, вступая в объективность, разворачиваться в ней (Gesellschaft ist ein Daseinganzes, das gegenüber dem Einzelnen besteht, der die Wahl hat, in seiner Subjektivität sich ausschließend zunichte zu werden, oder in die Objektivität eintretend sich in ihr zu entfalten).
Объективность общества есть всеобъемлющая действительность существования как мир человека. Если я хочу сделать ее предметом для себя и изучить ее, потому что я, в возможности, могу и выйти из ее пределов, то она есть не более чем только объективность. Но она есть больше, чем это, – а именно, она одновременно объективна и субъективна, – если я живу в ней. Ибо она становится ареной возможного экзистирования и явлением трансценденции там, где я подлинно действителен в ней.
А. Экзистенциальная существенность государства и общества
1. Элементы заботы о существовании (господство, собственность, порядок).
- Если бы существовали только завершенные экзистенции в бесконечной прозрачности их общности, то существования не было бы. Но в существовании, в силу сопротивления лишенного экзистенции, налицо незавершенность всякой экзистенции: пространство для экзистенции еще только предстоит создать; я желаю господствовать там, где я не могу любить в экзистенциальной коммуникации, потому что господство необходимо для расширения того существования, в котором предстоит осуществиться экзистенции.
Эта воля к господству (Herrschaftswille) по отношению к природе не знает забот; другое отношение к природе, кроме этого, невозможно (ибо созерцательное отношение само есть способ господства). Но по отношению к человеку желание господствовать бывает следствием нашей собственной несостоятельности (Versagen) и несостоятельности другого; оно есть то неизбежное, без чего в самом деле невозможно человеческое существование, ибо иначе оно распалось бы в анархии жизненной борьбы всех против всех; господство направляет объективную формацию, в которой только порядок целого дает каждому индивиду его действительное пространство.
Самобытие требует для себя и желает жизненного пространства, в котором ему принадлежит полномочие распоряжаться вещами как тем, что не есть человек. Это полномочие распоряжения, если оно разграничено с таким же полномочием других, есть собственность. Пафос собственности объясняется тем, что благодаря ей становится возможной действительность существования: обращение с находящимися в моей власти вещами, объективность моего действования в созданном мною в веществе вещей, становление моего собственного мира, исторично проникнутого в непрерывном течении моей жизни. Тем самым делается возможен план и смысл жизни на ограниченный срок; наследник принимает на себя обязательство – на основе работы, совершенной уже прежде его отцами, при этих предпосылках избрать и осуществить свою собственную возможность и ответственность перед своими потомками, -дать им основу (daß er ihnen den Grund gebe). Поэтому в радости от собственности, которая есть поначалу лишь наслаждение своим правом распоряжения, есть более высокая гордость, в силу заключающегося в собственности требования и шанса. Наследник и приобретающий живут не одним днем, но в историчной перспективе, на полученной от прошлого основе в движении к будущей возможности. Потому повсюду встречаем фактическое уважение к владеющим, даже и в принципиальной борьбе против частного владения; и потому повсюду презирают того, кто легкомысленно растрачивает свою возможность и возможности своих потомков.
Поскольку существование человека в мире прочно привязано к собственности, вопрос лишь в том, как приобретается, ограничивается, распределяется эта собственность и какая собственность принадлежит индивиду, семье, более обширным группам, государству. Отмена собственности означает восстановление ее в новой форме. Она существует повсюду там, где полномочие распоряжения принадлежит не всем индивидам, а определенно ограниченному их числу; то, что принадлежит государству, состоит в подчиненном определенным условиям распоряжении его функционеров. Сколь бы многое ни становилось собственностью обширных общностей людей, всегда останется некоторое, пусть даже тесное, частное жизненное пространство, или же человек утратит возможность быть самим собой, сделается рабом тех, кто распоряжается совокупной собственностью от имени всеобщего.








