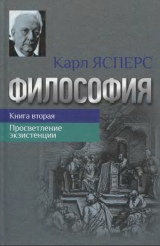
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
3. Стыд.
а) Психологический и экзистенциальный стыд.
– Там, где моя недостаточность привлекает к себе внимание, я стыжусь, – или же я стыжусь возможных недостаточностей всякий раз, где вообще бросаюсь в глаза другим. Нагота вызывает стыд там, где видна другим как таковая, она перестает быть стыдливой там, где мы обнажены среди нагих. Того, что делают все, мы не стыдимся.
В то время как потерял стыд тот, кто исчезает во всеобщем и уже не чувствует и не мыслит более как Я, для того, кто знает себя обязанным перед собою как возможной экзистенцией, сохраняется неистребимый корень стыда в его самобытии. Однако этот экзистенциальный стыд – иной, чем стыд психологический. Оба они возникают из самосознания, но психологический стыд – из сознания значимости отдельного существования в зеркале других, экзистенциальный же – из заботы о неправде и возможности неверного разумения перед другой экзистенцией. Психологический стыд как конечный мотивирован и понятен из вовлеченности эмпирического индивидуума; экзистенциальный стыд, будучи как безусловный непостижим в общих понятиях, есть функция предохраняющей позиции, исходящей из подлинной самости. Например, покраснение ввиду возможного презрения ко мне со стороны других, или из страха быть обнаруженным, или страха, что на меня могут по ошибке сложить ответственность за что-то, – совершенно отлично от покраснения, вызываемого потаенным самобытием, которое бы другие могли заметить, отстоять, спросить. Первое сопряжено с внутренней слабостью самосознания, второе же, при внутренней силе, есть боязнь быть неадекватно понятым как самость в мире объективностей, где имеет значение одно всеобщее. Этот отстраняющий стыд защищает нашу самость от путаницы, вследствие которой она в искажающем понимании других могла бы, как самость (als es selbst), показаться предъявляющей противоестественные требования в сфере всеобщего.
Экзистенция стыдится по аналогии с сознанием недостаточности в психологическом стыде, потому что экзистенция в своей объективности как таковой всегда обладает также сознанием своей слабости. Ибо она становится неистинной, если ее объективацию принимают за саму экзистенцию, а не только за явление ее, всегда также и сомнительное в своей объективности; она не может ни выступать как утверждение своего бытия-экзистенцией, ни выдвигать притязания на признание (Anspruch auf Anerkanntwerden) в качестве экзистенции, и не может, как воля к экзистенции, трактовать экзистенцию как некоторую цель. Повсюду, где она говорит и где возникает хотя бы даже только возможность подобного толкования, экзистенция стыдится своей слабости. Она не имеет права становиться объективной, разве только косвенно. Поэтому молчание экзистенции перед самой собою и перед другими есть самое сокровенное в ее действенном явлении, несвоевременному расцветанию которого противится ее стыд.
Экзистенциальный стыд появляется уже там, где в сфере объективного сосуществования людей внимание индивида обращается на него самого как экзистенцию вообще. Там, где затронут я сам, хотя при этом и не совершается на том же уровне, коммуникация от экзистенции к экзистенции с обоюдной откровенностью, – я должен стыдиться (Wo ich selbst berührt werde, ohne daß auf gleichem Niveau eine Kommunikation von Existenz zu Existenz in gegenseitiger Rückhaltlosigkeit sich vollzieht, muß ich mich schämen).
Экзистенциальный стыд производит отстранение, в котором как таковом еще не осуществляется никакой исток; но он бережет возможность, чтобы она не растаяла.
б) Стыд как предохранение от специфической для философствования опасности.
– В экзистенциальном стыде совершается защита тайны, которую высказать, однако, мы не могли бы, если бы даже захотели; любые слова здесь только сбивают с толку. Поэтому слово (das Sagen) в просветлении экзистенции как философии хотя и есть попытка найти в сфере всеобщего путь к просветлению самости; но это просветление еще не совершается в доступном слову, и доступное слову остается, скорее, только путем.
Поэтому специфическая опасность возникает из самого философствования, которое как формация помысленного или следует по пятам за экзистированием как просветление, или же опережает его как призывающее указание возможностей. Философствование не покоится в себе самом, и его можно спутать с действительностью экзистирования, в котором только оно и получает смысл и проверку делом. Я могу, уклоняясь, принять высказывающее философствование за саму экзистенцию. Если хотят, чтобы философия как таковая давала удовлетворение, вместо того чтобы быть функцией в экзистенции, из которой и для которой она и мыслит, то философию лишают ее подлинного содержания. Вместо того чтобы быть ясностью мысли, она становится предметом мечтательности, видимость которой лишает нас действительной экзистенции. Кто в самоутешении застревает на одной лишь мысли об истоке, тот как раз и может потерять сам исток; ибо просветление истока совершается лишь в том, что из него исходит. Поэтому пути просветления экзистенции – не пути к познанию, на котором бы следовало остановиться, но пути к той точке, что призывает нас обратиться, чтобы теперь с большей уверенностью и ясновидением возвратиться в существование (Darum sind Wege der Existenzerhellung nicht Wege zu einer Einsicht, bei der zu verweilen wäre, sondern Wege zu einem Punkt, der zur Umkehr auffordert, um nun gewisser und hellsehender ins Dasein zurückzukehren).
Опасности быть неверно понятым, опасности недоразумения о самом себе и опасности неистинного пребывания на месте противодействует в философствовании некий стыд, который оно всякий раз должно осмелиться разбить, чтобы через него позволить принудить себя к возвращению в самые решительные формы объективности как непосредственности, но непосредственности лишь возможного. В последовательном ряду методов выражения – от логических методов к психологическим и далее к метафизическим -этот стыд усиливается. Он неотступно держится слабости мыслимого, оказывающейся явной для всех уже в самом по себе недоразумении нашей мысли. В логических выражениях для просветления экзистенции поводом к стыду является рассудочная ничтожность логического круга, парадокса и чистого отрицания. В выкладках понимающей психологии стыд пробуждает назойливая близость к эмпирически-действительному, которое вовсе не имеют в виду как таковое. В метафизических мыслях и образах стыд вызывает в нас возможность принять их за очевидные содержания догматической веры или видеть, как их унижают до простых аллегорий. И каждый раз стыд может исчезнуть в том идеальном случае, когда говорящий с уверенностью знает, что находит понимание (Verständnis), исключающее все эти смешения и делающее вполне невозможным упрямую приверженность логически отрицательному, психологически конкретному, метафизическому предмету. Но и в этом случае стыд исчезнет лишь постольку, поскольку мысль и выражение достигнут такой чистоты, мерилом для которой обладает только философствующая совесть. Да ведь каждый философствующий то и дело впадает в уклонения, грешит нечистыми формами выражения, излишними откровенностями, рациональными схематизмами. Он должен постоянно, направляемый этим стыдом, работать ради одной цели: достигать предельно возможного, без робости вопрошать и формулировать поверх всех границ, и все же сохранять при этом максимальную личную деликатность. Это возможно только при таком витании выражения и мысли, которое не задерживается и не склоняет задержаться нигде, и все-таки может просветлять и даже будить. Как в научных изысканиях логическая совесть становится регулирующим началом для порыва мысли, рождающегося из содержания идеи, так в философском просветлении экзистенции стыд становится регулирующим началом для мыслей и образов, что обретают формулировки, возникая из страсти нашего сознания экзистенции.
в) Предохраняющий и разрушающий стыд.
– Самый глубокий стыд существует как бесконечное молчание, являющееся из экзистенции, которая достоверна о себе, но знать себя не может. Она не хотела бы привлекать к себе внимание, потому что хочет уберечь себя, чтобы не потерять себя перед самой собою в нескончаемом вихре неистинного понимания. Все должно оставаться как бы само собой разумеющимся, естественным, неприметным; задачи в мире надо исполнять со скромностью, без притязаний молчащей экзистенции, – не потому чтобы этой экзистенции не было, но для того, чтобы она сохранила себя в чистоте в мгновения исчезающей действительности и стала поистине зрима для экзистенции ближайшего. Если она неустанно трудится в мире над тем, чтобы проникнуть то, что она может проникнуть, потому что только тогда оно обретает содержание для нее самой, – то делает это все же, не высказывая требований; ибо это высказанное требование превратило бы в цель то, что, если только пожелать его прямо как цели, без следа пропадет.
Поэтому оберегающий стыд вполне может спросить: зачем вообще говорить там, где уместная речь невозможна? почему не хранить молчание? зачем нарушать стыд и делаться непосредственно откровенным? Слова и в самом деле были бы не нужны, если бы мы с уверенностью и надежно жили, поступали и действовали из истока в непрерывном течении целой жизни, а не только в отдельные забытые мгновения. Поскольку же нас сбивает с толку не только неверное понимание слова, но и само существование. возможной экзистенции нужно вспоминающее мышление.
Противление стыда мысли как таковой становится поэтому двусмысленным. Как подлинный стыд он охранительно действует там, где хотят не ко времени говорить в неподходящем месте, в неверном смысле, где речь (das Reden) неподлинна, где эту речь трактуют как знание; это защищает от опасности уклонения в философствовании.
Однако противление, выдающее себя за стыд, может, наоборот, защищаться от истока как от требования свободы, о которой, как о нашей собственной возможности, мы не хотели бы слышать напоминаний; это отречение хотело бы избавить себя от лишних затруднений, отказавшись даже от слова; если о возможности вовсе не говорят, она сама может исчезнуть. Это неистинное противление существования против экзистенции есть опасность не-философствования (Dies unwahre Sichsträuben des Daseins gegen Existenz ist die Gefahr des Nichtphilosophierens).
Если противление есть подлинный стыд, то оно пребывает в тишине и умолчании: это нереагирование как возможность все же отреагировать. Это спокойное сокрытие, там, где неподлинные речи выбиваются на первый план.
Но если противление есть защита от возможности стать собой, то оно обыкновенно внушает подозрения своей яростью и шумной полемикой. Именно это противление в подчеркнутом стыде вполне совместимо с потерей всякого стыда.
4. Невозмутимость.
– Есть невозмутимость как спокойствие нервов, как детская бестревожность (Unstörbarkeit) еще незрячей наивной души, как жизнь в счастливых ситуациях. Невозмутимость как момент абсолютного сознания стоит в пограничных ситуациях. Она есть спокойствие достоверности бытия как обретенный фон и как будущая возможность. Она – не исполнение, как высота бытия в существовании, но тишина достоверности без решения в настоящем. Это сознание защищенности – возможная позиция повседневной жизни, не мерило, но средство защиты. Разбивается оно не ударами конечности, которые оно умеет выдержать, но страстью экзистенции в ее решениях. Молчащая тишина нарушается откровениями бытия в пограничных ситуациях, которые в конце концов снова обретают покой для себя в невозмутимости.
Невозмутимость – не то же, что свобода от аффектов в дисциплинированном стоицизме, удобное недопущение-до-себя ситуаций, но она – охранное средство с высоты на отдалении (Sicherung im Fernsein von der Höhe); она может принять меня в себя, когда бытие лишается блеска и мне недостает меня самого. Но сама по себе она не довлеет себе, а потому пребывает в готовности и из самой себя увлекает в движение и исполнение.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Безусловные действия
1. Обусловленные и безусловные действия. – 2. Существование и безусловность. – 3. Безусловная деятельность как разбивание существования. – 4. Направления безусловной деятельности.
I. Безусловные действия, превосходящие существование
Самоубийство
1. Самоубийство как фактум. – 2. Вопрос о безусловном. -3. Почему мы остаемся жить? – 4. Невыносимость жизни. -5. Стечение обстоятельств (Verstrickung). – 6. Экзистенциальное отношение к самоубийству в помощи и оценке.
Религиозная деятельность
I. Возможность реального отношения к божеству. -2. Специфически религиозные действия. – 3. Религиозное мироотрицание.
II. Безусловная деятельность в существовании
Внутренняя деятельность
1. Психотехника и безусловность. – 2. Философствование. – 3. Безусловность в нежелании.
Деятельность в мире
1. Закон и историчная определенность. – 2. Рассеяние и Единое
1. Обусловленные и безусловные действия.
– От перемены положения небесных светил и до изменений на земной поверхности – всё это только события (Geschehen). Растение и животное живут в неосознанной целесообразной отнесённости их замкнутого в себе существования. Действует только человек. Действуя, он знает, чего он хочет. Деятельность – это активность, которая, зная о себе, сама определяет себя (Handeln ist die Aktivität, die sich wissend selbst bestimmt).
Инстинктивная деятельность, ещё лишённая рефлексии в собственном смысле слова, совершается силой уверенности инстинкта и в наивной бесспорности просто вступающей в дело воли. Эта деятельность становится целесообразной деятельностью (Zweckhandeln), если влечение не только приходит к сознанию собственной цели, но между влечением и его удовлетворением помещают себя рассчитывающие меры, как ряд целесредственных соотношений. Если удовлетворение влечения не просто тормозят и откладывают, но в конце концов и забывают о нем, то открывается нескончаемое множество целесообразного. Ибо всякой цели предлагается вопрос: зачем? Цель становится относительной, и вопросы задают снова; рефлексия как расчет не может отыскать конечной цели; если только эта цель не дана извне. Если же она сохраняется, исходя из инстинктивной сферы, как наивное удовлетворение, не задающее вопросов, то целокупность влечения и рефлексии есть наполняющая и проявляющая наше сознательное существование витальная деятельность, побуждаемая интересами и целями.
Есть ли деятельность непосредственная инстинктивная деятельность, или же отделяющаяся от инстинкта рассудочно-целесообразная деятельность, или же исполненная влечения в рефлексии витальная деятельность, – она в сущности своей есть обусловленные дела существования (bedingtes Tun des Daseins). Влечение к расширению существования, к чувственному наслаждению, к авторитету и влиятельности, все то, что философы исстари соединяли в названиях удовольствия, богатства и власти, обусловливает деятельность, в которой ищет себе удовлетворения. Пожелание предвосхищает исполнение, страх – недостижение желаемого; и то и другое действует расслабляюще. Надежда и забота подхлестывают активность.
Но эта деятельность может найти мнимый покой лишь на мгновение. Насыщение и усталость, пресыщение полученным и желание нового влекут ее все вперед, без малейшей возможности достичь когда-нибудь окончательной цели. Бессмысленная понужденная гонка влечений, без всякой конечной цели, подобна самообману человека, в котором влечение к жизни коварно обещает ему то, чего он никогда не сможет найти; это – мука жажды жизни, снова и снова слепо рождающей сама себя, пока наконец жизнь не оборвется.
Однако в деятельности человека может живо присутствовать также и другое, силою которого он изъят тогда из нескончаемости во времени назад – в некоторое деятельно удостоверяющееся в себе самобытие. Оно присуще положительно как сознание бытия даже в крахе, отрицательно же – как беспокойство потери себя даже в самом полном богатстве существования. Мы называем это безусловной деятельностью. Если деятельность обусловлена удовольствием от удовлетворения влечений, целью и интересами существования, то безусловная деятельность хотя и не может быть действительной без этой плоти существования воли к жизни, но в обусловленных действиях она существует не только в них, но в то же время и свыше их (Ist das Handeln bedingt durch Lust der Triebbefriedigung, durch Zweck und durch Daseinsinteressen, so kann unbedingtes Handeln zwar ohne diesen Daseinsleib des Lebenswillens nicht wirklich sein, ist aber in den bedingten Handlungen nicht nur in ihnen, sondern zugleich über sie hinaus).
Инстинктивная деятельность есть наша животная природа, схваченная в человеческом сознании; как присутствие существования она лишена трансценденции. Безусловная же деятельность есть выражение самосознательной экзистенции, совершающей в явлении существования в отнесенности к своей трансценденции то, что для нее вечно существенно. – Целесообразная деятельность обусловлена показуемой (aufzeigbaren) целью и сама есть лишь средство. Безусловной же деятельности желают в ней самой как таковой; поскольку она имеет цели как деятельность в мире, она все же не бывает достаточно обоснована из этих целей. В то время как целесообразная деятельность хотела бы знать конечную цель, которой, однако, найти никогда не может, безусловная деятельность не нуждается в какой-либо конечной цели, потому что пребывает в самой себе как выражение некоторого бытия. – Витальная деятельность как целое, состоящее из влечения и рассчитывающей целесообразности (das Ganze aus Trieb und berechnender Zweckhaftigkeit), несмотря на всю светлость в партикулярном, слепа в своеволии своего существования. Безусловная же деятельность просвечивает (durchleuchtet) влечение и рефлексию достоверностью бытия, которая как таковая не заключается ни во влечении и его удовлетворении, ни в рассчитанной цели, и больше того – остается, когда и то и другое переживает крах, потому что самая деятельность исходит из экзистенции, релятивировавшей своеволие.
2. Существование и безусловность.
– Деятельность привязана к ситуациям в мире. Как безусловная деятельность она совершается в то же время в пограничной ситуации. Безусловность как экзистенция в пограничной ситуации не может быть видима объективно. Для психологического исследования она неотличима от беззаботной витальности, которая не задает вопросов о том, чего она, собственно, хочет.
Поэтому невозможно дать достаточно исчерпывающее определение безусловных действий. Как мыслимые они суть только призывающий знак (das appellierende signum), который делается постижимым для нас только через воплощение его в нашем собственном существе.
Мышление о них описывает их как возможности по контрасту с действиями, совершаемыми в абсолютизации существования. Действия, совершаемые из одного существования, подобны безродному блужданию в мире, словно бы им не полагается иметь ни цели, ни смысла за пределами партикулярного; ибо они уже – не только природные события, они уже вышли за рамки неосознанной целесоотнесенности биологического существования.
Тогда знак безусловных действий, в отождествлении их с деятельностью из историчности экзистенции, обозначает взаимопроницание существования и безусловности: будучи связана со всяким существованием, безусловность отличается от него в том отношении, что она в своей историчности снова усваивает его себе вплоть до полного с ним единства. Поэтому безусловная деятельность всецело предана осуществлению или же, напротив, обращает существованию радикальное «нет». Осуществляя, она употребляет все силы в неустанном движении планирования и расчета и укоренена в конкретности своей ситуации во времени.
Деятельность, однако, перестает быть безусловной там, где человек теряет себя ради мира (Handeln hört aber auf, unbedingt zu sein, wo der Mensch sich an die Welt verliert). Поскольку цели в мире принадлежат для рефлексии к нескончаемости других целей, в которой никакой конечной цели не видно, то полагать цели в мире как таковые абсолютными – означает утратить безусловность. Совершая абсолютизацию внутримирового, я падаю в ничто, где ожидают меня незамыкаемость целесообразного, заведомый конец и гибель всякого существования, и наконец – утрата моей собственной жизни. Если все есть не более чем только существование, то нескончаемость тающих в ничто осуществлений не знает остановок. Что одно, что другое – все ничтожно, потому что исчезает; мнимая безусловность в мире сохраняется только как жажда любой ценой держаться за свою жизнь.
Безусловность деятельности в мире возможна поэтому, только если я словно бы оставил мир и только теперь вновь в него вступаю. Деятельность в мире получила в этом случае, вместе со всем существованием, символический характер, который не лишает мир его действительности, но являет его пронизанным лучами из его глубины (Unbedingtheit des Handelns in der Welt ist daher nur möglich, wenn ich die Welt gleichsam verlassen habe und nun erst in sie zurücktrete. Das Handeln in der Welt hat dann mit dem ganzen Dasein den Symbolcharakter gewonnen, der die Welt nicht unwirklich macht, sondern von ihrer Tiefe durchstrahlt sein läßt). Тогда становится возможным, что все лишь действительное релятивируется для нас, и все же мы каждый раз с полной отдачей вновь принимаемся за него; что релятивирование не делает это действительное безразличным, но сохраняет для нас его весомость и важность. Напряженность в существовании, заключающаяся в том, что я действую так, как если бы сама существующая действительность была абсолютной, -и в то же самое время сознаю, что, как лишь действительное, все одинаково ничтожно, – эта напряженность есть истина безусловной деятельности в мире.
Если безусловность невозможно понять, исходя из целей в мире (nicht aus den Zwecken in der Welt verstehbar), то нам все-таки хотелось бы понять ее в той рассудочной форме, которая логически выводит из целей. Тогда безусловность подвергают метафизической интерпретации, исходя из некоторой трансцендентной цели: Безусловной деятельностью, – говорят тогда, – мы приобретаем себе сокровище в потустороннем царстве; деятельность в этом мире – это средство для того, чтобы обрести жизнь в потустороннем мире. Или же безусловность выражают в виде цели прославления Бога в мире. Подобные метафизические формулировки как чувственное представление (Versinnlichung) и опредмечивание трансценденции представляют собою беспомощное рассудочное выражение для того отношения к ней, которое в этой безусловности сообъемлется (mitergriffen), но никогда не познается.
Только эта безусловность делает постижимым рискованную затею жизни (macht das Wagnis des Lebens begreiflich). В этом риске мы принимаем как абсолютно важную некоторую цель в мире, и все-таки, без всякого противоречия с мнимой абсолютизацией мирового существования, обретает действительность воля пожертвовать своей жизнью ради того, что само обречено безвозвратно исчезнуть. То и другое вместе оказывается возможным только потому, что это существование одновременно релятивируется и проникается смыслом, по которому оно есть явление бытия. Если бы все было только существованием, то не имело бы смысла умирать за что бы то ни было, потому что в подобном случае жизнь не только была бы предварительным условием всякого существования, но ничто не могло бы стоять выше этого существования.
Только эта же безусловность является, далее, истоком для возможности радикального отказа от отдельных возможностей жизни в мире. Абсолютизация существования как такового старается воспользоваться всякой возможностью, не пропустить ничего, желать многообразия как такового. Безусловность стремится к бытию, которое Едино (Die Verabsolutierung des Daseins als solchen sucht alle Möglichkeiten zu ergreifen, sich nichts entgehen zu lassen, die Mannigfaltigkeit als solche zu wollen. Die Unbedingtheit geht auf das Sein, das Eines ist).
3. Безусловная деятельность как разбивание существования.
- Без возможности безусловности деятельность лишена почвы (Handeln ist bodenlos ohne Möglichkeit der Unbedingtheit). Благодаря своей возможности быть безусловной деятельность ставит под сомнение абсолютность событий, подчиненных законам природы, в познании которых только сознание вообще в достаточной мере подтверждает имманентный смысл этих событий; правда, безусловная деятельность в мгновение своей действительности не разрушает неизбежности законов природы для событий в существовании, – это остается невозможным, – но она не только делает заметной непрозрачность этих законов (läßt... ihre Transparenzlosigkeit durchscheinend werden), но в своем прорыве делом доказывает, что то, что только казалось законом, законом не было; она действительностью показывает возможное. Безусловность не знает спокойного отношения к существованию; скорее, только в разрыве (Bruch) существования она есть движение своего осуществления.
Человек, единственное действующее существо, в самом деле находится в разрыве (im Bruch) со своим существованием. В то время как неосознанные цели биологического сняты в целокупности бесспорно самодовлеющей во всякое мгновение жизни, все цели существования человека лишены той целости, в которой они были бы окончательно обеспечены и безопасны. Человек со своими действиями никогда не исчерпывается без остатка в какой-либо тотальности; тотальность эта не обретает действительности в существовании, разве что отдельными фрагментами; человек нигде не становится целым (wird kein Ganzes)', он должен непрестанно искать это целое. Он может переформовать себя ради особенных функциональных способностей (Leistungsfähigkeiten). Он может образовать свое тело, сделав его спортсменом-специалистом, он может, преувеличивая одну из последовательных духовных возможностей собственной жизни, изолировать эту возможность; целым он никогда не становится. Он может в соразмерной гармонии образовывать свое тело и душу, и бывает тогда всего менее естественным, как естественно животное, но существует подобно второй, им самим созданной, природе, как одна из его собственных возможностей, в которой он, опять-таки, не целостен.
Разрыв человека с его существованием не может поэтому ни заставить его без остатка принять свое существование, ни позволить человеку от него ускользнуть. Если он действует только инстинктивно и целесообразно, то приходит в конечный упадок как возможное самобытие и страдает от сознания своего небытия; если он возносится к безусловному, то остается все-таки связанным в чувственной действительности своего существования, составляющей единственную плоть и для осуществления безусловного.
Сравнительно с не ведающим надлома существованием животного человек может на мгновение показаться нам как бы неполноценным (mangelhaft). Если у животного плоть и душа, как природа, образуют биологическое единство, покоящееся в себе без всякого внутреннего напряжения, то у человека это уже не так. Животное может из поколения в поколение повторять одно и то же существование; но человек – не может. У животного есть предначертанное ему жизненное пространство, которое оно в удачном случае заполняет, или сталкиваясь с которым, оно в неудачном случае гибнет; человек располагает необозримыми возможностями. Но то, что может стать действительным благодаря ему, не заключено изначальное в естественном законе его жизни. Человек как предмет психологии, социологии и истории не может быть исчерпан в своей действительности этими дисциплинами. В сфере этого объективирующего познавания мы можем, правда, выражая нашу резиньяцию как познания, сказать с психологом: только тот, кто желает невозможного, может достичь возможного (nur wer das Unmögliche will, kann das Mögliche erreichen). Но для самого человека невозможное не является невозможным. Он выходит на арену своего существования с насильственными, созданными им самим для себя же механизмами торможения, механизмами не автоматическими, но исторично изменяющимися. Он разрывает с природой, чтобы или снова свободно соединиться с нею, или подпасть ее власти в состоянии грубости, которая есть не возвращение к природе, а искажение человека, ибо он не может перестать быть человеком (Er bricht mit der Natur, um entweder aus Freiheit wieder eins zu werden mit ihr, oder um an sie zu verfallen in Roheit, die keine Rückkehr zur Natur, sondern Verkehrung des Menschen ist, der nicht aufhören kann, Mensch zu sein).
Поэтому образы человека, противоречащие некоторой норме, не становятся животными, – ни запечатленный преступник, по собственной решимости становящийся тем, что он есть, ни душевнобольной, над которым получает полноту власти некая чуждая ему сила. Эта норма не только не является строгой и однозначной, но сама она, скорее, тоже оказывается сомнительной. Искажение бывает ничтожно отнюдь не во всяком смысле слова:
Преступник никогда не имеет замкнутости существования, свойственной хищному зверю, которого он может напоминать нам только из рассматривающего отдаления. Хотя и подчиненный публичной власти, он остается в то же время вопросом о порядке человеческого существования и сохраняется как собственная человеческая возможность.
Душевнобольной становится, заболевая, не животным существом, но схождением возможностей (Verrückung der Möglichkeiten). Его недоступность нашему пониманию – не только непонятность природного процесса, но как бы возможность другого. Между тем как обезумевшее животное всего лишь ведет себя вопреки нашему ожиданию и переживает распад, душевнобольной человек может сверх того создать еще свой собственный мир, предстоящий здоровому человеческому существованию как огромный вопросительный знак. Кроме того, человек в болезни может стать существенно значимым для себя и других именно тем, что порождено в нем этой болезнью.
Утрата замкнутости животного существования, преступление, душевная болезнь, неотделимость существенного воплощения возможностей от насильственно-одностороннего оформления самости не означают еще как таковые явления безусловности. Однако они характеризуют существование человека в его надломленности (Gebrochenheit), из которой становится возможной безусловность, потому что существование уже не совершается более с уверенной, однозначной необходимостью, и из которой исходит требование безусловности, потому что, где утрачена замкнутая целость, там только силою одной безусловности может совершиться прорыв бытия в сомнительном существовании. По сравнению с порядками этого существования (выступающими как природа, жизнь, душа, как общество и государство) безусловное, из своего высшего закона, может стать безмерным, абсурдным (sinnwidrig), разрушительным (ruinös), чтобы сотворить новое осуществление из своего истока. Но никакая рискованная решимость жить, никакая объективно доказуемая нерушимая верность, никакое самоубийство сами по себе как внешние факты еще не доказывают безусловности.








