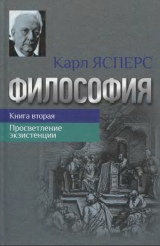
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
В разрыве с существованием человек по своему явлению никогда уже не будет более природной действительностью: только тоска может силой своих чар обманчиво представлять его в подобном образе собственному его взору. В своем сознании он пребывает в раздвоении с самим собой, потому что утратил природную уверенность (Er ist in seinem Bewußtsein gespalten in sich selbst, weil er die Sicherheit der Natur verloren hat). Если мерило естественности делают высшим, то человека придется признать болезнью существования. То, что отделяет его от бесспорно действующей силы всякого природного существования, как бы его исконная рана, есть также исток его наивысшей возможности. То, что он может быть безусловным, предполагает, что он уже вышел из круговоротов только-живого. Так он может осознать в себе бытие и возможность небытия, которые – и бытие, и небытие, – в жизни как таковой никогда не приходят к себе. Его существование приковывает его, и все же только оно дает ему возможность для бытия. Человек, чтобы удостовериться в себе, должен, по меркам существования, требовать от себя больше, нежели он может осуществить. Он, будучи превыше себя самого, есть промежуточное существо, которое будет вовсе потеряно, если не обретет себя в безусловном (Der Mensch muß nach Daseinsmaßen mehr von sich fordern, als er verwirklichen kann, um seiner gewiß zu werden. Er ist, indem er über sich hinaus ist, das Zwischenwesen, das verloren ist, wenn es sich nicht im Unbedingten gewinnt).
4. Направления безусловной деятельности.
– Просветление безусловной деятельности делает ее зримой, в разрыве существования, в трех измерениях, которые не пересекаются ни в какой определенно фиксируемой точке, но сливаются воедино, на первый взгляд, взаимно уничтожая друг друга.
Безусловная деятельность как идейная (ideenhaftes) деятельность, желает вместо утраченной целости существования осуществить духовное целое в объективности человеческих порядков жизни, через которые она становится единством с переформированным (umgeformt) существованием. Из субстанции идеи осуществляется положительность жизни в мире человеческой общности. Подобная идея есть, например, справедливость. Справедливость как мерило оценки, в отличие от правил утилитарной целесообразной деятельности и юридического порядка, не может сделаться в достаточной степени рационально прозрачной. Она действует в тех или иных рациональных объективациях, она всегда аргументирует, прибегая к этим объективациям, но она как целое живет объемлюще (übergreifend) из истоков, которые направляют всякую рациональную форму и впервые придают ей весомость содержания.
Как экзистенциальная деятельность безусловность тождественна с идейной деятельностью, насколько простирается ее область, однако может разбить идею. Например, справедливость подвергается сомнению, но не из витального эгоизма, а из более глубокого постижения того, чего требует душа, которая, предстоя безднам, уже не признает более закон злобы дня (Gesetz des Tages) единственным законом.
Как трансцендентная деятельность безусловность непосредственно входит в отношение со своим другим, которое она хотела бы вовлечь в действительность (bezieht sich... auf ihr Anderes, das sie in die Wirklichkeit ziehen möchte). Всякое нецелесообразное (zweckwidrige), разрушительное или безразличное для мира, потому что по эффекту исчезающее, действие может иметь этот смысл, уничтожающий экзистенцию и идею в их явлении.
Идея направляет в существовании к осуществлению, душа экзистирует пред своей трансценденцией в мире и вне мира, трансценденция увлекает их обе в бездну своего бытия, как того, что недоступно знанию и не имеет существования (Die Idee lenkt im Dasein zur Verwirklichung, die Seele existiert vor ihrer Transzendenz in der Welt und außer der Welt, die Transzendenz zieht beide in den Abgrund ihres Seins als eines weder Wißbaren noch Daseienden).
Три эти измерения присутствуют как возможности во всякой безусловной деятельности. Эта деятельность причастна идеям, утверждается на экзистенции и соотносится с трансценденцией. Однако это тройство исключает возможность сделать безусловное прозрачно понятным для нас в недвусмысленных формулах. Кажется, будто это тройство может стать единством, если экзистенция несет в себе идею, в которой она направлена к трансценденции, исполняя мировое существование из единого изначального бытия. Но затем кажется, будто она раздваивается в себе самой и борется с собою, не в силах достичь завершенности как действительность в мировом существовании, так чтобы тут же не отказаться от себя, – будь то в стабилизации ставшего неким целым порядка человеческого существования, будь то в экстравагантной экзистенции изолированного индивида, будь то в уничтожении существования [ради] бесплотной трансценденции.
Безусловная деятельность разбивает целость существования, без которого она, однако, ни на одно мгновение не может обойтись. Хотя безусловная деятельность как таковая существует в мире, но свыше мира (in der Welt über die Welt hinaus ist), она, кажется, теряется для нас там, где совершенно отрекается от мира.
Однако невозможно осуждать в знании то, что мы можем знать только в действии самости (Jedoch ist es unmöglich, wissend zu verurteilen, was nur im Selbsttun gekannt sein kann). Оставление мира как возможность, – это постоянный большой знак вопроса над всяким осуществлением в мире.
I. Безусловные действия, превосходящие существование
Пограничные ситуации я могу скрывать от себя, оконечивая их и забывая. Я могу выдерживать их, если перед лицом их я безусловно делаю в мире то, что возможно. Я могу превосходить их или тем, что оставляю существование одним абсолютным шагом, самоубийством, или тем, что оставляю его в непосредственном отношении к божеству.
Религия дает возможность остаться в мире, вместо того чтобы лишать себя жизни, но в своем последовательном виде, т.е. если ею самой не злоупотребляют для сокрытия пограничных ситуаций, принуждает к тому, чтобы оставить мир, оставаясь в мире: аскеза, бегство от мира (Weltflucht), жизнь вне мира в терпении существования или в деятельности, не знающей удовольствия от существования (das Leben außerhalb der Welt im Erleiden des Daseins oder im Handeln ohne Daseinslust).
Самоубийство
Психиатры говорят «суицид» и, называя известную рубрику явлений, помещают это действие в сферу чистой объективности, скрывающей от взгляда бездну. Литераторы говорят «добровольная смерть» и, наивным предположением высшей человеческой возможности, во всяком случае помещают это действие на бледный розово-красный фон, который опять-таки скрывает. Только слово «самоубийство» неотклонимо требует удержать в уме то страшное, что есть в этом вопросе, одновременно с объективностью фактума: «само-» выражает свободу, уничтожающую существование этой свободы (тогда как «добровольная» говорит слишком мало, если в этом выражении подразумевается, что отношение к самости здесь преодолено), «убийство» же выражает активность, насильственную по отношению к чему-то, что в отношении к самости решено как неотделимое (тогда как «смерть» выражает нечто аналогичное пассивному угасанию).
Человек не может желать ни пассивно жить, ни пассивно умереть. Он живет в активности, и только посредством активности он может лишить себя жизни. Наше существование, каково оно есть, делает невозможным пассивное угасание, если бы нам его и хотелось. Чистая пассивность есть только в естественной смерти, смерти от болезни и внешних властей. Такова наша ситуация.
Самоубийство – это единственное действие, освобождающее от всякой дальнейшей деятельности. Смерть – решающая пограничная ситуация для экзистенции, это событие, которое приходит и которое мы не зовем. Только человек, после того как он знает о смерти, стоит перед возможностью самоубийства. Он может не только сознательно рискнуть своей жизнью, но может решать, хочет ли он жить или нет. Смерть вступает в сферу моей свободы.
1. Самоубийство как фактум.
– Это действие как таковое, отнюдь не обязательно бывающее безусловным действием, с точки зрения психологии никогда нельзя распознать как безусловное действие. Только на границе эмпирически исследующего предметного познавания самоубийство возникает как философская проблема.
Статистика говорит нам о его частоте: говорит, что в Европе наибольшую наклонность к самоубийству имеют германские племена, что Дания – страна с наибольшим числом самоубийств, что внутри Германии самоубийств отмечается больше в северных провинциях, нежели в южных; что у старших возрастов частота самоубийств нарастает, достигает наибольших величин между 60 и 70 годами, а затем снова убывает; что сезонный пик частоты самоубийств приходится на май-июнь; что в протестантских землях самоубийства случаются чаще, чем в католических.
Подобные и иные частотные соотношения – точные цифры можно найти в книгах по моральной статистике – не дают никакого представления об индивидуальной душе; они не сообщают нам никакого закона, которому подчинялся бы отдельный человек. Это количественно регулярные соотношения только там, где дело касается больших чисел, содержащих в себе известное указание на совокупную физиономию народов, возрастов и полов; а также на каузальные факторы, которые содействуют в процессе, не будучи в отдельно взятом случае решающими.
Статистика допускающих словесное указание мотивов самоубийства только на первый взгляд проникает глубже в психологическом отношении. Эта статистика дает известную закономерность процентных показателей для самоубийств от пресыщения жизнью, от физических страданий, от страстей, от пороков (в том числе от морфинизма, алкоголизма), от траура и печали, от раскаяния и боязни наказания, от досады и споров. Однако в этой закономерности выражается более типология оценок, даваемых близкими покойного и органами полиции, чем психологическая действительность самих самоубийц. Кто столкнется однажды в своем близком окружении со случаем самоубийства, тот, если только он гуманен и одарен хотя немного психологическим ясновидением, узнает, что это событие делается понятным отнюдь не из одного-единственного мотива.
В конечном счете, всегда остается некая тайна. Но из-за этого не следует ставить пределов стараниям постичь то, что может быть эмпирически констатировано и что мы можем знать.
Проще всего кажется предположить в этом случае душевную болезнь: иные доходили даже до того, что объявляли каждого самоубийцу душевнобольным. Тогда вопрос о мотивах отпадает; проблема самоубийства как исчерпанная находится тогда за пределами мира здоровых людей. И все же это не так.
Есть душевные болезни в собственном смысле слова, начинающиеся в определенный момент времени, имеющие закономерное течение, или прогрессирующее, или приводящее к выздоровлению, предстающие здоровой личности как нечто чуждое для наблюдателя, а в случае выздоровления – и для понимающего свою болезнь пациента. Подобные, замечаемые по специфической симптоматике, душевные болезни критически мыслящий эксперт может диагностировать достаточно уверенно. На основе статистических данных можно предположить, что только около трети всех самоубийц в Германии в наше время являются душевнобольными. Но вопрос о доступных для понимания мотивах, также и для этой трети, тем самым отнюдь не снимается. Самоубийство не является следствием душевной болезни в таком же смысле, в каком лихорадка является следствием инфекции. Правда, в жизнь человека входит совершенно неподдающийся пониманию биологический фактор болезни, но только вследствие психических взаимосвязей, возникших на почве болезни, у некоторых (не у всех) больных происходит самоубийство. Часто невыносимое состояние страха со стихийной силой увлекает к самоубийству, которое при этом человек может подготовить с большой осмотрительностью, при дементивных процессах (Verblödungsprozessen) обращает на себя внимание инстинктивная наклонность к самоубийству, особенно применение необычных средств для этого. Если в одном случае здесь может показаться достаточной психотическая каузальность, то в другом случае душевнобольной оказывается в состоянии отреагировать на свое заболевание своим, сохраняющимся в самоубийстве, подлинным самобытием.
Среди двух третей самоубийц, не относящихся к числу душевнобольных, имеется, в свою очередь, необычно много аномальных (abnorme) людей. Но это не означает, что самоубийство можно непосредственно постичь как следствие аномальности. Отнюдь: нервные и психические аномалии отмечаются столь часто, что невозможно провести какую-либо границу между ними и индивидуальной вариацией в пределах нормы. Эти аномалии еще менее, чем душевные болезни, могут помешать анализу доступных пониманию мотивов самоубийства.
Ни душевная болезнь, ни психопатия не означают совершенной исключенности смысла. Они представляют собою только особые каузальные условия для экзистенции в действительном существовании, так же точно, как во всякое мгновение мы существуем (Dasein haben) единственно лишь благодаря подобным же, нормальным, но столь же непонятным условиям (витальная телесность, воздух, пища). Правда, психопатологические диагнозы дают нам эмпирические сведения о каузальных факторах, действующих по большей части, в конечном счете, недоступным для определения образом. Однако эти констатации как анализ патологического случая никогда не исчерпывают собою человека как экзистенцию. Скорее, экзистенция, до тех пор пока она вообще является в существовании, в этом своем явлении хотя и обусловлена, но отнюдь не исключительно определена реальными факторами. Всякое эмпирическое знание о человеке, подходя к своей границе, требует задать вопрос экзистенции, в возможной или действительной коммуникации.
2. Вопрос о безусловном.
– Если мы, не обращая внимания на казуистику, ставим вопрос о доступных пониманию мотивах самоубийства, то вступаем уже в некоторую другую сферу. Понятное как мыслимое есть лишь проект возможности, но никогда не есть целая действительность (Das Verstehbare ist als gedacht nur der Entwurf einer Möglichkeit, aber nie die ganze Wirklichkeit). Оно во всякое мгновение действительно только вместе с непонятным: недоступны же для понимания не только каузальные условия психического существования, но также и безусловность экзистенции, выражающейся в доступном пониманию, но образующей тот свободный исток, который как таковой остается тайной для всякого понимания. Отдельное самоубийство как безусловное действие невозможно в достаточной мере постичь по некоторому всеобщему каузальному закону или по доступному для нашего понимания типу, но оно есть абсолютная уникальность исполняющейся в нем экзистенции.
Следовательно, действие самоубийства нельзя познать как безусловное действие, но только в его обусловленности из его оснований. Поскольку, однако, оно может быть свободным действием экзистенции в пограничной ситуации, оно открыто для возможной экзистенции, ее вопроса, ее любви, ее ужаса. Поэтому оно составляет предмет этической и религиозной оценки, поэтому его осуждают, или дозволяют, или даже требуют.
Безусловный исток самоубийства остается некоммуникабельной тайной одинокого (Der unbedingte Ursprung des Selbstmords bleibt das inkommunikable Geheimnis des Einsamen). Если самоубийцы оставляют признания о мотивах, то остается вопрос: понимал ли самоубийца сам себя. Нигде в этих признаниях невозможно расслышать безусловной решимости. Можно попытаться лишь сконструировать возможности самоубийства, с целью – не постичь, но все же просветлить безусловность в ее истоке сверх всякой возможности объективного усмотрения.
Эта конструкция, казалось бы, делает для нас самоубийство на мгновение понятным, чтобы с тем большей определенностью потерпеть крушение от непостижимого: экзистенция в пограничной ситуации отчаивается в смысле и содержании своего и всякого вообще существования. Она говорит себе: все преходяще; к чему радость жизни, если все погибнет! Вина неизбежна. Существование повсюду, если мы будем смотреть на его конец, состоит из бед и горя. Всякая гармония есть иллюзия. Ничего существенного мы не знаем, мир не дает ответа на то, что мне я должен был бы знать, для того чтобы я мог жить. Я не давал согласия на то, чтобы желать этой жизни, и не в силах увидеть ничего такого, что бы могло побудить меня сказать жизни «да». Удивляюсь только, что большинство, в плену иллюзий, живут себе в своем счастье, подобно курам в саду, которых завтра зарежут. – Для того, кто говорит так, остается один-единственный смысл: с полной рассудительностью, не поддаваясь случайности мгновения или аффекта, перевести это свое отрицание жизни из области мысли в действие. Определенная конечная ситуация становится всего лишь поводом, а не истоком решения. Отрицающая свобода этого решения хотя и не может строить что-то в мире; но, уничтожая себя самое, она совершает точечный остаток своей субстанции. Она есть дпя себя нечто большее, чем ничтожность существования. Свою суверенную самобытность она спасает, говоря «нет», для своего экзистенциального самосознания.
Здесь, однако, конструкция срывается: отсутствие во всем прочной субстанции было основанием самоубийства. Но акт свободы, избранный с наивысшей степенью ясности, должен был бы привести в момент начинающего свершения к сознанию субстанции. Свобода коснулась края бездны и вдруг снова утверждает существование как пространство осуществления только что начатого опыта. Правда, тот, кто обрел решимость в тайне безусловности, не может вернуться назад; иначе ему пришлось бы сказать: «поскольку я решился, я остановлюсь», ибо решительность – это смысл для жизни (der Sinn, zu leben). Но то, что я пережил возможность этой решимости как границу и в этой решимости не сомневался в том, что найду в себе довольно силы, чтобы лишить себя жизни, – удостоверяет меня в субстанции существования; поскольку для нас только мир есть место экзистенции в ее действительности, субстанция в то мгновение, когда она пришла к себе, должна желать развернуться в мире. Таким образом, наша конструкция, будучи доведена до конца, как раз не дает осуществиться самоубийству. Если самоубийство, несмотря на это, совершают, то понимание на пути этой конструкции прекращается. Если я останусь на этом пути, то для того чтобы постичь фактическое самоубийство, мне придется допустить неясность в известном приведшем к самоубийству конфликте интересов, хотя само оно и не оставалось бы при этом безусловным действием. Или же мне пришлось бы уйти с путей этой конструкции: положительную близость к ничто в его трансцендентном исполнении как исток безусловности, хотя и невозможно было бы понять, но приходилось бы признавать. С судьбой вовлеченности меня связывает сострадание и боль, оттого что я, быть может, упустил возможность решения. Но перед лицом этого трансцендентного исполнения в ничто мной овладевает ужас; вопрос: истина ли оно? не оставляет покоя в упорядоченном мире.
Никто не может указать ни одного случая, который бы доказывал верность этой конструкции. Ибо эмпирически действительным всегда бывает лишь внешнее, которое, в свою очередь, должно иметь основание вне его самого. Поскольку экзистенцию можно воспринять только из возможной экзистенции, эту конструкцию свободы как негативности и эту возможность трансцендентного исполнения в ничто лишь по недоразумению можно принять за знание. Как таковое оно сделалось бы опасным для фактических ситуаций конфликтов, где подобная философия по совершенно иным мотивам могла бы послужить неясному в себе самоубийце обманчивым фасадом его сознания перед самим собою.
Свобода отрицательного как возможность принимает в этой конструкции множество форм: При бедности субстанции самобытия и исключительной одаренности человек бывает способен к такому богатству переживания, понимания, опыта, что он как самость чувствует себя в своей многозначности как бы ничтожным под тяжестью этой полноты переживания. Все представляется ему скорлупой в скорлупе, а есть ли ядро – неизвестно (Alles ist ihm Schale über Schale eines fraglichen Kerns). Если он вопрошает о самом себе, то кажется, будто он тает в ничто. Тогда он ищет себя, или без конца преображаясь все в новые, на мгновение увлекательные переживания, не будучи, однако, способен удержать ни одного, потому что каждое, как подлинное бытие его самости, исчезает перед ним вновь и сбивает с толку; или же в последовательности отрицательных актов, в которых желает обрести себя, в аскезе, в формальном следовании данным извне или созданным им же самим законам, или на пути иного рода причастности как подобного сознания самобытия в акте отрицания (Bewußtsein des Selbstseins im Verneinen). Как последний акт и вершину этого отрицания он избирает самоубийство, в котором мнит окончательно удостовериться в собственной субстанции. Кажется, будто в это мгновение он близок к обращению (Umschlag). А потому совершаемое самоубийство должно опять-таки почерпать свою безусловность из иного корня: если, например, в страстном влечении к ночи смерть давно уже казалась родной нам и стала сама положительностью, то преданность некоммуникабельной трансценденции мешает нам совершить поворот, ведущий обратно к жизни.
В другой конструкции самоубийство становится возможным, например, в том случае, если в повседневной жизни мы не можем нести бремя правильных обязанностей с тем неизменным сознанием внутреннего признания, которое знает, что они не ничтожны, хотя и не существенны, но перерабатывает и оформляет заботы порядка нашей повседневности (wenn im Alltag die Last der regelmäßigen Pflichten nicht getragen wird mit dem konstanten Bewußtsein innerlicher Anerkennung, die sie weder als nichtig noch als wesentlich weiß, sondern die Sorgen der Alltagsordnung verarbeitet und gestaltet). Тогда этому существованию противопоставляет себя неясная мысль о более истинной жизни и возникают неплодотворные трения. Самосознание, вместо того чтобы возрастать в историчности непрерывного действия, все более уничтожается. Человек чувствует себя как бы лишним (überflüssig); будто он только мешает другим; он страдает без всякого смысла. Может быть, его со страстью увлекает восхождение, на вершине которого он прощается с жизнью, видя, как надвигается на него опасность вновь отпасть в прежде бывшую опустошенность. Он желает отречься не в нищете, но в торжестве; жизнь должна быть богатой, исконной, – или же ее вовсе не должно быть. В минуту счастья, после многих дней приготовления, проведенных в светлом веселье, он уходит из жизни без единого слова -и говорит в конце только об удивительном покое, охватившем его, -симулирует несчастный случай. Это было бы самоубийство в ясности упоения, в рассудительности ума, единой с собою и с ничто как своей трансценденцией, но разрывающей всякую коммуникацию в мире и не оставляющей никому ни единого знака. Как весна, когда случается большинство самоубийств, подобно природе неустанно творит и разрушает, – так здесь перед нами было бы согласие на разрушение всего – из утверждения жизни.
Аргументы, которые приводит самоубийца в нашем представлении (чего, однако, в безусловности он как раз делать уже не станет), кажутся выражением изначального отсутствия веры (ursprünglicher Nichtglaube), – оттого ли, что он не обретает достоверности своей самости в абсолютном сознании, или что он объявляет ничтожным всякое существование в его пограничных ситуациях, или что он переживает чистое отрицание существования как свою единственную свободу, или же что он в радостном торжестве жизни избирает как истину жизни смерть. То, что подобным образом мыслит, а затем осуществляет самоубийца на основании неизбежных фактов, опровергнуто быть не может. Если мы последуем за такими мыслями, то, скорее, наоборот, представим самоубийство как самый логически понятный исход, тем более что упомянутый уже поворот обратно к жизни в мгновение готовности, мотивированной возникающим в этой решимости сознанием субстанции жизни, сам по себе не заключает в себе нисколько логической доказательности, но сам как мысль есть лишь выражение некоторой возможной веры. Вопрос: зачем самоубийство? – обращается в вопрос:
3. Почему мы остаемся жить?
– Во-первых, из ни о чем не спрашивающего удовольствия жить. Даже если мы задали свой вопрос, если всякая трансценденция исчезает для нас, если все становится для нас бессмысленным, мы все-таки продолжаем жить изо дня в день в силу нашей витальности, быть может, презирая самих себя, в смутной неясности. Поскольку в немалые отрезки нашей жизни мы фактически совершаем только это витальное существование, мы испытываем уважение к самоубийце, который свободно оказывает сопротивление абсолютности витального существования. Правда, в силу нашей витальности мы испытываем жуткий страх перед самоубийцей, говорим, что опасно следовать подобным душевным движениям и мыслям, что нужно держаться нормальных и здоровых. Но это оттеснение становится маскировкой, если с его помощью мы не позволяем подвергать сомнению нашу слепую витальность; нам бы хотелось избежать пограничных ситуаций, и, однако, мы не находим себе покоя, потому что жизнь по-прежнему отдана во власть той витальности, которая однажды покинет нас.
Или же мы живем не только витально, но также и экзистируя. Существованию присущ символический характер в силу самодостоверности актов нашей свободы. Нас удерживает в жизни не какой-либо знаемый смысл в мире как конечная цель, но присутствие трансценденции в тех жизненных целях, которые мы исполняем (Nicht ein gewußter Sinn in der Welt als Endzweck hält uns am Leben, sondern in den Lebenszwecken, die wir erfüllen, die Gegenwart der Transzendenz). Эта воля к жизни действительна как концентрация в том, что сейчас действительно. Нескончаемость возможного и абсолютные мерила, имеющие всеобщий характер, побудили бы нас к отрицанию существования, если бы уничтожили в нас сознание историчности. Если поэтому перед лицом возможного самоубийства при всей серьезности ситуации человек не только витально, но и экзистируя избирает жизнь, то этот выбор жизни есть одновременно ограничение в себе самом. Поскольку это ограничение означает исключение возможностей, акт отрицания, вместо того чтобы распространиться на все существование, восприемлется в существование. Когда мы в чем-то отказываем себе, соглашаемся с потерей возможностей, переносим неудачу, умеем выдержать взгляд прямо в лицо всеуничтожающим пограничным ситуациям, – само существование становится иным. Оно теряет ту абсолютность, которая присуща ему для нашей витальности. Если бы мир был целым, и был всем, то экзистенциально нам осталось бы лишь самоубийство. Только символический характер существования позволяет, не обманывая гармонией, говорить в относительности: «какова бы ни была она, жизнь, – она хороша». Хотя по-настоящему истинным это слово может быть только в припоминающем взгляде на свое прошлое, но его возможности достаточно для того, чтобы выбрать жизнь. (Sollte die Welt ganz und alles sein, so bliebe existentiell nur der Selbstmord. Erst der Symbolcharakter des Daseins erlaubt, ohne durch Harmonie zu täuschen, in der Relativität zu sagen: „wie es auch sei, das Leben, es ist gut“. Zwar eigentlich wahr kann dieses Wort nur im erinnernden Rückblick sein, seine Möglichkeit aber genügt, das Leben zu ergreifen).
На вопрос: «почему мы остаемся жить?» – следует в конечном счете ответить: решимость жить существенно отлична от решимости лишить себя жизни. В то время как самоубийство как активное действие затрагивает целое жизни, всякая активность в жизни есть партикулярная активность, и оставаться жить в свете возможности самоубийства есть недеяние (Unterlassen). Поскольку я не сам дал себе жизнь, я решаю только оставить существовать то, что уже есть. Не существует соответствующего тотального действия, которым бы я давал себе жизнь, как существует действие, которым я себя жизни лишаю. Поэтому есть только одна-единственная боязнь самоубийства, переступающего границу, за которую не проникает уже никакое знание.
4. Невыносимость жизни.
- Положение, гласящее, что «жизнь хороша», не имеет абсолютной значимости, или же оно должно было бы включать и самоубийство как благо. Жизнь в частных ситуациях и вследствие собственных витальных перемен может сделаться для экзистенции невыносимой. В этих условиях самоубийство могло бы стать безусловным действием не как направленное в абсолютном умонастроении на существование вообще, но как личная судьба, которую надлежит принять в специфических обстоятельствах. Возможно дать следующую дальнейшую конструкцию:
В полной покинутости, в сознании ничто, добровольный уход из жизни подобен для одинокого возвращению к себе самому. В мире его преследуют терзания, он не в силах продолжать борьбу с миром и с собою, в болезни или в старости – беззащитен перед возможностью впасть в нищету, и грозит опасность сорваться и оказаться ниже собственной сущности, так что возможность лишить себя жизни предстает утешительной мыслью, ибо смерть кажется ему спасением. Там, где сходятся вместе неизлечимая физическая болезнь, недостаток всех средств к жизни и полная изоляция человека в мире, – там с полнейшей ясностью собственное наше существование может быть без всякого нигилизма подвергнуто отрицанию, – не вообще, но то, что теперь еще могло бы в нем оставаться. Это граница, на которой сохранение жизни уже не может быть более долгом: если процесс становления самости уже более невозможен, физическое страдание и требования мира становятся до такой степени уничтожающими, что я уже не могу оставаться тем, кто я есть; если хотя не отказывает смелость, но исчезают силы, а с ними и физическая возможность; и если в мире нет никого, кто мог бы любя поддержать мое существование. Глубочайшей глубине страдания можно положить конец, хотя – и потому что – готовность к жизни и к коммуникации бывает здесь всего полнее.
Совершенно одинокий, кому те, кто ближе всего ему в существовании, ясно дают понять, что они живут в других мирах, – кому закрыт путь к любому осуществлению, – кто уже не способен более обрести в самом себе чистоту сознания бытия, – кто видит, как уклоняется, – если он, без упрямства, в спокойствии и зрелой решимости, и после того как приведены в порядок все земные дела, лишит себя жизни, – он, может быть, может сделать это, как будто бы он приносил себя в жертву; самоубийство становится тогда последней в жизни свободой. В нем есть доверие, в нем он спасает чистоту, и вера, не причиняет вреда ни одному живому человеку, не разрывает никакую коммуникацию, не совершает предательства. Он стоит тогда на границе невозможности осуществлений, и никто ничего не теряет.








