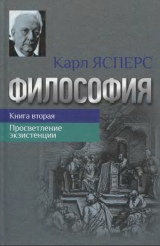
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
В объективном рассмотрении я не могу с убедительностью постичь мыслью необходимости смерти и бренности (Vergänglichkeit). Но для экзистенции это исчезновение в явлении составляет часть ее самой. Не будь этого исчезновения, я как бытие был бы нескончаемой длительностью и не экзистировал бы. Правда, я как экзистирующий в явлении должен признавать осуществление и решение во времени чем-то абсолютно важным, но я не вправе ни пассивно наблюдать, ни преднамеренно вызывать это исчезновение в явлении, но должен овладевать им во внутреннем усвоении. Не жажда смерти и не страх перед смертью, но исчезновение явления как присутствие экзистенции становится истиной (Weder Verlangen nach dem Tode noch Angst vor dem Tode, sondern Verschwinden der Erscheinung als Gegenwart der Existenz wird zur Wahrheit). Я теряю экзистенцию, если принимаю существование за абсолютное, как если бы оно было бытием в себе, и так запутываюсь в нем, что я сам есмь только существование в чередовании забывчивости и страха. Я впадаю в противоположное уклонение (Ich gleite umgekehrt ab), если нахожу явление существования настолько безразличным, что презираю его и что мне в исчезновении ни до чего нет никакого дела. Я действителен как возможная экзистенция, только если я являюсь как существующий, будучи, однако, в явлении чем-то большим, чем явление (Als mögliche Existenz bin ich wirklich nur, wenn ich daseiend erscheine, in der Erscheinung aber mehr als Erscheinung). Если поэтому я хотя и не могу уничтожить страдания от своего конца как существование, но могу в то же время преодолеть его в достоверности своей экзистенции, т.е. сохранить свою власть над ним. Смерть есть для экзистенции необходимость ее существования в силу исчезновения ее – всегда в то же время неистинного – явления.
Сказанное таким образом не следует понимать как нечто всеобщее; оно не таково; смерть не есть нечто всеобщее в пограничной ситуации; она бывает всеобщей только как объективный фактум. В пограничной ситуации смерть становится историчной смертью; она есть или определенная смерть ближайшего, или моя смерть. Преодолевается она не при помощи всеобщего познания (Einsicht), не в объективном утешении, оберегающем мою забывчивость мнимо действительными доводами, но только в открытости (Offenbarkeit) удостоверяющегося в самом себе экзистирования.
2. Смерть ближайшего.
– Смерть ближайшего, самого любимого мною человека, с которым я нахожусь в коммуникации, есть самая глубокая цезура в являющейся жизни. Я остался один, когда, в последнее мгновение оставив умирающего одного, я не смог последовать за ним. Ничего нельзя возвратить; это конец для всякого времени. К умирающему уже нельзя обратиться с речью; умирает каждый в одиночку; одиночество перед лицом смерти кажется полным – и для умирающего, и для остающегося. Явление совместного бытия (Zusammensein), остающееся, пока еще есть сознание, эта боль разлучения, есть последнее беспомощное выражение коммуникации.
Но эта коммуникация может корениться так глубоко, что само завершение в умирании становится ее явлением, и коммуникация сохраняет бытие как вечная действительность. Тогда экзистенция преображается в своем явлении; ее существо необратимо и скачком продвигается вперед. Одно лишь существование может забыть, может утешать себя, но этот скачок подобен рождению новой жизни; смерть восприемлется в жизнь. Жизнь доказывает истину коммуникации, переживающей самую смерть, когда жизнь осуществляет себя такой, какой она стала благодаря коммуникации и какой она должна быть отныне. Наша собственная смерть перестала быть только пустой бездной. В ней, уже не покинутый в одиночестве, я как бы соединяюсь с той экзистенцией, с которой состоял в самой тесной коммуникации.
Абсолютное одиночество в лишенности коммуникации (Коmmunikationslosigkeit) в корне отлично от того одиночества, которое происходит от смерти ближайшего. Первое – немая недостача, как сознание, в котором я не знаю себя самого. Напротив, та коммуникация, которая однажды осуществилась, раз навсегда уничтожила абсолютное одиночество; подлинно любимый остается экзистенциально присущ (der wahrhaft Geliebte bleibt existentielle Gegenwart). Уничтожающая тоска того, кто остается жить в одиночестве, олицетворенная невыносимость разлуки все же сопряжена в явлении с некоторой защищенностью, в то время как отчаяние изначально одинокого человека хотя и не умеет жаловаться на потерю, однако всегда бывает незащищенным в томлении по неведомому бытию. Действительная потеря того, что было, пусть и не знает утешения для меня как чувственно существующего человека, благодаря возможной для меня верности становится действительностью бытия (Der wirkliche Verlust dessen, was war, zwar ohne Trost für mich als sinnlich daseienden Menschen, wird durch die mir mögliche Treue Wirklichkeit des Seins).
Если смерть другого есть экзистенциальное потрясение, а не просто объективный процесс, сопровождающийся партикулярными душевными движениями и интересами, то через эту смерть экзистенция освоилась в трансценденции: то, что разрушается смертью, есть явление, а не само бытие.
Возможна более глубокая радость, покоящаяся на основании неизгладимой боли.
3. Моя смерть.
– Смерть ближайшего имеет тотальный характер и становится тем самым пограничной ситуацией, если этот ближайший для меня – один и единственный. Даже тогда решающей пограничной ситуацией остается все же моя смерть как моя, как эта единственная, вовсе не объективная смерть, не знаемая мною в общих понятиях.
Смерть как процесс существует только как смерть другого. Моя смерть для меня непереживаема (unerfahrbar), я могу переживать только в отношении к ней. Физические боли, страх смерти, ситуацию, на первый взгляд, неизбежной смерти я могу пережить и выдержать эту опасность: непереживаемость смерти, однако, неустранима; умирая, я претерпеваю смерть, но никогда не переживаю ее опытом. Я или приближаюсь к смерти в своих отношениях к ней как живого существа, или же претерпеваю предварительные ступени известного процесса, который может или должен привести к смерти. Я могу и умирать, не испытав всех этих переживаний. Они как таковые еще не служат выражением пограничной ситуации.
В существовании, глубоко поражаясь ограниченностью, теснотой и разрушением, я все-таки опытом узнаю возможность снова выбраться к себе из пропасти; потерпев неудачу, я могу быть дарован себе самому как вновь рождающаяся достоверность и не знаю, как это случается. Однако, умирая, я претерпеваю свое абсолютное незнание, где отпадает возможность всякого возвращения; поскольку я уже не могу удержать себя из ничто в бытийном удовлетворении живущего образа себя самого, я бессильно стою перед ним, как повергающей меня в оцепенение точкой моего существования. «Потом – молчанье»49. Но это молчание в незнании существует еще как нежелание знать то, чего я знать не в состоянии, как вопрос, на который вместо ответа, из которого бы я в смерти и в жизни знал, кто я такой, обращается ко мне, скорее, требование (Anspruch): жить и испытывать свою жизнь перед лицом смерти.
Так живое присутствие пограничной ситуации смерти для экзистенции поневоле рождает двойственность всякого опыта существования в деятельности: что остается существенным перед лицом смерти, то мы сделали экзистируя; что же слабеет и ветшает перед лицом ее,– не более чем существование (Was angesichts des Todes wesentlich bleibt, ist existierend getan; was hinfällig wird, ist bloß Dasein). Если перед лицом смерти я ничего уже не могу признавать важным, но просто нигилистически впадаю в отчаяние, – это подобно потерпевшей крушение экзистенции; смерть не есть больше пограничная ситуация, если она есть для меня объективное уничтожение, как превосходящее силой несчастье. Экзистенция как бы спит перед лицом смерти, потому что смерть служит ей не для пробуждения ее возможной глубины, но для того, чтобы все обессмысливать.
Я теряю себя ради простого явления, если я держусь за особенное, как нескончаемо наличное, так, как будто бы оно было абсолютно, за длительность как таковую; если мною владеют страх и забота относительно конечных целей, вместо того чтобы эти цели были для меня только необходимой средой существования, в которой я совершаю свое восхождение; если я позволяю жажде жизни, ревности, воле к авторитету, гордости захватить меня в плен в существовании, при этом не находя в них, которыми я побеждаюсь на мгновения как чувственное существо, пути обратно к себе самому. Правда, все, что мы делаем, мы делаем в мире как существовании, и все это в конечности своего исчезновения неважно. Если, однако, некоторые действия становятся существенными как явление экзистенции, то эту весомость и существенность может получить даже объективно самое безобидное. Тогда смерть становится зеркалом экзистенции, потому что всякое явление необходимо становится исчезающим, если содержание существования – это экзистенция. А потому смерть воспринимается в экзистенцию, однако не как философская спекуляция о ней и сообщаемое в языке знание о ней, но как подтверждение ее самой и как релятивизация простого существования.
Для экзистирующего в пограничной ситуации смерть не есть ни близкий, ни чужой, не враг и не друг. Она есть и то, и другое, в движении через противоречащие друг другу обличья. Смерть не останется подтверждением экзистенции, если экзистенция не обретет прямолинейной позиции по отношению к ней: не в жесткой атараксии, уклоняющейся от пограничной ситуации в неподвижности ничем уже не трогающегося точечного самобытия; и не в мироотрицании, обманывающем себя и утешающем себя фантастическими картинами (Phantasmen) иной, потусторонней жизни.
Для неограниченной воли к жизни, которая видит мир и саму себя позитивистски, принимает длительность как абсолютный масштаб бытия, неизбежность смерти служит причиной к растерянности и отчаянию. Забывчивость в сознании неопределенности времени ее наступления позволяет ей скользить все далее, не обращая на это внимания.
Если не знающая оговорок воля к жизни не может избежать пограничной ситуации одним забвением, то она переменяет для себя смысл смерти как границы. Ей хотелось бы внушить себе, к примеру, что страх смерти коренится в простой ошибке мысли, которую можно устранить правильным мышлением. Этот страх, говорят, основан на представлениях о мучительном бытии после смерти, которого вовсе нет, или на страхе перед самим процессом смерти, который как таковой совершенно незаметен для нас, поскольку всякая боль присуща только живому, и нет такой боли, из которой невозможно бы было возвратиться к жизни. Все дело только в том, чтобы прояснить для себя, что, когда я есть, то моей смерти нет, а когда настает моя смерть, то меня нет; а потому моя смерть вовсе меня не касается. Каждая из этих мыслей сама по себе правильна и в самом деле побеждает необоснованные представления, усиливающие наш витальный страх; но ни одна из них не в силах уничтожить в нас содрогание ужаса даже перед одной мыслью о небытии. Хотя и кажется, что эти мысли прямо смотрят в лицо самой смерти, но они рождают в нас лишь тем более глубокую забывчивость в самом существенном. При этом отставляют в сторону то, что мне еще надлежит довести до конца, что я еще не готов, что мне еще нужно исправить ошибки (wiedergutzumachen habe), – но прежде всего -то, что мне вновь и вновь навязывает себя сознание бытия как простого существования, лишающееся всякого смысла при представлении об абсолютном конце, и что, следовательно, все как простая бренность безразлично для меня. А если мне навязало себя такое сознание, то при смещении смыслов становится снова возможным забвение – в представлении о чувственном, временном бессмертии: я обретаю другую форму существования, в которой я продолжаю однажды начатое, моя душа странствует через эти формы существования, только одна из которых есть моя теперешняя форма. Я прошу доказательств бессмертия и совершенно довольствуюсь их вероятностью. Однако не только все доказательства бессмертия души содержат ошибки и теоретически безнадежны, а вероятность в этом абсолютно важном деле есть нечто противоестественное, -но более того: доказать можно именно ее смертность. Жизнь нашей души эмпирически привязана к телесным органам; опыт сна без сновидений показывает нам, в отрицательном ретроспективном опыте, несуществование; опыт зависимости памяти от мозга при заболеваниях показывает даже возможность телесной жизни при умирании души. То, чем является для нас существование, обусловлено чувственным миром, памятью, определяется волением и сознанием. Если, несмотря на то, мыслящий человек, столь часто ловивший себя самого на ошибках мысли там, где прежде он мнил, что знает нечто с несомненностью, не отказывается от скепсиса в отношении к самому себе даже в случае подобной достоверности собственной смертности, то он с критической смелостью говорит: существование бессмертия весьма маловероятно (es ist sehr unwahrscheinlich, daß es eine Unsterblichkeit gibt), причем под бессмертием он подразумевает продолжение существования во времени в какой-либо чувственной форме существования при непрерывности воспоминаний с нашей теперешней жизнью.
Смелость в пограничной ситуации есть отношение к смерти как к неопределенной возможности самобытия. Смелость ввиду возможного риска посчитать неистинными представления об аде и чистилище и о силе церковных средств благодати (Gnadenmittel) нужна бывает, правда, только там, где человек с ранних лет воспринял эти представления как действительность в самую субстанцию собственной жизни, тогда как в иных случаях они могли бы вновь обрести силу только в состоянии совершенной несостоятельности, если человек опустится до того уровня, на котором по отношению к трансценденции могут пугливо поступать по максиме «[сделаем] на всякий случай». – Смелость перед лицом смерти как конца всего, что действительно для меня как зримое и припоминаемое, сводят к некоторому минимуму, если при помощи чувственных представлений о потустороннем отменяют смерть как границу и делают ее простым переходом от одной формы существования к другой. Смерть теряет тогда ужас небытия. Истинное умирание прекращается. Сладость существования, вид исчезновения которой столь пугает естественную волю к жизни, мы снова усматриваем в ином облике, и надежда, благодаря имеющим характер авторитета гарантиям, становится почти что знанием. И вот смерть преодолена, ценой утраты пограничной ситуации. В противоположность этому смелость значит – подлинно умирать, не предаваясь самообманам.
4. Двоякий страх.
– Страх в содрогании ужаса перед небытием неустраним для воли к существованию, и он остается последним для нее, если существование вообще есть для нас все, а не принимается только в определенном смысле являющейся действительности как жизни в мире с воспоминанием и сознанием. Вопреки попытке скрыть от себя этот страх представлениями о чувственном бессмертии следует радикально постичь ничто, остающееся в смерти, поскольку мы мыслим о чувственном существовании. Только из этого ничто может явиться для меня достоверность истинной экзистенции, которая является во времени, но сама не временна. Этой экзистенции знакомо иное отчаяние от небытия, которое может настигнуть ее, несмотря на ее витальное существование по контрасту с его одновременной свежестью и полнотой. Страх экзистенциального небытия настолько отличается качеством от страха перед витальным несуществованием, что, несмотря на одинаковость слов «небытие» и «смерть», в нас может подлинно господствовать лишь один страх. Только исполняющая экзистенциальный страх достоверность может релятивировать страх за существование. Из присущей экзистенции достоверности бытия возможно совладать с жаждой жизни и найти покой перед смертью как невозмутимость в знании о конце. Но экзистенциальная смерть, если в нас не осуществится, через коммуникацию в историчном сознании, вера в достоверность бытия, превращает для нас перспективу биологической смерти в совершенное отчаяние: тогда кажется, что возможна только жизнь в забывчивости и сокрытиях и пустое незнание. Если таким образом эмпирическое существование становится абсолютным, а экзистенциальный страх оттесняется в сторону, то приходится действовать против возможной совести экзистенции, чтобы только жить любой ценой. Жажда жизни релятивирует экзистенциальный страх, уничтожает экзистенцию и порождает растерянный страх смерти (ratlose Angst vor dem Tode).
Экзистенциальная достоверность бытия, даже в парении исполненного незнания, не может стать утешением для воли к жизни, которая, пока еще есть существование, держится за это существование. Этот страх не может быть уничтожен каким-либо знанием, но может быть устранен только в мгновенном присутствии экзистенциальной действительности: в мужестве умирать, присущем героическому человеку, который прилагает усилия – из свободы; рискуя жизнью там, где человеку дано бывает в светлости сознания знать и желать так, чтобы отождествлять себя самого со своим делом, и чтобы он, будучи в себе уверен в собственном бытии, мог сказать себе: здесь я стою и гибну (hier stehe ich und falle); всюду, где экзистенциальная действительность взирает навстречу смерти в сознании такого бытия, которое является себе во времени и может знать о себе только во времени как явление, но в нем достоверно имеет некоторый исток, которого не знает (überall wo die existentielle Wirklichkeit dem Tode entgegenblickt in dem Bewußtsein eines Seins, das sich in der Zeit erscheint und von sich nur in der Zeit als Erscheinung wissen kann, sich aber darin eines Ursprungs gewiß ist, den es nicht weiß).
Поскольку, однако, эта вершина не есть повседневность, в экзистенциальной подлинности всегда остается, в свою очередь, двойственность: страх смерти и охота жить, с одной стороны, -и непрестанно вновь обретающая себя достоверность бытия, с другой стороны. Готовность к смерти (Gefaßtsein auf den Tod) – это спокойная позиция, в которой еще получают слово оба эти момента. В ней преодолевают жизнь, не презирая ее; мы должны вновь и вновь переживать на опыте боль смерти, а экзистенциальную достоверность мы всякий раз можем обретать заново. Перед лицом смерти жизнь становится глубже, экзистенция получает большую достоверность самой себя; но жизни по-прежнему грозит опасность пугливо потерять себя самое в той пустоте, в которой помрачается экзистенция; кто был однажды смел, тот решительнее всего подтолкнет себя вперед воспоминанием о самом себе, но он узнает и границу своей свободы.
Смелость невозможна как стоический покой в стабильной длительности, ибо в этом покое экзистенция совершенно опустела бы. Двусмысленное существование, в котором истина существует не как наличность, требует от нас постоянно обретать свою готовность из некоторой боли. Кто не удержит в себе в каком-либо смысле своего отчаяния от утраты самого любимого человека, тот так же точно потеряет свою экзистенцию, как и тот, кто идет ко дну в отчаянии, – кто забывает свой ужас перед небытием, – потеряет ее точно так же, как и тот, кто гибнет, страшась этого ужаса. Только из отчаяния даруется нам достоверность бытия. Характер нашего сознания бытия таков, что существует лишь тот, кто смотрел в лицо смерти. По-настоящему существует как самость тот, кто рискнул собою как явление (Nur aus der Verzweiflung wird die Seinsgewißheit geschenkt. Unser Seinsbewußtsein hat den Charakter, daß nur ist, wer dem Tod ins Angesicht sah. Eigentlich er selbst ist, wer als Erscheinung sich wagte).
5. Двоякая смерть.
– Двойственность страха за существование и страха за экзистенцию представляет нам в двояком виде ужас (Schrecken) смерти, – как существование, которое неподлинно (Dasein, das nicht eigentlich ist), и как радикальное небытие.
Существование, которое при небытии экзистенции все же есть, превращается в ужас нескончаемой жизни, лишенной возможностей, лишенной действования и сообщения. Я умер и должен жить так вечно; я не живу и как возможная экзистенция терплю муку невозможности умереть (die Qual des Nichtsterbenkönnens). Покой радикального небытия был бы избавлением от этого ужаса длящейся смерти (Die Ruhe des radikalen Nichtseins würde die Erlösung von diesem Schrecken des dauernden Todes sein).
Если, таким образом, это небытие становится в существовании манящей смертью, к которой (auf den hin) я живу, то я устранился от всего, мне не может быть более никакого дела ни до одного человека, и я в душе своей уже словно бы лишил себя жизни.
Небытие, которое совершенно не есть, становится ужасным для экзистенции в той мере, в которой она в существовании предала свою возможность. Но осуществленная возможность исполняет смыслом жизнь, которая, старея, может дойти до того, что признает себя вправе сделаться пресыщенной своей жизнью. Без всякого дальнейшего будущего она имеет покой как бытие в существовании, хотя ей и не знакомы ни существование после смерти, даже только как вопрос, – ни сущее небытие, даже только как ужас представления. Ужас действителен в той мере, в какой я не жил, т е. не решал, а потому и не обретал для себя бытия самости; покой -в той мере, в которой я осуществлял возможность. Чем решительнее я доводил до завершенности, пусть и не для знания в мире, но в достоверности самобытия, – чем более растратила себя возможность – не ради упущения (Versäumen), но ради действительности, -тем более экзистенция приближается к позиции, на которой она с охотой умирает как существование, присоединяясь к своим почившим (als Dasein gern zu sterben, hin zu ihren Toten).
Но если грозящее нам небытие, вместо того чтобы отбросить нас к исполнению экзистенции в существовании, становится в результате обращения призывом: поспешить еще потреблять как можно более (noch schnell so viel wie möglich zu genießen), то это будет означать только отбрасывание себя в простое существование, согласно положению: будем пить и есть, ибо завтра умрем50. В нескончаемости лишь исчерпывающегося и повторяющегося наслаждения существованием эта позиция не дает решения. Важно ведь не то, чтобы протянуть подолее свое безнадежное существование и только повторять его как существование, но важно исполнить его своим решением, отождествляя себя с историчной действительностью. Повторение не будет нескончаемостью и станет исполнением, только если оно обретет вид верности.
6. Защищенность в смерти.
– Смерть становится глубиной бытия не как покой, но только как завершение (Vollendung). Хотя в объективной мысли и невозможно постичь необходимости смерти как неотъемлемо присущей самой жизни, но все же это сознание ее принадлежности к составу жизни неистребимо. В жизни все, чего мы достигли, как бы мертво для нас. Ничто завершенное не жизнеспособно. Поскольку мы стремимся достичь завершения, мы стремимся к мертвому, как готовому. Поэтому завершенное представляется нам в жизни партикулярным, ступенью и исходным пунктом. То, что прежде казалось целью, становится средством жизни. Жизнь остается объемлющим целым. Мысль: привести к законченному совершенству самое жизнь, – представляется нам противоестественной мыслью. Как зрелище для других, жизнь еще может иметь характер завершенности, но как действительная жизнь, она лишена его. В жизни остаются напряжение и цель, неадекватность и незавершенность. Поскольку же самая активная жизнь направляется к своему завершению, она направлена к своей собственной смерти. Правда, действительная смерть резко насильственна, она прерывает: она – не завершение, а конец. Но, несмотря на это, экзистенция относится к смерти как к необходимой границе своего возможного совершения.
И все-таки этой мысли недостаточно для просветления того обстоятельства, что самая подлинная жизнь направлена к смерти, а утомленная жизнь есть страх перед смертью. Кажется, будто смерть от любви в исступлении юности как наивный и не ведающий сомнений героизм способна предвосхитить на ступени бессознательного то, что с большей строгостью и светлостью предстает на ступени сознательности и ответственности как активный отстаивающий свое дело героизм. Но смерть от любви предвосхищает нечто такое, что уже вовсе не подает голоса в этом активном героизме рискующей решимости: глубина смерти как собственное бытие, возможность того, что высшая жизнь желает смерти, вместо того чтобы страшиться ее. Покровы явления падают, и в этом разоблачении открывается как некая истина, что смерть – не граница, а завершение (In einer Entschleierung der Erscheinung öffnet sich wie eine Wahrheit der Tod nicht als Grenze, sondern als Vollendung). Это -то совершенное, в чем тонет и гибнет все казавшееся бытием в существовании. Но подобного рода положения сомнительны, и с необходимостью рождают недоразумения. Здесь имеется в виду не недовольное нежелание страданий жизни (unmutige Nichtmögen des Lebensleids), не ненависть к себе самому, не роскошествующее смешение вожделения, муки и смерти, не усталая потребность покоя. Смерть может иметь для нас глубину, только если к ней стремятся не ради бегства; ее невозможно желать из непосредственности, и нельзя желать ее внешним образом. Глубина означает, что здесь отпадает присущий ей характер чуждого, что я могу двигаться к ней как к своей основе, и что в ней есть завершение, но непостижимое завершение. Смерть была меньше, чем жизнь, и требовала смелости. Смерть больше, чем жизнь, и дает защищенность (Tod war weniger als Leben und forderte Tapferkeit. Tod ist mehr als Leben und gibt Geborgenheit).
7. Перемена в смерти с экзистенцией.
– Не существует одного пребывающего отношения к смерти, которое бы можно было высказать как правильное. Скорее, мое отношение к смерти меняется в продолжение жизни с каждым скачком нового обретения, так что я могу сказать: смерть меняется вместе со мною. Поэтому не составляет противоречия себе самому, если человек всеми фибрами своего существа держится за жизнь (mit allen Fasern seines Wesens am Leben hängt), предпочитает всякую действительность существования бледному как тень небытию, и если, еще любя жизнь в ее противоречивости и глупости, он презирает ее; если он, казалось бы, впадает от смерти в отчаяние и осознает перед лицом смерти свое подлинное бытие; если он не постигает – и все же доверяется; если он видит ничто – и все-таки уверен в некоем бытии; если он видит в смерти друга и врага, избегает – и жаждет ее. Смерть есть всегда тождественный себе факт лишь как объективный фактум; в пограничной ситуации она не перестает быть, но облик ее изменчив, она такова, каков в это мгновение я сам как экзистенция. Она не окончательно есть то, что она есть, но воспринята в историчность моей, кажущейся уверенной, экзистенции (Er ist nicht endgültig, was er ist, sondern aufgenommen in die Geschichtlichkeit meiner sicher scheinenden Existenz).
Страдание
1. Фактическое страдание.
– Необозримо полчище страданий, которые в иных ситуациях пробиваются на первый план, в других же мы можем с независимым видом обойти их молчанием, и все же никогда не можем игнорировать их. Физические боли, которые нам снова и снова приходится выносить: – болезни, которые не только подвергают сомнению саму жизнь, но принуждают живого человека опускаться ниже его собственной сущности; – бессильное напряжение, срывающееся в своей воле к одолению и неизбежно являющее вместо действительного лица моей сущности ее искаженное лицо; – начало душевной болезни, сознаваемое самим больным и повергающее его поэтому в состояние, едва ли доступное переживанию другого, хотя человек не умирает и не теряет своего Я; – болезненное старение, в смысле захирения (Verkümmerung); – уничтожение людей силой и властью других и последствиями зависимости в любой из форм рабства; – принужденность голодать. – Страдание – это ограничение существования, частичное уничтожение; за всяким страданием стоит смерть. Правда, есть огромные различия в характере страдания и в мере наших мучений. И все же в конце концов всех может постичь одна и та же участь, и каждый должен нести свою долю страданий, от этого не избавлен никто.
2. Отношение существования к страданию.
– Если я веду себя так, как будто бы страдание не есть что-то окончательное, но то, чего можно избежать, то я еще не нахожусь в пограничной ситуации, но воспринимаю страдания как хотя и нескончаемые численно, но не принадлежащие необходимо к составу существования; это для меня – отдельные страдания, они не затрагивают целокупности существования.
Я борюсь со страданием, исходя из предпосылки, что оно может быть уничтожено (daß es aufhebbar ist). Эта борьба в самом деле венчается успехом и становится условием существования человека. Каждый участвует в этой борьбе и, пока он добросовестен и видит ситуацию, требует от себя самого предельного напряжения в этой борьбе, использующей все рациональные и эмпирически целесообразные средства. Правда, этот успех всегда бывает ограниченным. Тем не менее, однако, страдание как не принадлежащее якобы к составу существования как такового домысливается в некоторой утопии: если только биология и медицина достигнут вершин своего развития, а политическое искусство достигнет совершенства справедливости, они научат нас избегать всякой боли и болезни и всякой стесняющей нас зависимости; смерть будет подобна безболезненному, не желанному, но и не пугающему, угасанию светильника.
Эти оконечивающие страдание мысли кажутся спасительными, но они не в силах освободить нас. Существование, которому не хочется смотреть прямо в лицо необходимости страдания, принуждено искать путей самообмана. Я уклоняюсь от страдания, – в себе самом – когда не воспринимаю фактов и когда поэтому они не трогают меня экзистенциально, я не перевожу эти факты в деятельность, но только претерпеваю их; я инстинктивно ограничиваю свое поле зрения, – например, не хочу узнать правды от врача, не хочу признать своей болезни, не хочу видеть своих физических и духовных недостатков, не желаю прояснить себе свою социологическую ситуацию в действительности; вместо того чтобы, напрягая все силы для устранения страданий, ясно представлять себе границу их нестранимости, я отказываюсь от этой ясности и вместе с тем отрекаюсь в то же время от разумной и действенной борьбы со своими страданиями, утверждая только в неистовой злобе, будто виной всему злая воля и глупость других, и находя утешение в пассивной мысли о конце всех страданий, который якобы должен наступить просто с уничтожением имеющегося налицо виновного. Или же я уклоняюсь от страдания в своем отношении к другому, держась на дистанции, своевременно удаляясь прочь от человека, если его бедствие становится неисцелимым. Так мы углубляем пропасть, разверзающуюся между счастливыми и страдающими, мертвым оцепенением, или умолчанием; мы становимся равнодушны и бесцеремонны, и наконец даже презираем и ненавидим страдающего, подобно тому как иные животные замучивают до смерти своих больных сородичей.








