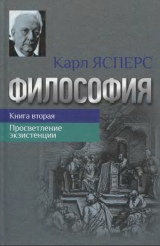
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц)
Поскольку я, предпринимая попытку просветления экзистенции, принужден говорить объективностями, то все, что философия подразумевает экзистенциально, непременно должно быть возможно понять превратно: как психологию, логику, объективную метафизику.
В результате же происходит смешение самых крайних противоположностей:
а) Слепая инстинктивность мгновения, находящая себе выражение в аффекте и в произволе «я так хочу», непроницаемая витальная сила жизни самой по себе и упоения жизнью (не знающего верности и формовки, и не имеющего образующего действия на дальнейшее существование) противостоят объективно столь же иррациональному, возводящему свою действительность из истока свободы, внутренне связному в себе и ничего не забывающему; тогда то, что объективно кажется произволом, заключено на самом деле в рамку последовательности такой жизни, которой знакомо сознание вечной достоверности, в противоположность преходящему упоению в мнимой достоверности мгновенного удовлетворения.
б) Если кто-нибудь говорит о другом человеке: он всегда говорит о самом себе, даже если обсуждает деловые проблемы, то это может иметь два значения: упрек в том, что человека не покидает эгоцентрическая заинтересованность эмпирической индивидуальности; или же самое искреннее согласие с ним, ибо он говорит только истинно и обязательно, а значит, – из глубины своей экзистенции. То, что кто-нибудь придает бесконечно большое значение самому себе, может означать суетную замкнутость в тесноте своей эмпирической индивидуальности или же то, от чего для нас все и зависит в решающей степени: тревога о своей подлинной самости.
в) В жизни науки к смешениям объективно предрасполагает не исходящая из существа дела, возникающая из посторонних мотивов заинтересованность исследователя в определенном результате и восторженная любовь энтузиаста как основание исследовательской работы. И то, и другое противоположны безличному научному достижению, которое, будучи содержательно пустым, лишь случайно бывает полезным для другого. Дельность идеи, которая, служа некоторой экзистенции, господствует в исследовательской работе, можно спутать с мнимой дельностью, которой ищут для себя лишь как некой «пристройки» в нескончаемых аргументациях, самооправданиях, и в твердых, значимых результатах.
г) Экзистенция имеет абсолютно независимую точку, где она покоится на самой себе (и из которой она необходимо вступает в коммуникацию). С этим объективно сходствует и может ввести в иллюзию и смешение самоизоляция от других для защиты одной только эмпирической индивидуальности и чувствительности (из которой уже невозможна бывает никакая подлинная коммуникация).
д) Историчная сторона отдельной экзистенции в ее объективной особенности есть явление ее бытия; объективно такая же на вид особенность, как прекрасное, но нескончаемое многообразие, есть предмет прелести, любопытства и наслаждения. Абсолютно историчная экзистенция сжимается, вступая в явление особенного; нескончаемость особенного остается хаотическим рассеянием (Die absolut geschichtliche Existenz kontrahiert sich in der Erscheinung eines Besonderen; die Endlosigkeit des Besonderen bleibt chaotisches Verwehen).
Эти смешения суть примеры сплошь и рядом проявляющейся двусмысленности экзистенции в ее явлении и высказываний о ней. Эту двусмысленность не в силах отменить никакое знание, ее может одолеть только ответственная за себя возможная экзистенция. За эту иллюзию, пусть даже никакой чистый интеллект не может постичь ее и предотвратить ее появление, мы все-таки несем поэтому ответ, как за свою вину. Критическая совесть возможной экзистенции стоит словно между двух миров, которые для одного лишь рассудка кажутся одним миром: между явлением ничтожного и явлением экзистенции.
Жизнь этой критической совести есть труд различения этих сил, смешение которых превращает все в кажимость и иллюзию; но разделение их нужно постоянно совершать снова и снова. Существование как таковое имеет своим условием эмпирические силы, экзистенциальные же силы достигают сознания и обретают действительность только в отталкивании и проницании: процесс разграничения, исчерпывающе ясный нам в мгновении, в целом никогда не приходит к концу.
То, что в особенности просветляющих экзистенцию высказываний ищут как некоторого знания о чем-то наличном, мнимое существование чего могло бы утешить и успокоить, возникает из противной экзистенции воли к объективной надежности (Daß insbesondere die existenzerhellenden Aussagen gesucht werden als ein Wissen um ein Bestehendes, dessen vermeintliches Dasein trösten und beruhigen könnte, entspringt aus dem existenzwidrigen Willen zur objektiven Sicherheit). Основная позиция всякого философствования определена тем, хочу ли я неэкзистенциального покоя в знании о чем-то таком, что и без экзистенции таково и таковым останется; или же я в силу сознания возможной экзистенции вижу в подобной воле предательство экзистенции. В достоверном сознании, что подлинное бытие не пребывает (eigentliches Sein nicht besteht), я вынужден в беспокойстве и опасности собственного экзистирования превосходить все лишь наличное (alles bloß Bestehende übergreifen) в изначальной совести: дело за мной (es kommt auf mich an), – и тем самым релятивизировать всякое наличное бытие (alles bestehende Sein relativieren).
То, что просветляющие экзистенцию высказывания могут быть закреплены в смысле знания о бытии и потому истолкованы неверно, позволяет понять злоупотребление, которое претерпевают они в научной аргументации. То, что в экзистенциально-философских толкованиях имеет преходящий и всегда необъективный смысл, ошибочно принимают за оборот речи для самооправдания. Хотят найти критерии, которые бы позволили объективно отличать в частном случае экзистенциальное от не-экзистенциального, подлинное от уклонившегося. Это принципиально невозможно. Всякое обоснование и осуждение, проверка и фиксация рациональными средствами при помощи категорий совершается в мире, и все это именно не обращено к экзистенции. В просветлении экзистенции уже нет более соотношения между значимо всеобщим и особенным, к которому это всеобщее применяется. Всякое доказательство действительно здесь лишь в возможной экзистенции действием собственной совести в ее коммуникации, тогда как обоснование и опровержение имеют смысл лишь в отношении к этому акту совести, как средство и выражение.
Если смешение просветляющих экзистенцию высказываний с мнимым знанием о конкретной экзистенции происходит в нашем собственном существовании, то не ведающая ошибок совесть предупреждает и различает. Если это смешение происходит по отношению к другому, то оно рассеивается в коммуникации, в которой никакой аргумент не означает суждения о некотором бытии, где не происходит ни одного нападения или оправдания, которые обращались бы только от рассудка к рассудку, от сознания вообще к другому сознанию вообще. Ибо сознание вообще проявляет интерес к философии, лишь поскольку она полагает убедительно доказуемые границы, а не поскольку она ищет этих границ, чтобы трансцендировать за их черту Но философия существует не как значимая истина для каждого, но действительна только в коммуникации, чтобы от смешений своих возможностей найти обратный путь к своей подлинности (Philosophie aber ist nicht als geltende Wahrheit für jedermann, sondern in der Kommunikation, um sich aus den Verwechslungen der Möglichkeiten zum Eigentlichen zurückzufinden).
Если мы обсуждали здесь двусмысленность всего объективного по отношению к экзистенции, если разрешение ее мы возложили на совесть исторично определенных экзистенций, то это не означает, что мы отвергаем объективные обоснования. Скорее, эти обоснования остаются той средой, без которой даже сомнительные отвлеченные чувства претендовали бы на истинность. Только с помощью мышления совесть должна обрести ситуацию, в которой она сможет предоставить принятие решения своей чуткой чувствительности.
Поскольку просветляющие экзистенцию высказывания ведут к знанию не на пути подведения единичного под некоторое всеобщее познание, то не имеет никакого смысла и положение: я есмь экзистенция (ich bin eine Existenz). Это высказывание невозможно; ибо бытие экзистенции не есть объективная категория. Я могу говорить из возможной экзистенции, поскольку другая экзистенция слышит меня, тогда экзистенция обоих, правда, есть друг для друга, но это бытие-друг-для-друга не существует для их знания. Экзистенция, как убеждение, вера, абсолютное сознание не может быть содержанием знания (Existenz als Überzeugung, Glaube, absolutes Bewußtsein kann nicht gewußt werden).
Выражение: «я экзистирую» (ich existiere), исполнимое в коммуникации как некое исчезающее выражение, – как притязание в мире, в котором имеют смысл требования, оправдания и доводы, претенциозно и в то же время бессмысленно. В мире объективностей и сказуемостей я имею притязания при посредстве объективностей же, т.е. достижений, качеств, дарований, прав, поставленных задач; и в борьбе за свое существование я имею влияние благодаря власти (Geltung durch Macht). Но там, где я вступаю в экзистенциальную коммуникацию, притязания и влияния теряют силу. Если, однако, я обращу это утверждение и скажу: если я не предъявляю никаких притязаний, то я экзистирую, – то впадаю в не меньшее заблуждение. Ибо в двусмысленности являющейся экзистенции мое поведение точно так же может оказаться слабостью бессилия, или уловкой для прикрытия, как средством, для того чтобы, воспользовавшись экзистенциально-философскими формами речи, все же в самой непритязательности снова предъявлять свои претензии.
То, что просветление экзистенции высказывает для сознания вообще, всегда бывает лишь негативно в силу неудовлетворенности обретенными объективностями, коль скоро они желают быть всем; тем самым мы полагаем границы. Каждый положительный шаг за эти границы, всякое проникновение в экзистенцию, будучи высказываемо, не может ни иметь всеобщей значимости, ни предъявлять притязаний, но означает вопрошание и просветление в косвенном сообщении.
ПЕРВАЯ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Я сам в коммуникации и историчности
ГЛАВА ВТОРАЯ – Я сам
Я на границе мыслимого
1. Я вообще. – 2. Аспекты Я. – 3. Характер. -4. В мыслимом я не получаю достоверности себя как целого.
Саморефлексия
1. Бытие-Я и саморефлексия. – 2. Разлагающая саморефлексия. – 3. Саморефлексия и изначальная непосредственность. – 4. Ненаступление «себя» и подаренность «себе».
Антиномии самобытия
1. Эмпирический и экзистенциальный смысл «я есмь». – 2. Самостановление в самопреодолении. – 3. Самобытие в мире и перед лицом трансценденции.
В естественной беззаботности я не задаю вопроса о себе самом; я осуществляю ближайшие для меня цели и думаю о своих задачах. Хотя я и говорю «я», но не тревожусь о том, в каком смысле я есмь.
Потом я узнаю, что я могу задавать вопросы. Я хотел бы знать, что я такое – и мыслю человека как род бытия, к которому и я тоже принадлежу – или кто я такой – и тем самым спрашиваю, что я имею в виду, если говорю: я сам.
Оба эти вопроса я задаю не случайно, как если бы я просто интересовался ответом на них, как бесчисленным множеством вещей в мире, которые мне уже встречались и еще встретятся. В этом вопрошании я не просто любознателен, но меня это подлинно касается. Я пробуждаюсь из своей беззаботности.
Ребенком я был беззаботен, но тем самым еще не обладал равновесием своей самости {Gleichgewicht meiner selbst). В невнятности своего самосознания я был неспособен найти себя, а потому был капризен; если я был в замешательстве, то не я, а родители приводили меня в порядок; я жил в наивном сознании жизни, еще не имея решительно определенного Я, но все-таки как возможное Я; еще не зная саморефлексии, но уже как существо, говорящее «я»; пусть в страхе и минутной нерешительности, но незнакомый с отчаянием; побуждаясь аффектами, я был забывчив между одним своим настроением и другим.
Затем я пробудился не от простой мысли, но от потрясения в ситуации, которая затрагивала меня в самом корне моего существа и благодаря которой я почувствовал претензию, говорящую мне, что что-то решающим образом касается меня.
Может быть, у меня уже есть обширные сведения о мире и практическая сметка; может случиться, что подлинное пробуждение вовсе не настанет, или что оно уже вскоре вновь будет забыто мною. И тогда, будучи поставлен перед вопросом о том, что я такое, я полагаю, будто это очевиднейшая на свете вещь. Этот ответ на вопрос может означать наивную озадаченность или уклонение от ответа; мы о чем-то просто не хотим задумываться. Но он может иметь и следующий, существенный смысл: речь идет здесь о чем-то таком, что, если я вообще его понимаю, я понимаю только через самого себя, а не через нечто иное.
Если, однако, я хочу ответить себе самому, что же такое это самоочевидное нечто: то я изумляюсь. Я вижу, что этого я не знаю. Еще не имея языка для выражения бытия себя самого, я ищу путей к тому, чтобы прояснить его для себя.
Я вновь обращаюсь к изначальному осознанию себя самого (ursprüngliches Innewerden meiner selbst), которое нерефлектированно наполняло меня, не как сознание о чем-то, но все же, казалось мне, как действительное присутствие (Gegenwart). Казалось, в нем заключается всякое содержание; стоит мне только по-настоящему взяться, как я осознаю то, что фактически одушевляло меня, как «я сам». Но когда я хочу поднять это сокровище, оно сразу же исчезает. Темноту своей изначальности я покинул, как только я спрашиваю о ней: свет, который светил в ней как вспышка осознания меня самого, гаснет, как только я хочу рассмотреть при этом свете то, что есть (das Licht, das in ihr als das Aufleuchten des inne-werdens meiner selbst schien, erlischt, sobald ich mit ihm Zusehen will, was ist). Мне становится ясно, что я покинул не только темноту, но и сам исток, быть может, не в самом деле и не окончательно, но все же покинул его как сознание, с возможностью овладеть им или утратить его. Именно то самое, что я должен спрашивать о себе, показывает мне, что я выступил из своего истока. Я не самоочевиден для самого себя и не нахожу себя в возвращении к чему-то мнимо утраченному, но я чувствую задачу: идя вперед, овладеть самим собою (vorwärtsgehend mich selbst zu ergreifen).
Я на границе мыслимого
1. Я вообще.
– Придя таким образом к отрицательной ясности, я обращаюсь к себе как сознанию: я хочу постичь себя как «Я вообще».
Я – это бытие, которое постигает себя самого (Ich ist das Sein, das sich selbst erfaßt). Оно сознает себя как направленное на себя, как единое оно есть в то же время два, остающиеся в различенности одним. Оно есть субъект, делающий себя самого объектом. Как объект, оно дано себе, не так, как даны вещи мира – не как нечто чуждое и иное, но тем уникальным способом, который вновь снимает (aufhebt) данность как бытие-Я. Я есть в раздвоении своей самости на субъект и объект, но не в радикальном раздвоении, каково разделение между вещами мира, но также и не в снятии этого раздвоения, которое было бы возможно только как мистическое единобытие. Оно сознает себя в некотором круге у себя самого.
Я постигает себя только как «я мыслю», составляющее ядро всякого сознания Я, поскольку все прочее может измениться, но «я мыслю» должно остаться. В нем оно постигает себя как тождественное себе самому, как одно в настоящий момент и как одно во всей последовательности, припомненного или мыслимого как будущее, времени.
Я постигает себя только в отношении к другому, которое не есть Я, миру, в котором оно есть. Относительно этого мира, поскольку оно воспринимает и мыслит вещи в этом мире, оно есть субъект, для которого все иное – это объекты. Как таковое, оно есть субъект вообще, заменимый любым другим субъектом, сознание вообще, рассудок как та точка, с которой соотносится все доступное знанию и которая сама, как не более чем точка, может быть только названа, но сама не становится объектом, скорее напротив: для которой также и все конкретное бытие-Я есть объект. Этот формальный субъект вообще присутствует, как объемлющая всеобщность, повсюду, где есть бытие как сознание.
В качестве «я мыслю» Я достоверно само для себя в момент мышления им своего существования в своем мире. Оно знает не что оно есть, но что оно есть в настоящем для него времени (Nicht, daß es ist, weiß es, aber daß es ist in der ihm gegenwärtigen Zeit).
И подобное «я вообще» я и в самом деле есмь. Я не сомневаюсь, что в этом согласен со всяким другим Я. Но я – не только «я вообще», но я есмь также я сам. В структурах Я вообще я познаю условия своего существования как формы, в которых я есмь, если я являюсь себе самому; но в этих формах я еще не познаю себя как именно себя самого. Я есмь «я мыслю», но я сам не есмь это «я мыслю», потому что я есмь оно лишь как я вообще. Правда, в нем я тождествен себе самому, но это тождество есть лишь пустая форма простого: Я есмь я; я полагаю себя в нем как точечный, опустошенный от себя самого субъект; оно, без всякого содержания, высказывает исключительно лишь это сознание меня самого как одного в удвоении (Eines in der Verdoppelung).
Несравнимость бытия-Я, в сопоставлении со смыслом предметности, отражается в нашем языке. «Я» – это местоимение и языковая форма, в которой ищет себе выражения единственность бытия, не являющегося предметом, но говорящего о себе «я». Напротив, «это Я» (das Ich), о котором мы говорили здесь, есть искусственная, противная правилам языка (sprachwidrige) субстантивистская формация, которая, будучи привычно усвоена в философствовании, создает воображаемую возможность для Я быть объектом (die, im Philosophieren eingewöhnt, ein Objektsein des Ich imaginär ermöglicht). Она есть следствие неизбежной необходимости превращать в предмет все то, о чем мы говорим, даже если оно никогда не может адекватным образом стать таким предметом.
2. Аспекты Я.
– Поскольку я еще не нахожу себя в сознании Я, как сознание вообще, я обращаюсь к материальному наполнению моего бытия-Я, как этому существованию. Я не только вижу, что я сознаю себя, но спрашиваю, как что (als was) я сознаю себя. Я есмь для себя самого содержательно наполненная, неповторимая жизнь в пространстве и времени, которая предстает мне, становясь для меня предметом. В подобных предметностях как аспектах себя самого я осознаю себя, как в зеркалах. Ни в одном зеркале я не вижу себя целиком, в каждом – частями; я замечаю стороны моего бытия, частично отождествляю себя с ними, не становясь, однако, в них вполне тождественным с самим собою. Ибо, чем бы ни был я для себя в подобных предметностях как фактичностях, сравнительно с ними во мне остается сознание того, что, поскольку оно возможно, могло бы также стать действительностью. Поскольку эти предметности суть осуществленное явление моей возможности, они называются аспектами Я, типические формы которого предстоит теперь охарактеризовать как схемы Я:
а) Когда я говорю «я», то имею в виду себя как присутствующее в пространстве тело. Оно движется, если я двигаю его; или его движет некая сила, и тогда уже я во всяком случае должен пережить опытом эти его движения; как я активен лишь через его посредство, так я должен претерпеть то, что постигает его. Я есмь оно, или, по крайней мере, есмь одно с ним. Я чувствую себя, когда осознаю свою телесную витальность (leibliche Vitalität), полным сил или слабым, в восторге жизни или в недовольстве ею, в активных Функциях или в покое, наслаждаясь или пассивно страдая.
Так обстоит дело в беззаботном существовании, в котором я пребываю без явного сознания. Но если я спрашиваю, что я такое, если я прямо и непосредственно думаю о себе, то мое сознание телесного я (Körperichbewußtsein) становится предметом моей заботы. Я знаю себя как специфическое существование, по особенной форме моего тела, его величине, силе и способу двигаться, и знаю себя колеблющимся во всех тех изменениях, которые испытывает мое тело вследствие ситуаций, болезни, пола, возраста. Если я вижу таким образом свою телесность, то я, хотя и кажусь сам себе исчезающим, пока и поскольку ее вижу, и все же я – одно с нею. Но это бытие-одним не есть тождественность (Aber dieses Einssein ist nicht Identischsein). Я не есмь мое тело.
Если бы я был моим телесным я, то было бы странно, что, несмотря на то, ни одна часть тела не принадлежит существенным образом к моему «я». Я могу потерять части тела, отдельные органы, даже части своего мозга; я останусь «я». Правда, это может изменить мою ситуацию; и все же, будучи поставлен телесными недостатками в другие условия жизни, я в существенном останусь тем же. Только если вследствие разрушения плоти прекратится мое сознание или изменения тела так нарушат это сознание, что я утрачу ориентировку и память, станет невозможной коммуникация, меня наполнят обманы чувств и иллюзии, – меня самого более не будет. Но это уже-не-бытие я есмь тогда не для себя самого, а для наблюдателя. Я сам, поскольку я существую, сколько бы я ни был привязан к своей плоти, в то же время и противостою ей; еще в самом водовороте разрушения личности, еще в безумии я еще есмь как возможная точечность оставшегося тождественным со мною Я. Я постигаю плоть как принадлежащую ко мне, потому что пронизанную моей сущностью, и я противопоставляю себя ей как бремени и фактору помехи как угнетающей мою сущность. Ни в том, ни в другом случае я не понимаю ее как «меня» самого в подлинном смысле слова. Она уничтожит меня как существование во времени, так же точно, как она носила меня в этом времени.
Мое тело непрерывно обновляет свое вещество. Его материя меняется, но я остаюсь тем же самым. Как тело я есмь жизнь, которая как форма и функция есть непрерывность этой постоянно меняющейся плоти (Leben, das als Gestalt und Funktion die Kontinuität dieses sich stets wandelnden Leibes ist). Я хочу своей жизни и без нее не существую. Я присущ в ее витальных функциях, но я не есмь как эти функции. Будь я только жизнью, я был бы только природным процессом. Если я пробую захотеть быть всецело лишь жизнью, то я как человек опытом узнаю, что я не могу стать животным. Животное, несокрушимое существование, лишенное раздвоения в своей сущности, а потому лишенное возможности, есть то, что оно есть. Человек может быть лишь собой (selbst sein) или вынужден огрубеть, отказавшись от своего самобытия в сугубой жизни; ибо в этой жизни оставляет возможность даже тот, кто помышляет эту возможность разрушить. Простая жизнь неосуществима (Bloßes Leben ist unvollziehbar). Для человека жизнь соединяется с условиями, происходящими не только из жизни, но и из него самого, с решениями, которые он принимает во внутренней деятельности, а затем исполняет, действуя во внешней действительности. Это раздвоение витальности его самобытия вследствие того, что он подчиняет его условиям, так же необходимо для него, как и его единство с нею; ибо оно означает, что ему знакомо коренное устройство его временного самосознания: то, что оно должно выносить свое плотское существование как плотское и господствовать над ним (die Grundverfassung seines zeitlichen Selbstbewußtseins kennt: sein leibliches Dasein als leibliches ertragen und beherrschen zu müssen). Единство же означает, что он подлинно живет, если его витальность становится наполнением его самобытия. Тогда он любит и свое плотское существование, как самого себя, как бы часто ни приходилось ему смотреть на него как на сомнительное и обращаться с ним как с неким иным16.
Но в том, как я обращаюсь со своим телом, даю ему меру, а при известных условиях и свою свободу,– я более решительно сознаю себя, чем в телесности как таковой. Она – в моих руках. Я могу убить себя и тем доказать себе, что я не признаю свою телесность за себя самого. Я убиваю ее, и она может лишь пассивно умереть. Но я способен спросить, совершенно ли уничтожаюсь вследствие этого я сам (ob ich selbst dadurch schlechthin nichts werde).
б) Я могу подразумевать себя как то, чем я считаюсь во взаимосвязи социальной жизни. Моя функция в профессиональном мире, мои права и обязанности навязываются мне как мое бытие. Мое влияние на других создает некий образ моей сущности. Этот образ, отражаясь на меня самого, неприметно выдвигается для меня вперед и встает передо мною самим: я полагаю, что я – то, чем являюсь я для других. Так же как каждый есть только, если он есть тело, так он есть также, только если он есть в обществе, и это так даже там, где он, находясь вне общества, противостоит ему. Наше социальное Я властвует над нами настолько, что кажется, будто бы человек изменяет свою сущность с каждым изменением своего социального положения и тех людей, с которыми он общается. В первобытных обществах люди могут совершенно потерять сознание бытия, если их неожиданно вырвать из привычного окружения. Они уже не могут больше быть самим собой, потому что их одним ударом лишили того, в качестве чего они были собой.
Но как социальное Я я не есмь я сам. Если меня вырвать из моего мира, то я не непременно исчезаю в ничто, – я еще могу в катастрофе пробудиться к себе самому, пусть даже это будет только пробуждение к еще неопределенной, лишь возможной самости.
Что и в каком объеме я есмь как социальное Я, – это отпечатлевается на мне в неотменимом сцеплении моей жизни с обществом. В этом состоянии я есмь эта историчная особенность, некое существование моего мира, и я есмь то, чем считает меня каждый в этой взаимосвязи. В рационализированном обществе уничтожается все более и более даже субстанциальность этого особенного, пока в предельном случае сознание содержания моего определенного существования не угаснет вместе с верой в историчный смысл целого в этом государстве. Не остается ничего, кроме общественного существования, и я есмь в нем постольку, поскольку имею в нем права и обязанности. В принципе каждый, как и всякий другой, есть только экземпляр общего, обязанный одинаковым образом участвовать в общественных возможностях, снабжении, труде и наслаждении. Как это социальное Я я становлюсь «мы все».
Поэтому, даже если мое социальное Я и навязывается мне, внутренне я все-таки могу защищаться от него. Хотя я неумолимо прикован к своему социальному существованию и получаю в нем свое самосознание в зеркале свое деятельности, я все же еще могу противопоставить ему себя как себя самого. Несмотря на социальные прибыли и убытки, во всех переменах я могу остаться самим собой. Я уже не совпадаю со своим социальным Я, хотя во всякую минуту я в то же время есмь в нем. Теперь я в своем социальном бытии могу иметь сознание как бы той роли, которую я избираю или выдерживаю. Я и моя роль для меня отныне не одно и то же. Правда, я знаю себя как подлинно сущего, только если я с безусловной энергией избираю свою роль, деятельно вмешиваюсь в существование. Но мое социальное Я, которым я не перестаю быть, так же как не перестаю и существовать как тело, само становится для меня предметом, из которого в то же время я удерживаю себя самого. Я – не результат социологических констелляций, ибо, даже если во всем, что во мне объективно вступает в явление, я определен своим социологическим существованием, я остаюсь возможностью себя самого из своего собственного истока. Я хочу избрать свою роль не только затем, чтобы существовать материально, но и затем, чтобы стать самим собою; я знаю себя только в этой роли, и все же я не тождествен с нею.
Если в этом истончении социального Я, принимающего вид «мы все», которое неодолимо стремится навязать себя мне через посредство всеобщности, самобытие решительно противится и претендует на приоритетное значение, то его безусловность противостоит здесь всем условностям бытия как «мы все». Правда, я живу в рядом-бытии и событии со всеми (Neben– und Miteinander mit allen), имею свои функции во взаимном служении (gegenseitige Dienstbarkeit), но мне знакомы отдельные люди, с которыми я связан не только в подобного рода отношениях, но безусловно. Этих людей, с которыми я как я сам состою в коммуникации, я не могу поставить в один и тот же мир с другими, соотносительно с ними -безразличными мне людьми. Я не могу допустить отчуждения моего самобытия с ними в бытие со всеми, и с ними я, в возможности, пребываю вне этих всех.
в) В обществе я обладаю авторитетом, смотря по тому, чего я достигаю (was ich leiste). Это достижение есть для меня еще одно зеркало того, что я есмь. То, что совершилось благодаря мне, что я могу рассматривать как успех и как творение, или что предстоит моему взгляду как неуспех и то, что не удалось мне, во всем этом я в своеобразном смысле становлюсь предметным для самого себя. В Я достижений (Leistungsich) сознание Я может совпадать с сознанием достигнутого.
И все-таки я не есмь то, чего я добиваюсь. Я могу оказаться даже в противоречии с этим последним. Поскольку мы становимся зависимыми от вещей, которые мы прежде создали, мы противопоставляем себя им. Мы существуем в них, но мы не тождественны с собою, как просто достигающими результата. Если другие начинают воспроизводить и повторять то, что было создано нами, человек может бороться против своей собственной самости, какой она вошла в его произведение. Я превращаю свое однажды бывшее достижение в нечто, отделившееся от меня. Я не могу ни остановиться на нем, как на чем-то таком, чем я еще способен был бы быть, но не могу и сказать: я – это то, чего я сейчас достигаю. Ибо и теперь, и всегда то, что я есмь, и то, что я хочу создать, существуют в единстве, однако не тождественны. Я могу достичь также того, в чем я не есмь. Тем, чего я достигаю, я ни в коем случае не исчерпываюсь. Я сам избегаю отождествления со своими произведениями – относительно признавая их как свои и в верности себе самому сохраняя их как собственные, – тем более что они, кажется, крадут меня у меня же самого, и что я чувствую будущее и возможность и в настоящем намереваюсь совершить нечто, в чем могу сделаться достоверным себе самому.
г) Наконец, я знаю, что я есмь, благодаря своему прошлому. То, что я пережил и что я видел, что я делал и что думал, что причинили мне другие и как они помогли мне, – все это, неосознанно или в сознательном припоминании, определяет мое сознание Я в настоящем. Исходя из этого, я уважаю и презираю себя самого, меня побуждают привязанности и неприязни. Из прошлого со мною говорит настоящее, которого вследствие того я избегаю или, наоборот, ищу. Это Я воспоминания (Erinnerungsich), к которому в нерефлектированном состоянии я не обращаю вопросов, как и другие аспекты Я, становится для меня предметным в неопределенных границах. Мое прошлое становится моим зеркалом; я есмь то, чем я был (Meine Vergangenheit wird mein Spiegel; ich bin, was ich war).








