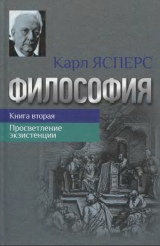
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
3. Пробуждение экзистенции через страдание.
– Страдание как неотклонимое страдание может быть только в пограничной ситуации. Теперь я принимаю свое страдание как выпавшую мне долю, жалуюсь, страдаю по-настоящему, не скрываю этого от самого себя, живу в напряжении между желанием сказать «да» и вечной невозможностью сказать «да» окончательно (lebe in der Spannung des Jasagenwollens und des nie endgültig Jasagenkönnens), борюсь против страдания, чтобы ограничить, отложить его, но это страдание как чуждое мне имею все-таки как нечто принадлежащее к составу моей самости и не обретаю покоя гармонии в пассивном терпении (Dulden), но не впадаю и в ярость в темноте непонимания. Всякий должен сносить и исполнять то, что его постигает. Этого бремени никто не может снять с него.
Если бы действительно было только счастье существования, то возможная экзистенция продолжала бы дремать. Поразительно, что чистое счастье производит впечатление чего-то пустого. Как страдание уничтожает фактическое существование, так и счастье, кажется, угрожает нашему подлинному бытию. В счастливой жизни есть возражение самому себе от того знания, которое не дает ей продлиться. Счастье должно быть поставлено под сомнение, чтобы оно, восстанавливаясь из сомнений, впервые могло стать подлинным счастьем; истина счастья возникает только на основе неудачи.
Человек, которому легче быть самим собою в несчастье, чем в счастье, должен, как ни парадоксально, рискнуть быть счастливым. Глубина бытия, рискующая явиться в счастье, не может раскрыться перед нами уже как цветущая сила витальности; только если экзистенция достигла той основы, которая требуется ей, чтобы остаться в счастье самой собою, счастье становится явлением бытия, перед которым отступает пробуждающее страдание, чтобы произвести в своей тени счастье как трансцендентно исполненную подлинную положительность существования. Именно экзистенция способна совладать с бессилием своего существования, если может еще подлинно быть в отрицательности «не» (Es ist Existenz, dieder Ohnmacht ihres Daseins Herr wird, wenn sie im Nicht noch eigentlich sein kann); только этому опыту жизни, если он остался у нас за плечами, возможно принять свое счастье без иллюзий как подлинно завершенное явление бытия и, если нам его не дано, любить его в другом.
4. Усвоение страдания.
– Вопрошание о цели, смысле и оправданности страдания признают тщетным в непостигающей резиньяции, исходя из которой активная жизнь утверждается в страдании на самой себе как экзистирующей индивидуальности. Индивид приходит к сознанию своей самости через собственное страдание, от которого не уклоняется; он видит его, по мере своих сил борется с ним, а там, где силы оставляют его, – выносит страдание, пока не гибнет, чтобы, погибая, сохранить только одну свою позицию (um im Zugrundegehen nur noch die Haltung zu wahren) или утратить даже и ее, если непостижимый водоворот увлечет его за собою в ту бездну, где даже сила самобытия делается относительной и видит себя в подчинении у неведомых сил.
Или же в ситуации, когда я не постигаю, я становлюсь в то же время пассивным в действиях и ограничиваюсь наслаждением жизнью. Если все – суета сует, и все в конце концов – страдание, то можно ведь есть, пить и веселиться на земле, пока оно длится51. Здесь отрекаются от всякого смысла – как от постигнутого мыслью, так и от активно созданного смысла.
Из отношения к страданию в присущей ему полярности активной и пассивной резиньяции возможная экзистенция восходит в пограничной ситуации к опыту, в котором знает себя единой со своей трансценденцией в истоке, мыслимом в пограничной ситуации бытия.
Если страдание оказывается таким образом связано в самом истоке, то оно обретает непостигнутый смысл, поскольку оно погружено теперь в абсолютное. Мое страдание уже не есть более случайная злая судьба моей покинутости, но явление существования экзистенции. Теперь мы можем искать в мысли трансцендирующего выражения тому, что если я вижу, как страдают другие, то это все равно, как если бы они страдали вместо меня (es ist, als ob sie in Vertretung für mich leiden), и как если бы к экзистенции обращено было требование нести страдание мира как свое собственное страдание (das Leid der Welt als ihr eigenes Leid zu tragen).
Борьба
Смерть и страдание – это пограничные ситуации, существующие для меня и без моего содействия. В них раскрывается передо мною некий лик существования, стоит мне только взглянуть. Напротив, борьба и вина являются пограничными ситуациями, только если я вызываю их своим содействием; я активно создаю их. Но пограничные ситуации они потому, что я фактически не могу быть, не создавая их себе. Уклониться я никоим образом не могу, потому что уже тем одним, что я есмь, я содействую их порождению. Всякая моя попытка уклониться от них оказывается или произведением их в иной форме, или же самоуничтожением. Смерть и страдание я экзистенциально принимаю в усматриваемой мною пограничной ситуации. Борьбу и вину я неизбежно должен вначале сам создать вместе с другими, чтобы затем, пребывая в них как в пограничной ситуации, вместе с другими экзистенциально осознать их, и – как бы то ни было – усвоить их.
1. Обзор форм борьбы.
– Все живое, еще не зная и не желая того, ведет борьбу за существование, пассивно – за простое существование в мнимом покое наличного бытия, активно – за рост и умножение (Wachstum und Mehrwerden). Всегда ограниченные, сравнительно с возможным распространением жизни, материальные условия существования делают необходимой борьбу за эти условия. Эту бессознательную (unbewußte) борьбу человек осознает, но она вновь скрывается от его индивидуального взгляда, как только переносится на группы, общественные порядки, государства, и ведется этими последними, вместо самого человека, а также поскольку и у человека для индивида всегда имеются налицо неосознанные стесняющие его соотношения сил, и его собственный успех неосознанно для него приводит к ущемлению интересов других.
Сознательная борьба с отчетливо видимым противником идет во имя цели расширения жизненного пространства. Мирными средствами в хозяйстве и насильственными – на войне, при помощи превосходящих противника достижений, при помощи хитрости и вредоносных мер, – повсюду, в конечном эффекте, идет одинаково жестокая борьба, поскольку в ней оспаривается или решается вопрос о просторе материального существования, а в конце концов -о жизни или уничтожении. Если применение насилия не кончается с уничтожением одной из борющихся сторон, то оно переходит в укрепление социального отношения, в котором победитель получил власть, а побежденный, поскольку он предпочел сохранить себе жизнь, принял на себя обязанность служить ему в подчиненности. В подобных относительно фиксированных властных соотношениях индивид уже рождается на известном положении, которое становится для него исходным.
Совершенно иного рода борьба совершается в существовании, исходя из духовной идеи и экзистенции. Здесь борьба не имеет уже характера материально обусловленного фактума, но становится в существовании истоком раскрытия подлинного самобытия.
В достижениях духа возможна такая борьба, которая, в чистоте своего смысла, ведется не за жизнь или уничтожение, но за духовный ранг и отзвук. Этот agon52 имеет в своем распоряжении не какое-то ограниченное пространство, но бесконечное пространство духа, в котором находят себе место всякое творчество и всякое достижение и неразрушимо сохраняются как содержание духа. Эта борьба – не оспаривание друг друга по рангу и мере, но в то же время в глубине – борьба, которая двигает вперед, потому что будит и растит; она сама становится источником новых творений, потому что противник дает противнику то, что он сам приобрел. Только в своих материальных последствиях: в воздействии на современников, в материальных вознаграждениях, – этот agon принимает свойственные борьбе за существование формы вытеснения, причинения ущерба, разрушения. Тем самым в нем происходит некоторое смещение его смысла. Теряя себя как средство для материальных целей, он становится фальшив в самой своей субстанции, потому что смешивает с чем-то другим себя самого (weil er sich selbst verwechselt).
Если уже в духовной борьбе всякое насилие чуждо, то это тем более так в той борьбе, которая как живой процесс любви есть выражение любви в ее экзистенции. В любви люди рискуют поставить друг друга вполне и без остатка под вопрос, чтобы достичь своих истоков тем путем, что они оба делаются истинными в непреклонном просвещении (Durchleuchtung). Эта борьба есть в явлении экзистенции одно из условий ее осуществления и ведется без пощады, однако и без насилия, вплоть до самой основы экзистенции.
Итак, борьба идет за материальные условия моей жизни, становится источником нового порождения в духовном agon и истоком раскрытости экзистенции в вопрошающей любви. Однако борьба совершается не только во взаимном отношении существ, но и в отдельном индивидууме. Экзистенция находится в процессе самостановления, который есть борьба с собою. Я давлю в себе возможности, насилую свои побуждения, я оформляю имеющиеся у меня задатки, подвергаю сомнению то, чем я стал, и сознаю, что я существую, только если я не признаю свое бытие как наличное обладание.
Из этого обзора у нас остаются два различных по самому своему существу способа ведения борьбы:
Борьба насилием (Kampf mit Gewalt) может понуждать, ограничивать, подавлять, а может и, наоборот, создавать пространство для жизни; в этой борьбе я могу оказаться побежденным, лишиться жизни;
Борьба в любви – это не знающее насилия оспаривание друг друга без воли к победе, с исключительной волей к открытости; в этой борьбе я могу уклониться, скрываясь, и потерпеть неудачу как экзистенция.
Несмотря на их сущностное различие, в фактическом обороте одна борьба переходит в другую, или через уклонение любящей борьбы в понуждающую борьбу, или через преодоление насильственной борьбы во внезапном соприкосновении экзистенций.
2. Борьба насилием за существование.
– Мое существование как таковое отнимает у других, как и другие отнимают у меня. Всякое положение, которого я достигаю, исключает другого, претендует для себя на известное пространство из всего ограниченного, имеющегося в распоряжении пространства. Всякий успех, доставшийся мне, умаляет других. То, что я живу, стало возможным благодаря победоносной борьбе моих предков; то, что я потерплю поражение, проявится в конечном счете в том, что с течением веков никто не признает во мне своего предка.
Но в то же время справедливо и обратное: всякое существование основано на взаимной помощи. Я обязан своим существованием заботе моих родителей; я всю свою жизнь вынужден прибегать к помощи других и сам оказываю помощь в тесной взаимосвязи человеческой общности. Но последней истиной оказывается не помощь, мир и гармония целого, но борьба, а затем – эксплуатация теперешним победителем. Два факта показывают нам это:
Исторично действительная духовная жизнь основана на порядке общества, устроенном в пользу свободы и досуга немногих. Большинство трудится в некотором ином смысле; ибо ни для кого из этого большинства не является при этом целью духовная действительность немногих. Но известный слой людей, господствующих собственной силой, или живущих за счет ренты, или таких людей, которые, будучи сами относительно бедны и, однако, обладая необходимыми средствами к существованию, не принуждены заниматься механическим трудом, осуществляет некоторую функцию, самодисциплинированно трудясь над своим собственным бытием, в образовании и произведении. Некоторые из этих слоев становятся носителями того, что впоследствии представляет ценность для созерцания всех как некоторое всякий раз уникальное творение, которым они хотели бы обладать в отвлечении от той основы, на которой оно произросло. Жестокая и в решающих моментах насильственная эксплуатация составляет условие для этого,– условие, о котором индивиду нет необходимости иметь сознательное знание, поскольку другие доставляют все это для него, а он только поглощает то, что по праву поступает к нему откуда-то, не будучи оплатой за оказанную им, со своей стороны, материальную услугу. Только экономическое и социологическое знание впервые выяснило этот факт со всей полнотой наглядности. Тот, кто хочет устранить в мире всякую эксплуатацию, должен отказаться от действительности духовной жизни, растущей в каждом отдельном человеке с непрерывностью образовательного процесса.
Другой же факт таков: всякая взаимная помощь созидает, насколько мы можем видеть эмпирически, только единства, которые, в свою очередь, борются друг с другом; помощь во взаимности -только небольшой анклав. Так, прежде всего, борьба в хозяйственной жизни так же точно направлена на обеспечение существования Целого в пользу или в ущерб известным ограниченным группам, как и борьба военными средствами. Она создает пространство для жизни потомков или искореняет. Только неторопливость шаг за шагом совершающегося процесса, тишина, в которой наконец идет на дно проигравший, скрывает битвы, как и победы и уничтожение в них, от глаз, видящих только нечто внезапное и патетическое. На первый взгляд кажется, будто в конце концов единственной действительностью остается лишь мирное процветание и умножение живущих. Как же, наконец, нужно ослепить себя, чтобы не желать видеть того факта, что то и дело случаются ситуации, только благодаря сознательной маскировке отличающиеся от ситуации двух потерпевших кораблекрушение, которые могут спастись, держась за одну доску: если доска выдерживает только одного, то или оба они погибнут, или один из двоих одержит верх в борьбе, или же один добровольно расстанется с жизнью.
По отношению к этой фактичности возможно некоторое конечное ее понимание, которому вовсе не открывается пограничная ситуация. Отводя взгляд в сторону от целого, я рассматриваю битвы как то, чего можно избежать, и пытаюсь не допустить их, неясно веря в жизнь по праву, в покое, дающую условия существования для всех. Я не додумываю до границ, но живу в удовлетворенности, пока это позволяет делать маскировка действительных оснований жизни. Между тем как мои условия существования кажутся мне стабильными, я не признаю того, что борьба – условие и граница всякого существования. Я позволяю вводить себя в обман под масками общительного обихода и избираю для себя удобный нейтралитет в не менее обманчивой форме взвешивающей объективности. И все-таки во всех самообманах относительно условий моего собственного существования, которыми я пользуюсь, хотя и не создавал их (die Bedingungen meines eigenen Daseins, deren Nutznießer ich bin, ohne sie geschaffen zu haben), порою, если на сцену выступают угрозы как смутно чувствуемые опасности, я делаюсь нервозным и попадаю под невнятное давление, если открывается возможность бесправия и нарушения мира как ситуаций неразрешимых. Или же я успокаиваюсь, если не ощущаю никакой опасности для себя, и снова верю в жизнь без борьбы, фактически живя при этом за счет благоприятной для меня констелляции сил в борьбе.
Пограничная ситуация наступает только для воли экзистенции к ясности, поскольку она, будучи затронута ситуацией, избирает свое существование со всеми его условиями. В пограничной ситуации борьбы, согласно изначально истинному подходу, есть склонность к таким решениям, в которых, как по контрасту, впервые просветляет себя собственно пограничная ситуация, в которой я остаюсь, исторично экзистируя, не имея внятно знаемого решения.
Мнимые решения пограничной ситуации возможны двумя способами: Или человек не желает борьбы и вступает на путь осуществления не знающего борьбы существования; в своей безусловности веря этой утопии, он гибнет, как существование. Или человек утверждает борьбу ради самой борьбы; он исполняет свою экзистенцию, только лишь борясь, безразлично, за что и с каким содержанием, и, наконец, умирая в борьбе (Entweder will der Mensch den Kampf nicht und beschreitet den Weg, ein kampfloses Dasein zu verwirklichen; in seiner Unbedingtheit der Utopie glaubend, geht er als Dasein zugrunde. Oder der Mensch bejaht den Kampf um des Kampfes willen; nur kämpfend, gleichgültig wofür und mit welchem Gehalt, und im Kampf schließlich sterbend erfüllt er seine Existenz).
Первой возможности требует Евангелие: «А Я говорю вам: не противься злому»1. Никогда не совершать насилия, даже в обороне, отказаться от всех тех условий существования, которые в чем-нибудь основываются на применении насилия к другим,– было бы невозможно, не жертвуя при этом нашим собственным существованием. Даже возвращение к самой примитивной форме существования, – так же точно, как и любое другое состояние совместной жизни людей во времени, – не обеспечит возможности такого непротивления, за которым бы не наступала как его непременное следствие гибель самого непротивленца.
Другая же возможность утверждает борьбу как таковую. Человек ищет не удовольствия, а приращения власти, и обязан так делать (Der Mensch sucht nicht Lust, sondern ein Mehr an Macht, und soll es tun). Величина его власти есть в то же время ранг его собственной ценности. Счастье – это сделавшееся господствующим чувство власти. Учение софистов говорит истину: Каждый из нас хотел бы, если возможно, стать господином над всеми людьми, а всего охотнее – стать богом. Борьба непрестанно необходима, и она есть как таковая истина и ценность человеческого существования. На вопрос: для чего существует власть? – ответ дать невозможно.
Обе эти позиции хотя и улавливают на мгновение пограничную ситуацию, но затем они теряют ее в рационально-однозначной прямолинейности своего «нет» или «да». Отрицанию всякой власти как таковой, противостоит ее возвеличение, недостоинству покорности и не желающей бороться гибели – достоинство самоутверждения и обретаемого в борьбе расширения существования. Иллюзия в первом случае состоит в том, будто на этом пути вообще возможна жизнь, а во втором случае – в том, будто в борьбе как таковой уже есть содержание (Die Täuschung ist im ersten Falle, daß auf diesem Wege ein Leben überhaupt möglich sei, im zweiten Fall, daß im Kämpfen als solchem schon Gehalt sei).
Насилие направлено не только вовне, против других. Человек направляет его на себя самого. Кто развивает в себе большую волю (einen großen Willen), непрерывно развертывая свою власть вовне, у того есть и сильная воля в отношении к себе самому. Кто не может властвовать над самим собой, не может властвовать и над другими; он способен бывает только благодаря случайным ситуациям к минутному, лишь животному, непродолжительному применению насилия. Насилие над самим собой в том раздвоении, в силу которого требовательная самость противостоит повинующейся самости, осуществляется как самодисциплина в послушании себе. Оно создает внутри то же, что делает и насилие вовне: торможение, разрушение, оформление, господство. И это насилие тоже можно односторонне восхвалять как чистую форму, и напротив, человек способен восстать против любого насилия, какое он мог бы обратить против себя самого:
Ригористы, видящие истину в однозначной силе этических законов, прославляют изнасилование самости как таковое (verherrlichen die Vergewaltigung des Selbst als solche); ибо самость в их глазах ничтожна и имеет некоторую ценность только благодаря форме своего самообладания. Брутализация индивидуальности ее же собственными силами по мерилу рациональных требований или эстетического оформления есть для них подлинное бытие (Die Brutalisierung der Individualität durch sich selbst am Maßstab rationaler Forderungen oder ästhetischer Formung ist ihnen das eigentliche Sein).
Напротив, осуждение насилия над собой требует непосредственно следовать всякому инстинкту, всякому порыву души, всякому побуждению. Что есть, то добро. Всякая сдерживающая закономерность искусственна и потому неистинна. Для того, кто пребывает в любви к бытию, все поступки хороши, всякое опьянение чувственного удовольствия, ложь, воровство и обман. Это отрицание всяких препятствий для душевной непосредственности исторически приводило к самым крайним выводам в сектах; но необходимо вело также, как и осуществление учения о внешнем непротивлении, к хаосу и гибели.
Прославление или осуждение насилия в отношении других или себя самого можно мыслить с рациональной ясностью, ибо и то и другое находится вне пограничных ситуаций. Их последствиями в осуществлении бывают или гибель вследствие отказа от всякого использования насилия, или же опустошение и бессодержательное существование изнасилования. Если я не желаю ни в чем жить за счет другой жизни, мне придется отказаться от самой жизни; умонастроение непротивления означает самоуничтожение, и остановить его можно только по случайному стечению обстоятельств или по непоследовательности. Утверждение же одной лишь власти как насилия ведет на тот путь, в конце которого стоит одинокий, который все уничтожил или покорил себе, завоевал уже себе неограниченно обширное пространство, но которому нечего делать в этом пространстве; у него остается задача жизни, лишь пока у него еще остается, что разбить; воля властвовать над всем или уничтожить все, воля сделать собственную власть безграничной, последовательно кончает отчаянием оттого, что у нее больше нет противников.
Рассудку кажется неизбежным выбор между осуждением и прославлением насилия; последствием этого выбора была бы неумолимая последовательность в ту или другую сторону.
Можно было бы, прежде всего, оспаривать пограничную ситуацию привязанности существования к борьбе насилием. Мир повсюду являет нам случаи помощи, понимания, согласия, дозволения, места для всех. И однако, невозможно эмпирически указать ни одного случая совместной жизни людей, который отличался бы устойчивостью во времени и не опирался бы при этом на границе на насилие и власть, вовне, как и вовнутрь. Но можно было бы сказать на это, что, если эмпирически и нельзя найти такого случая, то задача состоит в том, чтобы создать его. Что непозволительно ссылаться на опыт там, где воля к идеалу творит сперва то, что затем может получить существование и для опыта. На это следовало бы, однако, возразить указанием на опыт, представляющий всеобщие фактические необходимости человеческого существования: естественное умножение народонаселения; возможности обеспечить себе пропитание, всегда остающиеся все же ограниченными при самом широком распространении этого населения; так или иначе необходимые для существования и однако разрушительные работы; чрезвычайное разнообразие характеров людей (Artverschiedenheit der Menschen), отнюдь не становящееся предметом объективных, очевидных для всех констатаций, из чего вытекает невозможность распределения всех задач и работ в соответствии с этим различием характеров. Все это вместе становится основанием для отрицательной констатации: единственно правильное устройство человеческого существования было бы как таковое несообразностью даже в том случае, если бы мы допустили, что им направляет совершенное человеческое познание (die Einrichtung des menschlichen Daseins als richtige würde selbst dann nicht stimmen, wenn eine vollkommene menschliche Einsicht als lenkend angenommen würde). Более ясная светлость мышления обнаруживает здесь тем более глубокие неразрешимости, проявляющиеся в существовании как объем власти и как разрешение споров при помощи открытого или завуалированного насилия. Всякое целесообразное, правильное устроение есть лишь анклав и отдельная цель, к которой в каждом случае стремятся люди. Мир людей не становится предметом деятельности как целое, каждый действует в мире, а не объемля его.
Если, таким образом, невозможно оспаривать действительности помощи, понимания, согласия и совместной деятельности (Zusammenwirken) и их необходимости для человеческого существования, и если, более того, совместная жизнь людей показывает нам некоторый порядок, а в нем также и справедливость, и свободу, -то все это, однако же, верно лишь в ограниченных пределах. Всякий индивид оказывается в состоянии встать на той границе, где решает дело уже не этот порядок, но фактическое насилие, которое терпит он сам или которым он сам пользуется. Но нет среди живущих ни одного, кто бы не оказывал и не принимал помощи других, никто не живет без соглашений как компромиссов, в которых не испытывают на прочность в действительной борьбе известное соотношение сил, но обходят решение спора действием, взвешивая доводы сторон, так что интересы обоих отчасти удовлетворяются, потому что обоим риск в случае борьбы представляется намного большим, чем выгода в случае компромисса.
Мысль о том, что в конце концов, вместо предварительной отсрочки решения дела путем борьбы, может открыться некое истинное право; что власть была бы тогда разве что инструментом (Vehikel) осуществления права, право искало бы власти, чтобы сделаться действительным; что власть получили бы чистая совесть и рассудительная прозрачность как защитница права – эта мысль обречена оставаться лишенной всякой действительности. Истинно, правда, что власть обретает содержание только благодаря осуществляющимся в ней идее и экзистенции; и что формулируемость прав служит идее и экзистенции средством коммуникации; истинно также, что содержательная власть сама в то же время полагает себе границы и вновь снимает тем самым прямолинейность противоположности между властью самой по себе и несопротивлением (Nichtwiderstreben). Но право есть в лучшем случае лишь выражение конкретно определенных историчных сил, которые, как идеи, опираются на экзистенции в существовании, порядок которого имеет свои корни в решениях по исходу борьбы и удерживается благодаря угрозе применением насилия. До сих пор попытки добиться признания для некоторого правильного права как доступного общезначимому знанию всегда оставались тщетными. Ибо известное право является справедливым отнюдь не в качестве абстрактного положения и не в конструкции возможного в согласии с ним существования, но только в действительности его практических последствий, о которых прежде никто не думал. Правильное право остается сугубой идеей; оно невозможно не только как знаемое предметно и определенно, но невозможно как осуществление. А потому страсть к осуществлению справедливого права так легко может направиться по следующему пути: в революции применение насилия оправдывается целью ликвидации всякого насилия; но в ходе неизбежного приспособления к действительности человеческих масс создается новый положительный порядок, существующий опять-таки благодаря насилию, т.е. в конце стоит та же форма существования, которая была вначале, только с другими правителями и с другим содержанием. Силою этого положительного права существует относительно устойчивый порядок, в котором насилие замаскировано, потому что применяется только изредка; каждый знает о его существовании и стремится избежать его применения к себе, своевременно подчиняясь фактическим законам. Я с полным сознанием легальности извлекаю выгоды из действующего права в силу своего властного положения, и я терплю невыгоды от права, если положение мое неблагоприятно, оставаясь довольным до тех пор, пока эти невыгоды остаются в сколько-нибудь терпимой пропорции к выгодам, с точки зрения возможностей насилия, в крайнем случае. Здесь только потому возникает иллюзия справедливого мира, что в оформленном насилии оказываются скрыты те границы, вследствие которых и это существование во всем основано на условиях борьбы, в своем исходе либо уже решенной, либо еще только подлежащей разрешению.
Во всяком случае, окончательное состояние покоя в совместной жизни людей не дано эмпирически, не поддается конструированию как возможность и не предстоит нашему взору с наглядной очевидностью как требующий осуществления идеал. Остается пограничная ситуация: если я хочу жить, то я должен быть пользователем известного применения насилия; и потому я сам должен некогда потерпеть насилие; и потому я должен оказывать помощь и принимать помощь и быть благодарным; и потому я должен ограничивать и сгибать ясное Или-Или, вступая в соглашения и компромиссы.
В этой пограничной ситуации не существует поэтому объективного решения раз навсегда, но есть только историчное решение для данного случая. Если я экзистирую в этой пограничной ситуации, то следствием этого будет не пассивность, но требование: избрать жизнь в этой полярности вместе с принадлежащими к ее составу условиями в моей историчной ситуации. Я не могу желать сделать иным мир в целом от самой его основы, но могу лишь осуществлять в нем из собственного своего истока. Свое право я не могу обосновать иначе как относительным и партикулярным образом; ибо я не могу желать вправить кости существованию вообще средствами права. Но я экзистенциально присутствую в мысли о праве, смотря по существенности ее содержания, от самого незначительного витального оппортунизма, вплоть до пылкого энтузиазма в идее права, открывающей мне в историчном мгновении истину деятельности. В пограничной ситуации становится невозможен покой неясности, закрывающий глаза на борьбу, как если бы жизнь была возможна и без нее; невозможен становится слепой фанатизм, готовый утопить экзистенциальное содержание в абстрактных принципах права. В пограничной ситуации существование являет себя незавершенным и незавершимым. Эти уклонения рассудка в ту или другую сторону означают отречение от исторично действительной экзистенции. Отныне уже невозможно вынести какого-либо окончательного суждения о борьбе, – ни для утверждения ее, ни для отрицания; но, коль скоро существование есть также и борьба, остается возможен разве только вопрос: где мне избрать властное положение и пользоваться, где поддаться и потерпеть, где бороться и идти на риск? (weil Dasein auch Kampf ist, ist nur noch die Frage: wo eine Machtposition ergreifen und nutznießen, wo nachgeben und dulden, wo kämpfen und wagen?) И решение этого вопроса получается не из всеобщих принципов, – хотя оно никогда не достигается и без них, – но только из историчной экзистенции в ее положении. Теперь разрешение спора насилием не исключает готовности к соглашению и компромиссу, воля к борьбе не исключает понимающей humanitas. Вопрос всегда только в том, когда и где?
Это абстрактные предельные представления: героическая борьба и гибель ради себя самого – и совместное бытие душ в безграничной гармонии мира. Вопреки этим прямолинейно простым возможностям мы – такие существа, которые обретают бытие и содержание только в конечных ситуациях борьбы во времени. Наша действительность не есть ни что-то целое, ни что-то безвременное (Wir sind entgegen diesen gradlinigen Möglichkeiten Wesen, die ihr Sein und Gehalt nur in endlichen Situationen des Kampfes in der Zeit haben. Unsere Wirklichkeit ist nichts Ganzes und nichts Zeitloses).








