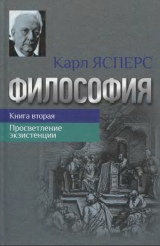
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
Еще в самом падении головокружения возможно обратиться к бытию. Сознание того, что это необратимо, хотя и может быть выражением нежелания; в таком случае фатализм окончательности стал пассивностью неотрывающегося от себя пустого делания. Но то, что и в самом деле чего-то невозможно вернуть назад, потому что оно означает вечное решение, – это – мерило бытия во времени, в силу которого это бытие влечется в свою глубину. Самая крайность возможности перед лицом бездны становится истоком действительности экзистирования в непостижимом возвращении к самому себе (Zusichselberkommen).
3. Страх.
– Движение содрогания в головокружении и ужасе становится в страхе поворотным пунктом как сознание возможности быть уничтоженным (Bewußtsein des Vertilgtwerdenkönnens). Страх есть приступ головокружения и ужас свободы, стоящей перед выбором. Только через страх, в преодолении страха можно достичь решительности абсолютного сознания.
В отношении к существованию всякий страх возникает из стоящего за ним страха смерти. Избавление от страха смерти разрушило бы и всякий другой страх. Слепой страх животного и зрячий страх мыслящего человека необходимо принадлежат к составу существования, потому что существование желает сохранить себя. В ответ на угрозы оно заботится о себе, инстинктивно или с предусмотрительностью и расчетом на то, как уменьшить эти угрозы. Даже нечто малое еще может быть предметом страха, поскольку оно указывает на возможную надвигающуюся действительность угрожающего характера или даже только напоминает нам о ней; и страх остается беспредметным как всепроникающее сознание гибнущей конечности (alles durchdringende Bewußtsein der versinkenden Endlichkeit).
Чем полнее мое здоровье, тем с большей вероятностью я живу в наивном бесстрашии (Angstlosigkeit), однако во всецелой зависимости от этой своей витальности. Это не преодоление страха, а забвение о нем, и он сразу же дает о себе знать при болезни, при умножении возможностей угрозы, при безработице, при удалении моих витальных привычек. Без страха остается необходимая как условие самого существования деятельность заботливости (Vorsorge); слишком сильный страх, опять-таки, препятствует ей. Забота о сохранении жизни в предвосхищающих расчетах мысли уменьшают страх за существование; мы хотели бы получить объективную безопасность. Но как бы ни было осмысленно стремление к такой безопасности, достичь ее, тем не менее, невозможно. Заботящийся труд обо всякого рода гарантиях бывает подлинным только в соединении со знанием о недостоверности на той или иной границе. Напротив, нежелание активно стремиться к возможным гарантиям -это неистинная пассивность (Umgekehrt ist es unwahrhaftige Passivität, die möglichen Sicherheiten nicht aktiv zu erstreben). Но пребывать в витании между заботливостью и знанием о ненадежности возможно только при преодолении страха, растущего из другого корня:
От страха за существование сущностно отличен экзистенциальный страх перед возможностью ничто. Я стою перед бездной, не только потому что скоро вовсе перестану существовать, но потому что в подлинном смысле вовсе не существую. Я более не забочусь о своем существовании, не испытываю более чувственного страха смерти, но уничтожающий страх виновно потерять себя самого (die vernichtende Angst, schuldig mich selbst zu verlieren). Я осознаю пустоту бытия и пустоту моего бытия. Витальное отчаяние в ситуации, когда я должен умереть, – это только аллегория экзистенциального отчаяния в ситуации отсутствия достоверности моего самобытия. Я не знаю, чего мне желать, потому что я хотел бы избрать все возможности, не хотел бы упустить ни одной из них, и все же ни об одной из них не знаю, решает ли она дело для меня. Я уже не могу совершать выбора, но пассивно предаюсь на волю становления событий. В сознании своего экзистенциального небытия я спасаюсь бегством от этого сознания в слепое делание произвольного, просто как функцию (Betrieb).
Страх за подлинное бытие как экзистенцию не знает заботливой предусмотрительности и расчета и не знает внешней угрозы. Здесь нужно видеть возможность небытия, хотя и не может быть никакой заботливой техники для ее уменьшения. Только в самостановлении через историчную коммуникацию от экзистенции к экзистенции просветляет себя абсолютное сознание, из которого становится возможно и это витание в конечном существовании как позиция покоя (Schweben im endlichen Dasein als Haltung der Ruhe).
Автоматический процесс никогда не выведет меня из страха.
Страх за существование невозможно было преодолеть при помощи объективной безопасности; никакую заботу нельзя опровергнуть рационально убедительными доводами; любое бедствие всегда остается возможным, а самое страшное для существования, в конце концов, – достоверно предстоящим. Меланхолия отчаяния, в своей направленности на возможности страха всегда бывает права. Преодолевают ее, только релятивируя во владении способами знания из достоверности бытия, которая может возникнуть в экзистенциальном страхе. Тогда для меня возможно хладнокровие, не отменяющее страха, но властвующее над ним.
Экзистенциальный страх еще менее возможно преодолеть при помощи объективной безопасности. Правда, этой безопасности растерянно ищут в объективных гарантиях земных авторитетов. Однако тому, кто побывал однажды в свободе с собою самим, эти авторитеты могут дать только судорожную безопасность (krampfhafte Sicherheit). Скорее, абсолютное сознание непрестанно должно изначально повторять себя само, и оно остается зависимым в своем удостоверении от фактического страха. Поэтому преодоление не означает отмены. Возможно прямо-таки желать страха из состояния пустого безразличия, с тем чтобы вновь прийти к себе самому. Мужество страшиться и мужество преодолевать страх составляет условие для истинного вопрошания о подлинном бытии и для побуждения к безусловному. То, что может быть уничтожением для нас, есть в то же время путь к экзистенции. Нет свободы там, где нет угрозы возможного отчаяния (Der Mut zur Angst und ihrer Überwindung ist Bedingung für das echte Fragen nach dem eigentlichen Sein und für den Antrieb zum Unbedingten. Was Vernichtung sein kann, ist zugleich der Weg zur Existenz. Ohne die Drohung möglicher Verzweiflung ist keine Freiheit).
В пограничной ситуации страх может остаться как уничтожающее головокружение. Никакой рациональный довод не может подвигнуть индивида, если он без веры пребывает в отчаянии. Даже и его отрицательная вера, если он чувствует себя виноватым за свое безверие, не вынудит в нем веры. Для человека, изолирующегося от собственного истока, исполнение остается недоступно; кажется, будто его добрая воля не в силах ничего произвести. Вместо того чтобы совершать движение через поворотный пункт, человеку вменяется в обязанность выносить страшную пустоту, расторжение которой представляется ему невозможным, пока не достанется ему на долю, словно дар.
Преодоление страха в абсолютном сознании – это необъективный, но переживаемый в глубине души критерий философской жизни. Тот, кто из собственного истока ищет пути к абсолютному сознанию, без объективных гарантий против страха, тот живет философски, и сообщения рациональных просветлений с этого пути суть для него философия. Тот, кому достоверны объективные гарантии, живет религиозно; рациональные просветления с этого пути суть для него богословие. (Wer den Weg zum absoluten Bewußtsein aus eigenem Usrprung sucht, ohne objektive Garantien gegen die Angst, lebt philosophisch, und die Mitteilungen rationaler Erhellungen von diesem Wege sind ihm die Philosophie. Wem objektive Garantien gewiß sind, lebt religiös', die rationalen Erhellungen von diesem Wege her sind ihm Theologie). И в том, и в другом индивид как душа ведет борьбу за бытие в отсвете своего абсолютного сознания, которое он должен обрести в движениях из поворотного пункта.
4. Совесть.
– Если незнание есть поворотный пункт, из которого воздействует на нас исток всякой возможности, если головокружение и ужас понуждают к движению, если страх как сознание возможности быть уничтоженным в смешавшейся свободе (das bewußtsein möglichen Vertilgtwerdenkönnens in verwirrter Freiheit) изводит из себя мою самость как дарованную мне же, то совесть есть голос в поворотном пункте, требующий от меня различать и решать в этом движении (die Stimme am Wendepunkt, die in der Bewegung zu unterscheiden und zu entscheiden fordert).
а) Движение через совесть.
– В совести со мною говорит некий голос, который есмь я сам. Этот голос не просто присутствует во всякое мгновение; мне должно быть возможно слышать, чтобы воспринять его негромкую побудку; мне должно быть возможно ожидать в неопределенности, если этот голос молчит; а потом его требование может вновь неотклонимо предстать мне; я слышу его вполне громко и стараюсь заглушить его, если желаю поступить вопреки ему. Это – моя коммуникация со мною самим, как бы в расколотости моего бытия. Обращение истока моей самости к моему эмпирическому существованию. Никто не призывает меня; я сам говорю с собою. Я могу убежать от себя, а могу остаться верным себе (zu mir halten). Но эта самость, которая я подлинно есмь потому, что могу быть ею, еще не предстоит действительно (ist nicht schon da), но говорит из истока, чтобы направлять меня в движении; она молчит, если я двигаюсь верно (in der rechten Bewegung bin) или если я совершенно потерял себя.
В совести я отстранен от себя (Im Gewissen habe ich Distanz zu mir). Я не отдан во власть себе как существованию, которое дано и только разыгрывается. Я вмешиваюсь в себя самого и, насколько это в моих силах, порождаю в существовании то, что я есмь. Между моим существованием и моим еще не раскрытым подлинным самобытием вступает совесть как действительность, исходя из которой я должен признавать или отвергать то, что будет отныне для меня бытием.
Совесть – это то требующее (das Fordernde), что позволяет в восхождении приступать к бытию с сознанием истины. Это – то возбраняющее, что встает у меня на пути, когда я могу утратить бытие. Все то, чего я не вправе делать, истинно все же только благодаря тому, что я делаю положительно. Совесть, говорящая «нет», в силу которой я воспрещаю себе, есть рука положительной совести. Но в возбраняющей позиции совесть ощутительнее для нас, поскольку здесь она в раздоре со мною, тогда как в качестве положительной совести она делается одним со мною. Поэтому совесть как голос совести в удерживаемом раздвоении есть существенным образом именно «нет». Демонион Сократа мог только отговаривать его от поступков53. Даже положительные поступки, совершаемые мною в силу обращенного ко мне как бы извне требования совести, остаются пустыми до тех пор, пока в них не исполнится абсолютное сознание достигшего единства с собою самобытия; они сохраняют до того характер отрицательности. Если, однако, голос совести, пришедший в единство со мною в существовании, уже не находит более нужным что-то говорить, но молчит, потому что я есмь моя самость, – то свобода есть здесь необходимость, а воление есть долженствование (Wenn jedoch die Stimme des Gewissens, eins mit mir im Dasein geworden, nicht mehr zu sprechen braucht, sondern schweigt, weil ich ich selbst bin, ist die Freiheit Notwendigkeit, das Wollen Müssen).
б) Мерка совести.
– Совесть требует различать между добром и злом. Но она есть лишь инстанция, а не порождающий исток. Ее мерка поэтому содержательна только исходя из абсолютного сознания, из любви и веры; но как различающая инстанция эта мерка может быть высказана формально:
То, что я делаю, обязано быть таким, чтобы я мог желать мира вообще таким, в каком это должно было бы происходить повсюду. В совести мне показывает себя бытие, которому как сущему всеобщим образом я раз навсегда могу сказать «да». (Was ich tue, soll so sein, daß ich wollen kann, die Welt überhaupt sei so, daß es überall geschehen müsse. Im Gewissen zeigt sich mir das Sein, zu dem ich als allgemein seiendem für immer ja sagen kann).
Поскольку в совести, взирая на такой мир вообще, я хотя и отвлекаюсь от своей историчной данности, на мгновение подвергая ее сомнению, но все же могу произвести не мир вообще, а только собственное бытие в историчном мире, то вопрос совести к самой себе гласит: насколько она желает осуществлять из безначальной свободы, а насколько из исторично обязывающей себя свободы. Меркой для решения совести становится содержание историчной основы в принятии на себя.
В безвременном идеале, ограничиваемом и определяемом в овремененной историчности, меркой совести служит то, что я желаю вечно быть тем, что я есмь в своем делании (daß ich das, was ich in meinem Tun bin, ewig sein will); все равно – высказываю ли я эту мерку как готовность к повторению в вечном возвращении; или же я согласен принять на себя долю ответственности за все возможные последствия; или же, наконец, в этом делании как явлении я читаю выражение открывающегося в нем подлинного бытия.
в) Решительность в силу совести.
– Я не могу оставаться в непосредственности своего существования и поведения. Если совесть привела меня к различению, то она требует от меня решиться: не просто существовать таким, каков я есть, но избрать то, в качестве чего я желаю быть (nicht da zu sein, wie ich einmal bin, sondern zu ergreifen, als was ich sein will). Из возможности многого я возникаю в решимости (Entschluß) как самость.
Решимость есть ответ на призыв совести в светлости различающего мышления (Entschluß ist die Antwort auf das Gewissen in der Helligkeit des unterscheidenden Denkens). Она есть не правильное решение партикулярной проблемы практической растерянности для сознания вообще, но экзистенциальное решение, как абсолютное сознание. Всего лишь конечная решимость на основе всестороннего размышления и всех имеющихся сведений принимает решение о том, что вероятно правильно, и успех этого решения показывает, было ли оно правильным; оно условно и не есть ответ самобытия на зов его совести. Экзистенциальная же решимость как подлинный ответ совести избирает безусловно, любой ценой избирая при этом себя (wählt unbedingt im Sichergreifen um jeden Preis); успех как случайный исход последствий в удаче или неудаче в мире не служит доказательством ни за, ни против. Однако и экзистенциальная решимость существует не непосредственно, как чувство и побуждение, но есть лишь выдержавшая проверку бесконечной рефлексии, но в конечном счете безосновная непосредственность, которая безгранично использует для своего осуществления всякое знание, мышление, опыт.
Решимость есть зрелость как действительность после сугубо возможного, однако такая зрелость, которая есть не завершение, но начало движения, в качестве которого она проявляется во времени. Доказательный успех есть уже не случайный исход счастливых обстоятельств, но верность, которая проходит испытание делом как крепкая приверженность решимости, происхождению и решению во всех ситуациях существования. Это движение есть энтузиазм, который все еще продолжает находить и подобен вечной юности решимости; она есть страсть, желающая также и осуществить то, что возможно.
Я и моя решимость – не две разные вещи; как лишенное решимости существо, я разорван в самом своем абсолютном сознании. Но если я решился, то только весь я. Мгновение решимости, как решение есть зачаток, разворачивающийся затем как целая жизнь, есть самобытие в его целом, каким оно, подтверждая себя, повторяется в последовательности своих историчных обликов.
В решимости есть неистребимость как упорство во всех переменах ее явления. Но эта сила решительности существует не просто как витальная сила и беззаботная храбрость, как говорят обыкновенно, например, о «решительных людях»; но, из волевого решения она есть сохраняющаяся при всей мягкости слушания и реагирования решительность сокровеннейшего самобытия, которое может рискнуть всем.
г) Ступени совести.
– Формы образованности этической истины, которые исторически принимала совесть и которые позволяют ей принимать решения согласно всеобщим правилам, имеют, однако, свой источник и основание проверяемости всегда лишь в изначальной совести, которая перед лицом границ выносит свое решение исторично, не признавая над собою ничьего приговора и лишь сама изрекая истину. Совесть неосязаема (ungreifbar), но там, где она сохраняется в чистоте и без маскировки, ее приговор не ведает ошибок.
У совести есть ступени ее явления. Хотя она бывает безусловной и изначальной только там, где стоит у границы, во временном существовании ей нужны закрепы (Verfestigungen), нисходящие даже вплоть до правил подобающего, но которые она допускает лишь до тех пор, пока они не противоречат ей в ее истоке. Но я не могу успокоиться ни в одной из этих форм. Совесть не удовлетворяется ни абсолютным велением извне, ни всеобщим законом, который может быть усмотрен в сознании вообще; ни непосредственным чувством на одно мгновение, ни произволом, говорящим «я так хочу (ich will nun einmal so)»; ни сознанием целостности моего эмпирического существа, но требованием объективной ситуации для достижения известной цели существования. Все это существует как относительные формы, в которые совесть переводит себя как в существование.
Совесть убаюкивают всякого рода объективностями, конвенциями и нравственными законами, учреждениями и порядками общества. Масса не допускает совести, всякий объективный порядок, объявляющий себя безусловным, отвергает ее. Утверждающаяся на самой себе совесть обречена поэтому, скорее всего, – там, где она дает о себе знать другим, – сделаться для них ненавистной. Толпа признает ее только как общую совесть, т е. не признает совсем. Поэтому подлинно изначальная совесть не должна показываться в мире, а должна скорее молчанием оберегать себя в то же время от ложных притязаний, к которым она может соблазнить человека. Ибо действия в мире должны оправдывать себя имеющими здесь силу аргументами. Апелляция к совести была бы здесь столь же ничтожна, как апелляция к чувству. В качестве оправдания она есть только разрыв ищущих соглашения переговоров. Ссылка на свою совесть имеет здесь смысл как выражение вызова к безусловной борьбе. Открытой и потому не объективно зафиксированной инстанцией совесть бывает только в экзистенциальной коммуникации от индивида к индивиду, в которой она высказывается сполна и ставит под сомнение, чтобы прийти к своей истине вместе с другим.
д) Спокойная совесть.
– Спокойная совесть возможна как исток и как мгновение, но без иллюзий невозможна как налично пребывающее (Bestand). Ибо совесть, поскольку она постигает себя в чистоте только у границ, нельзя ввести в заблуждение относительно вины. Спокойная совесть в партикулярных вопросах есть рационалистический самообман (rationalistische Selbsttäuschung), который довольствуется тем, чтобы в каждом случае исполнить то, что представляется рассудку правильным; при этом все смутное, но действительное игнорируется. Спокойная совесть в целом невозможна, поскольку целое никогда не предстает нам в чистом виде. Проистекающая из совести деятельность не преодолевает вины; скорее, эта вина как некий пребывающий непорядок (ein bleibendes Nichtstimmen) в явлении бытия есть вечно беспокойное жало совести (der nie aufhörende Stachel des Gewissens).
е) Голос совести и голос Божий.
– Даже если в своей совести я предстою трансценденции (angesichts der Transzendenz stehe), то предстою все же так, что не слышу ее и не могу повиноваться ей, как голосу из иного мира. Голос совести не есть голос Божий. В слове совести слышим как раз молчание божества. Божество остается здесь, как и повсюду, потаенным (Im Sprechen des Gewissens ist grade das Schweigen der Gottheit. Sie bleibt hier wie überall verborgen). В совести я вижу для себя указание на трансценденцию, но остаюсь утвержденным на себе самом. Божество не лишает меня свободы, а значит, и ответственности тем, что оно показывается мне само.
Отождествление «голоса совести» с «голосом Божиим» запутывает для меня и меня самого, и божество, если оно приводит меня на такую позицию, как если бы Бог, противопоставляя мне себя как некое Ты, обращал ко мне слово. В таком случае самокоммуникация совести объективно оформлялась бы как мнимо непосредственная коммуникация с Богом.
А это впоследствии отменило бы, прежде всего, фактическую коммуникацию от экзистенции к экзистенции. Как может, – для того, кто напрямую общается с Богом, – иметь еще абсолютное значение другой человеческий индивид! Бог как Ты, с которым я состою в общении (Verkehr), становится средством самозамыкания закрытой нетерпимости к чужой совести. Всякое отношение к Богу, которое не осуществляется сразу же как экзистенциальная коммуникация, благодаря которой это отношение только и может быть истинным, -не только сомнительно само по себе, но оно есть предательство экзистенции.
Но это значит, что с отождествлением голоса совести и голоса Божия для меня утрачивается и сама совесть, и божество. Божество было бы сковано в совести, как в тесноте; а совесть уже не была бы той свободной исконностью, которая находит себя лишь в движении.
Наконец, совесть в ее историчном облике всегда есть совесть человека. Совесть противостоит совести; единой универсальной совести не существует. Так что же, значит, Бог стоит против Бога, когда истина совести одного человека борется против истины совести другого? Было бы саморазрушительным высокомерием притязать на обладание божеством только для себя одного и не соглашаться признавать его же для другого.
Если Бог не является объективной действительностью в мире, не показывает себя, и если даже в совести он не говорит с нами сам, то он мог бы все-таки косвенно обнаруживать себя в совести, причем решительнее всего там, где совесть становится борьбой с божеством: Я есмь в совести, как самость, у истока моей вновь и вновь подвергающей себя сомнению безусловной воли; благодаря совести я в темноте существования возвращаюсь в пограничных ситуациях к себе самому; в ней я словно вопрошаю божество, не получая ответа, и либо склоняюсь, доверяя ему, но не понимая, перед действительным, либо же, стоя в вопрошании перед божеством, вступаю в разногласие с действительным. Поэтому в совести бытие-к-Богу (das zu Gott Sein) означает одновременно возможность восстать против Бога по мотивам совести (aus dem Gewissen gegen Gott sich aufzulehnen). Искать Бога в совести есть одновременно возможность, высказываемая в величайшем своенравии ищущего как отрицание Бога.
ж) Совесть и религиозный авторитет.
– Из мнимо непосредственной коммуникации с Богом следует претензия на то, чтобы отстаивать услышанное от Бога как значимое для всех и требовать повиновения тому, что было сказано Богом. В самом деле, если бы можно было слышать голос Божий, никто не мог бы противиться ему. Но претензия, выдвигаемая в мире людьми и человеческими институтами, не есть утверждаемый в этих людях и институтах голос Божий. Всякий утвержденный на себе, пусть бедный, но все же свободный и смелый человек должен отвергнуть эту претензию. Его право – в силу своей свободы, которой косвенно, своей потаенностью, требует божество, призывать слушать голос самого Бога, или, если не услышим прямо его голоса, признавать для себя в мире только присутствие экзистенции, движение в коммуникации и этическую действительность, которая в мире никогда не может получить окончательной завершенности как образец для возможного подражания. Поэтому подлинные люди так часто отказывались собирать вокруг себя приверженцев; они хотели свободы вокруг себя и хотели обрести свободу для возможной коммуникации. Претензия человека, который говорил бы нам, как передает традиция об Иисусе: «Я – путь, истина и жизнь»54, должна была бы окончательно удалить говорящего так от того, чье абсолютное сознание коренится в его совести.
Человек, говорящий так, как говорит Иисус, – если он говорил бы правду, – уже не был бы человек, был бы бесконечно удален от человека, – он был бы – Бог. Его голос был бы непосредственно голосом божества; следовать ему было бы неизбежно. Но к нашей совести обращается слово, в котором Иисус требует различения и решения. Если он говорит: «Не мир пришел Я принести, но – меч»55, и если он осуществляет собою в мире образ (Gestalt) истины, полагающей себя самое абсолютной, то нам остается только решительно последовать ему (что это означает, – с захватывающей душу наглядностью явлено всем в тех людях, которые в продолжение тысячелетий принимали всерьез мысль о последовании Христу; в его парадоксальности и последовательности этому последованию нужно научиться у Киркегора56) – или решительно не следовать ему. Все среднее было бы в действительности более против него, чем самая решительная вражда с ним. Тот, кто живет философски, не оговаривая этому условий в религиозной гарантии, тому приходится всю жизнь внутренне бороться с этой возможностью.
Совесть отступает перед другой силой, если она идет ко дну в молитвенной жизни, из которой непосредственно говорит с нами божество. Кромвель всю ночь молился перед принятием тех решений, которые были для него, по совести, невозможны. Он находил в молитве согласие и черпал отсюда достоверность, с которой позволял себе делать то, что было политически необходимо57. Кто переживает таким образом в молитве объективное предначертание, должен сделаться для нас сомнителен. Для кого совесть и молитва становятся тождественны в своих результатах, вследствие чего отсюда становится возможно выводить притязания, – того целая бездна отделяет от раскрывающего себя человека, пытающегося в безграничной коммуникации в мире прийти к истоку совести, и только на границе этого истока в глубочайшем одиночестве без всяких объективных притязаний предстоять своей трансценденции, которую он называет Богом.
Совесть, таким образом, или сама есть исток, и не имеет более судей над собою, или же она становится обманчивым словом. Если мы обратим внимание того, кто верует в авторитет и, принимая решения, вопрошает этот авторитет наряду со своей совестью, на то, что он ведь не мог бы признавать в себе свободной совести, если бы отдавал первенство авторитету, – то он ответит нам, например, так: здесь выбирать не приходится, и для него-де совесть тоже важнее: ибо, если в душе его говорит голос Божий, он последует этому голосу, а не слову церкви. Это утверждение, которое было бы готовым определением еретика, к тому же и само по себе обманчиво. Если голос совести как таковой уже понимается как голос Божий, то мне позволительно не запутывать Бога в этот вопрос; но если голос Божий есть то самое сверхъестественное предначертание, получаемое через молитву, то в таком случае я, собственно говоря, оставляю в стороне совесть, и тогда оказывается вполне осмысленно, если об истине утверждающих себя как объективные божественных велений будет принимать решение опять-таки объективный институт, церковь. Кто знает голос Божий как непосредственный голос тот уже тем самым исповедует одновременно веру в неоспоримый авторитет. Противоречие в собственном смысле здесь невозможно, возможно только, что две объективности, по несчастью, могут противоречить друг другу. В этом разноречии лично услышанный голос в его субъективности непременно будет релятивирован объективным распоряжением церкви, хранящей в себе опыт тысячелетий.
Но непосредственное слышание голоса Божия, который как таковой должен был бы только сокрушить меня, не было бы слышанием голоса совести. От истины некоторого переживания, которое при ретроспективной проверке можно было бы понять просто как галлюцинаторное переживание, я еще вправе отказаться ради другого голоса, требующего от меня повиновения,– но не могу отказываться ради него от истины голоса совести. Скорее, напротив: содержание объективного, непосредственного предписания само подлежит проверке моей совести. Положение, гласящее: мы хотим следовать голосу Божию даже вопреки слову нашей церкви, отнюдь нельзя, таким образом, принимать за выражение свободы самобытной экзистенции; ибо к объективной церкви надлежало бы отнестись с куда большим доверием, чем к подобному субъективному опыту, никакого доверия не заслуживающему. Если мы думаем, что этим положением мы, несмотря на повиновение авторитету, спасаем свободу в нашей совести, то мы заблуждаемся. Совесть, – как раз потому, что не есть голос Божий, – есть подвижный и движущий исток истины моего бытия, которая может ввести меня в безграничную коммуникацию с ближайшим ко мне, но не может привести к повиновению, разве что в партикулярных и относительных делах и в порядках мира.
Ибо, если бы мы захотели сказать, что по совести отрекаемся от собственной совести, потому что эта наша совесть подчинена обманчивой субъективности, – это был бы только словесный трюк. Истинно лишь то, что в детстве и потом в течение всей жизни мы в обширных сферах жизни следуем авторитетам как формам нашей историчной субстанции; но при всяком конфликте, затрагивающем то, что для меня существенно, именно совесть, а не требование авторитета, оказывается решающе значимой для самобытия. В этой форме признания авторитета сам авторитет, как абсолютно значимый, уже оказывается снятым.
Исполненное абсолютное сознание
Наше мышление бывает естественно и бывает самим собою там, где в поле его зрения – отдельные определенные предметы, и где оно мыслит свои собственные формы. Но там, где оно отворачивается от всякой предметности и увлекает к истокам, иными словами, становится философским мышлением, – там оно или становится догматически неистинным в ложной предметности, или делается тем более напряженным, косвенным, тем менее воспроизводимым по образцу, чем более оно приближается к истоку, из которого я могу быть, но которого я не могу знать. Здесь все без исключения становится поводом для недоразумений, здесь для чистого рассудка остаются только пустые имена: они называют то, что для него не есть. Кто высказывает, мысля, исполнение абсолютного сознания, тот ближе всего подводит к истоку; поэтому и трудность становится здесь наибольшей. Она обнаружится в том, что вместо сообща совершаемого движения является непосредственное, накапливающееся речение (Die Erfüllung des absoluten Bewußtseins denkend auszusprechen, würde dem Ursprung am nächsten führen; daher wird hier die Schwierigkeit am größten. Sie wird sich darin kundgeben, daß statt einer mitzuvollziehenden Bewegung ein unmittelbares, sich häufendes Sagen auftritt).








