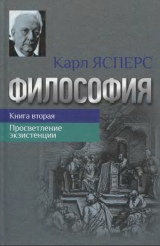
Текст книги "Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции"
Автор книги: Карл Ясперс
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
В то время как экзистенциальная коммуникация с презрением отвергает всякое применение средств, власти и обмана, политический обиход требует специфических средств ведения борьбы и введения в заблуждение, которые всякий раз грозят подавить возможную экзистенцию в самом ее становлении (Wirklichwerden):
Интеллектуальная аргументация, в которой все можно обосновать и опровергнуть, стоит на службе интересов; искусство заключается в том, чтобы софистически принудить к признанию того, чего невозможно немедленно опровергнуть. Если не удается поймать противника в сети аргументации и тем фальшиво убедить его, то нескончаемость смещения точки зрения, изыскания новых возможностей, переноса на другие примеры, которые должны быть решающими, выглядит в споре как усталость бойца; остается только вопрос, кто выдержит дольше.
При переговорах – все равно, мы ли обладаем перевесом сил, или же он принадлежит другому – по форме неизменно обращают внимание на суждение другого. Есть неписаные законы о том, как полагается действовать, чтобы другой оставался в хорошем расположении духа. Форму высказывания по возможности избирают вопросительную и гипотетическую, положительное должен сказать другой. Тогда он или определится во мнении вопреки собственной выгоде, или же мы сможем возмутиться сказанным; все зависит от того, какой это производит эффект. Искусство состоит в том, чтобы соединять величайшую предупредительность к другому с молчаливым настоянием на собственной, не заявленной гласно цели. Мы высказываем интенсивное понимание особого положения другого; мы обстоятельно обсуждаем это положение, сами тем самым лучше знакомимся с ним, и носим маску величайшей услужливости. Чтобы выразить эту свою услужливость в мнимой уступчивости, нужна только подвижность в переговорах. Упрямая настойчивость чаще всего бывает ошибкой в обхождении с другим. Если мы находим все новые и новые предложения и компромиссы, – которые фактически, может быть, меняют немногое, но все же безусловно должны произвести впечатление этой перемены, – это создает атмосферу предупредительности. В ней, пока обиход сторон остается политическим обиходом, решающее слово остается безоговорочно за нашей собственной волей. Подвижность как таковая, будучи поначалу только средством приспособления и вежливости, служит нашей собственной выгоде: в создании и использовании новых ситуаций, в задействовании невысказанного, тем, что мы неприметно ставим другого в положение того, кто неправ и чья вина неожиданно делается затем очевидной.
При всякой борьбе за существование есть зрители: другое существование, участвующее в борьбе в силу собственных интересов и, возможно, готовое содействовать в ней. Поскольку, далее, борющееся существование не хотело бы понимать себя самого только как таковое, но хотело бы знать себя обоснованным как право, -некоторое общественное мнение составляет фактор, существенно учитываемый в политическом обиходе. Жизнью невозможно долгое время управлять только при помощи грубого насилия; то, что одерживает верх, должно также и оправдать себя и создать некий образ себя самого. Поэтому в политической аргументации апеллируют к тому, что люди вообще считают имеющим силу, к самоочевидному, подобающему, пристойному, моральному, доступному для разумения каждого. Патетика человеческого как посредственного (Durchschnittliches) избавляет от бремени дальнейшего обоснования, ибо можно уверенно ожидать, что никто не осмелится возражать на это, если только оппонент не настолько искусен, что сумеет пустить в ход против этого довода еще более убедительную очевидность.
В политическом обиходе подлинно решающее, – цели и интересы, – в каждой ситуации по-своему, скрывают. В напряжении, возникающем между безусловностью воли к успеху и невозможностью правдивости, экзистенция может взять на себя вину за неправду на службе существованию, хотя его экзистенциальная возможность никогда и не может освящать собою применяемых средств. Страдание от этой вины делает раздвоение, для сознания экзистенции, неодолимым. Поэтому кажется, будто при личных встречах политических деятелей сами приличия требуют от них не соприкасаться друг с другом как экзистенции; ибо речь идет о жизненных интересах; не следует становиться существенными, если дело идет о политике.
Всякий человек вступает в политический обиход, который есть не только форма действий государства, но и ситуация для всякого человеческого существования. Те формы, в каких являет себя этот обиход в частном общении интересов и в каких он являет себя в целом, взаимно объясняют и просветляют друг друга.
Если бы форма политического обихода была единственной господствующей формой, то возможность экзистенциальной коммуникации была бы уничтожена. Экзистенция прикасается к экзистенции только там, где разбито и оставлено общение людей как борьба врагов, борющихся один с другим за свое существование. Но абсолютизация форм политического обихода вплоть до мелочей повседневности, и даже вплоть до обхождения с самим собою – это искушение, желающее сделать возможным совместную жизнь в относительном покое, в котором ничто не выносится открыто на действительное решение. В таком случае решения следуют из коварных в молчании совершающихся процессов, в которых уже не соприкасаются между собою экзистенции. Политический обиход, если его превращают в форму жизни, вынуждает возможную экзистенцию совершенно исчезнуть под его покровом. Остаются витальные жизненные побуждение под прикрытием успокоенного и упорядоченного существования. Каждый имеет значение на началах обоюдности, а отнюдь не как он сам. Нет ни почтения, ни любви, а только форма упорядоченных, объективных соотношений власти и ранга. В сущности, господствует презрение к себе, а втайне – презрение ко всем другим. Уважение здесь питают только к власти, к авторитету в общественном мнении, к деньгам и успеху. Возмущение прорывается лишь там, где нарушается покой взаимной иллюзии посреди всеобщего замирения, где кто-нибудь говорит то, что есть, и называет вещи их несвященными именами.
Поэтому в отдельном человеке абсолютизация политического обихода бывает выражением его экзистенциальной беспочвенности. Если его внутренняя пустота встречается с пустотой другого, здесь образуются примечательные отношения солидарности в безъэкзистенциальности. Люди, подходящие друг другу по характеру, в силу общих интересов, ситуаций и в общей ненависти питают доверие к взаимности, которому, однако, всегда сопутствует недоверие и которое думает о возможности предательства. Эта позиция может в таком случае сделаться их сущностью настолько, что и с самими собой они станут обходиться политически, если находят перед собою инстинктивную уверенность сокрытия, ловких поправок, определяющей цели софистической аргументации. Если же, наконец, форма политического обихода как порядок существования будет однажды разрушена, то разрушают ее уже не для возможности экзистенциальной коммуникации, а – или для безропотного самоотречения, или же для одного лишь бесстыдства светосуществования (Unverschämtheit des Eigendaseins).
Значение возможности экзистенциальной коммуникации для философствования
1. Избежание (Meiden) гармонистического миропонимания как предпосылка подлинной коммуникации.
– Страдание от того, что коммуникация никогда не бывает осуществленной достаточно полно, а тем самым и воля к самобытию в открывающей коммуникации (in offenbarender Kommunikation), зависит от изначального миросозерцания, которое никак не может быть гармоническим.
Если я, в покое некоторого объемлющего целого, как лицо с другими лицами есмь упорядоченное этим целым бытие-вместе (Gemeinsamsein) в симпатиях, сообщениях и поступках, то я существую все-таки без раскрывающего самобытие процесса проблематизации; это некоторая изначально неподвижная общность, поддерживаемая величием и красотой этого прозрачного целого. Только там, где у меня нет этой защищенности, я переживаю подлинный стимул к коммуникации. И тогда у меня остается, как действительность, в которой и эта гармония целого, как шифр бытия, только и может стать отчетливо заметной, только откровение себя (Offenbarwerden) во взаимно обосновывающем и удерживающем друг друга экзистировании. Если я заранее знаю, что все в конечном счете хорошо, то мне нужно только удостовериться в этом, и от меня при этом ничего не зависит. Только если субстанция недоступна и сомнительна для некоторого знания, я борюсь за ее осуществление в явлении для меня на путях самостановления посредством коммуникации.
Но если я изолирую сознание того, что дело еще зависит и от меня, в том смысле, что для меня все зависит только от меня одного, то я действую только согласно нравственным законам в уверенном знании правды, как если бы человек мог для одного себя быть истиной и творить истину. Если в таком случае я верю, что эта нравственная деятельность из одного лишь умонастроения и без оглядки на действительный успех имеет метафизически только добрые последствия, то я даже в своей изолированности уже кажусь себе принадлежащим к подлинному бытию, если поступаю справедливо. Мое нравственное поведение, как только нравственное, уже доставляет мне внутренний покой; коммуникация не является тогда решающе важной, ибо истина, аналогично мистическому unió25, присутствует в этическом одиночестве автономной самости. Эта вера как гармонистическая вера на моральном основании есть фактически некоторая функция самозамыкания. Пограничные ситуации при этом скрыты. Только в них, разрывающих всякое замыкающееся в себе бытие и тем самым показывающих нам проблематичность всего, что нам вообще известно, обусловливает себя безусловная активность, которая обращается от самости к другой самости. В этой активности ищут того, что приносит удостоверенность экзистенции, на основе которой становится возможно устремить взгляд в трансценденцию, которая, если она есть предполагаемое знание или вера, не допускает состояться коммуникации, а тем самым и возможной экзистенции.
Коммуникация есть решающий исток для человека, только если окончательного сознания безопасной защищенности в лишенных самости объективностях: в авторитете государства и церкви, в объективной метафизике, в имеющем признанную силу нравственном порядке жизни, в онтологическом знании о бытии, – у него нет. Эту защищенность могут давать мне подчиненные известным условиям формы существования моего знания и воления, в которых я живу, но они не останутся безусловными и утверждающими мою жизнь достоверностями, если не будут исторично укоренены в экзистенциальной коммуникации.
Но в этой коммуникации приходится вынести присущее существованию сознание бытия: то, что это существование не может само быть всем; то, что оно не может вступить в действительную коммуникацию со всеми; то, что оно принуждено находиться в отношениях без коммуникации.
Кроме того, если человек с человеком находятся в подлинной коммуникации, здесь не может быть никакой окончательной истины как философской системы; ибо даже и система истины впервые обретается только через процесс в самостановлении, и может осуществиться только в трансцендирующей мысли в конце дней, в котором снимаются и время, и процесс.
Было бы, однако, абсурдно, если бы мы захотели предоставить объективную защищенность и экзистенциальную коммуникацию, которая избегает для себя любого гармонистического миропонимания, на выбор самости, как две возможности, или захотели бы потребовать одной из них и доказать ее как истинную. Эта альтернатива не имеет силы. Ибо если я мыслю эту альтернативу, то я уже поставил одно в зависимость от другого как условия; фактически я вижу перед собою не два пути в их действительности на одном и том же уровне, но как только я желаю прояснить себе такую альтернативу, я уже иду по одному из путей. Каждый из путей есть риск для вечности; на каждом может встретиться обманчивая самодостоверность в окаменении жизни, на каждом – и восхождение сознания к движению в истине. Нужно только требовать, чтобы мы подошли к краю бездны, у которого не принимается решение в форме суждения о наличествующей истине, но избирается мотив для образа жизни (Impuls der Lebensführung). Ничтожна бывает только невнятная половинчатость, выбирающая все и не выбирающая ничего. В выборе, совершаемом в живом мышлении, а не в интеллектуальной альтернативе, неизбежно бывает решено также и то, что я по-настоящему осознаю только тот исток, который обретаю в этом выборе; понимая его, я в то же время прикасаюсь к его основе как непонятному, тогда как другого я понимаю только в явлении, а не как его самого в его возможном истоке. Но воля к коммуникации должна остаться также волей к коммуникации с этим другим, как чужим. Я хотел бы вопрошать, слушать и требовать перед его лицом: убеди меня и пересели меня в свой мир, или признай неправду своего способа самопонимания. Правда, для меня, к примеру, столь же невозможно поистине увидеть всех других, как невозможно и то, чтобы все они меня видели. Но эта невозможность не дает мне покоя. Я не могу примириться с ней как с данностью, но я хотел бы получать всякую проблематизацию из своей воли к истине, и того, кто, как я думаю, связан неистинным образом, я хотел бы пробудить, исходя из его собственной свободы. Всякое умонастроение, избегающее такой проблематизации, – если, скажем, некоторый авторитет запретил бы вступать в диспуты с теми, кто для этого авторитета считается еретиком, – в самом подобном запрете зримо явило бы на себе клеймо неправды.
2. Возможное отрицание коммуникации.
– То, что изначальную готовность экзистенции к коммуникации мы можем выразить как философскую предпосылку, имеет следствием то, что эту предпосылку возможно также отрицать или перетолковывать.
а) Можно сказать: философия экзистенции распространяет лишенный ясной позиции и бездоказательный субъективизм; эта философия есть претенциозное превознесение собственной личности, помешанный на себе индивидуализм; безродный человек в отчаянной самоизоляции выстраивает себе фантастически-иллюзорную коммуникацию, которой на самом деле вовсе не существует; спутывая все на свете, он делает сам себя богом.
Подобного рода критика в самом деле справедлива по отношению к возможным уклонениям. В этой критике допускают смешение возможной экзистенции и эмпирического лица, – смешение, которое происходит также и там, где я хотел бы при помощи идей философии экзистенции оправдать что-нибудь в своем существовании. Экзистенция существует только как самодостоверная коммуникация, ибо только в ней я снимаю свою изолированность и обретаю исток, не допускающий дальнейшего обоснования (Existenz gibt es nur als selbstgewisse Kommunikation, in der allein ich meine Isolierung aufhebe und den Ursprung gewinne, der sich nicht mehr begründen läßt).
Но тот, кто не выходит навстречу из собственной возможной экзистенции, по необходимости должен будет признать подобные критические выражения заслуживающими уважения. Для философии экзистенции эти возражения составляют проникающий до самого корня знак вопроса. Правда, там, где эта философия бывает действительной, они вовсе не затрагивают ее сколько-нибудь всерьез, будучи чуждыми ей; однако эта критика становится опасной там, где философию экзистенции принимают как знание в объективных формулах, а не как возможность призыва.
Но в философском трансцендировании смысл дискуссии, по сравнению с тем, какой она имела в применении к предметному знанию, изменяется; дискуссия движется здесь в среде обоснований за пределы всякого вообще обоснования. Согласие существует здесь лишь как ответ и в движении нашего собственного трансцендирования. Как опровержения некоторой философии экзистенции, так и ее понятийные закрепления допускают здесь ту первую неправду, что изымают положения из их контекста и мыслят их сугубо предметно и рассудочно (gegenständlich und verstandesgemäß). То, что философская истина высказывает себя во всеобщей форме,-это неизбежно, – но истина этого всеобщего не существует сама для себя. Хотя она не есть относительная истина в смысле ничтожности, ее объективное мыслительное явление все же относительно. Поскольку бытие не абсолютно как нечто всеобщее, но всеобщее действительно лишь в нем; поскольку оно не может быть замкнуто в себе самом как обозримый объект, но разорвано в себе; поскольку, далее, наш предельный исток есть возможная экзистенция, а эта последняя живет только как экзистенция с экзистенциями, и сама никогда не есть целое, – по этим причинам не может быть абсолютной истины как объективной, и все объективное необходимо должно становиться относительным. В то время как логически убедительная дискуссия может касаться только всеобщего, философская истина может высветляться для себя только, трансцендируя за предел всеобщего из истока экзистенции в коммуникации. А потому
не может быть смысла в попытках логически опровергнуть выслушанные нами возражения как таковые. Следует спросить только, убеждает ли меня действительность возможной экзистенции во мне самом, что эти возражения истинны, или же они вовсе не затрагивают того, к чему устремлено всякое просветляющее экзистенцию мышление.
б) Мыслимо другое отрицание коммуникации, говорящее так: Человек, в конце концов, есть ведь только он сам. Обрести человечность (Humanitas) – значит только: заключить в себе богатство мира. В действительности человек как монада не имеет окон. Коммуникация, собственно говоря, невозможна, потому что человек не может выйти из пределов самого себя (nicht aus sich heraus könne); он для другого и другой для него остаются, по существу, чужим и загадкой. Коммуникация есть-де не что иное, как наша собственная широта, полнота мира во мне самом. В конечном счете все есть для меня только образ, ничто не может глубоко потрясти меня, но я остаюсь заключенным в себе самом. Я могу стремиться только к этой широте своего самобытия как бытия-мира, а не к коммуникации, которой вовсе не существует.
Здесь опровержение возражения также логически невозможно, поскольку речь идет не о знании, но о просветляющих себя самое -в тезисе и антитезисе – актах возможной свободы. Кто говорит таким образом, тот в мгновение своей речи отрицает свою готовность к коммуникации. Противоположность богатства и бедности жизненных содержаний есть противоположность совершенно иного рода, чем антитеза открытости и замкнутости самобытия. Я совершаю коммуникацию с другим именно там, где он не становится для меня простым образом, он всецело остается самим собой и я тоже остаюсь самим собою, никто из нас не превращается в другого, и все же каждый знает, что в этом акте он подлинно приходит к себе самому.
в) Отрицание коммуникации может принять ту прохладную форму, когда мы нетактично спрашиваем, что она такое и как возможно ее достичь. Мы желаем услышать в немногих словах, о чем здесь идет речь и что надлежит делать. Если на этот вопрос мы не получаем ясного ответа, ведущего к определенным поступкам и образу поведения, то коммуникация, «очевидно», есть ничто. Человеку нужны задачи, а не болтовня. Важно только одно: указывать задачи и решать задачи. Но понимать других, это, мол, отнюдь не есть моя задача.
Тот, кто спрашивает и говорит так, действует еще не как возможная экзистенция, но как сознание вообще некоторого витального существования. Ибо сознание вообще, когда оно мыслит, хочет иметь перед глазами бытие, как предмет; а когда оно действует, оно хочет осуществлять определимую цель согласно плану, допускающему перенос от одного деятеля к другому. Поэтому оно, со своей точки зрения, с полным правом обращает против всех просветляющих экзистенцию высказываний, уничтожающую констатацию, что в этих высказываниях будто бы ничего не говорится.
Однако, если человек, который как таковой есть возможная экзистенция, ведет себя только как сознание вообще, то он окончательным отрицанием уклоняется от внутреннего требования коммуникации. Вследствие того что он ставит себя на точку зрения объективности, все самобытное остается невидимо для него.
Принципиальное отрицание экзистенциальной коммуникации, если его подразумевают всерьез и если в него действительно верят, бывает выражением такого миросозерцания, с исповедниками которого следует общаться только на почве осязаемых объективностей или иррациональности слепо-витального.
Но воля к коммуникации означает знание о свободе: в явлении существования я есмь возможная экзистенция, которая может обрести свое бытие через откровение. Это – путь исполнения и условие всего остального.
В способе философствования идет молчаливая борьба за откровенность (der stille Kampf um Offenbarkeit). Для философствования из истока самостановления должен иметь силу специфический, необъективного порядка, критерий истины: мысль является философски истинной в той мере, в которой акт ее мышления способствует коммуникации (Philosophisch wahr ist ein Gedanke in dem Maße, als der Denkvollzug Kommunikation fördert). При отрицании этого критерия начинается самозамыкание истины в чистую, отвлеченную (losgelöste) объективность, и оказывается жертвой софистики. В свете этого критерия философствование овладевает истиной как непригодной объективностью в общности (ungeeignete Objektivität in Gemeinschaft).
3. Догматика и софистика.
– Философия, которую как объективную мыслительную формацию ее творец или его ученик считает правильной, в корне своем лишена коммуникации (kommunikationslos). Ибо она догматически провозглашает наличную истину. Ее форма есть форма частной науки: надлежит изучать и прогрессивно находить истину, объективно значимую для каждого; эта истина сообщается в доказательстве и опровержении.
Поскольку, однако же, философия, в отличие от частных наук, направлена на целое бытия (auf das Ganze des Seins geht), она и сама также может быть только целиком – или не быть вовсе. Если бы, в этой форме бытия-целой, она как знание была раз навсегда истинна, то, философствуя в качестве изолированного индивида, я в самом деле принужден был бы познавать так, как познает исследователь, и у меня должна была бы иметься возможность обратить ко всякому разумному существу требование принять также и для себя то, что представляется мне очевидным (das mir Einsichtige auch für sich anzunehmen). Тот, кто обладал бы истиной в этой форме, обладал бы ею, словно бы будучи самим божеством, как единственной истиной, исключающей другую истину, и тем самым считал бы сам себя единственным, познавшим истину. Другие еще не имеют истины; они должны принять ее от него, последовать ему – или остаться при неистинном. – Поскольку сознание бытия, присущее этому философу, привязано к рациональной всеобщезначимости его истины (а не к истине историчного шифра для него), сталкиваясь с отсутствием согласия других, он должен занять позицию, нерасположенную к подлинной коммуникации. У него могут быть только ученики и друзья, только противники, а не самобытные экзистенции, которые вступают с ним в борющуюся коммуникацию.
Способы ведения философской дискуссии ограничиваются на этой позиции безвредностью привычных и фиксированных объективностей в интеллектуальной игре. Но и здесь, в ответ на попытку пробиться к истокам сквозь все эти безобидности, вырастают формы дискуссии, выражающие сопротивление всякой открытости.
Техника нескончаемой рефлексии, которая не ищет коммуникации в диалоге, но хочет лишь оправдать собственное небытие, выдающее себя, однако, за бытие и желающее получить утверждение от другого, позволяет вести не подчиненный никакой верховной идее спор при помощи аргументов о чем-либо мнимо доступном знанию или знаемом, хотя в этом споре и не делается ни шагу вперед. Всякий раз имеют силу какие-нибудь рациональные формулы, и их вновь заменяют другие формулы; или же имеется некоторая понятийная аппаратура, объявляемая безусловно значимой и подлежащая особой защите во всех этих нескончаемых обсуждениях. Если затем этому тупому самоутверждению становится слишком отчетливо ясным требование открытости, – а именно, если эту аргументацию ставят в тупик, так что она должна устоять и действительно держать речь и ответ, то в ее распоряжении остаются только обрывающие диалог выражения, которые в контрастной противоположности до сих пор столь настойчивым, вынуждающим согласие другого речам почти неосознанно констатируют как нечто самоочевидное фактическое отсутствие воли к коммуникации. Такие обороты речи, как «я этого не понимаю», «не знаю, на что бы это нам было нужно», «это неинтересно», «мы слишком разные, чтобы понять друг друга», – это фиксации, которые в существенном философствовании всегда оказываются неправдой.
В отличие от этих грубых методов противления есть методы более утонченные, которые могут вводить нас в заблуждение, коль скоро проникнуть в их секрет непросто.
В философской дискуссии существо дела всегда соединено с лицом; ибо отвлеченная от лица дельность была бы простой правильностью, была бы всякий раз партикулярной и не была бы философией. Отстраняющий упрек в том, что я принимаем что-либо на свой счет, техника уклонения, есть нечто двусмысленное. Инстинктивное принятие чего-либо на личный счет в отношении к своей эмпирической индивидуальности, выражающееся в эгоцентрической задетости, было бы в самом деле губительно (ruinös); но принятие на свой счет возможной экзистенции в отношении к бытию души в другом и в себе – это как раз и есть истина в философствовании. Кто не принимает сказанного на свой счет в этом смысле, тот не принимает личного участия в беседе. Отвод довода или благодушное умиротворение при помощи этого упрека могут быть правы в первом смысле, но так же точно может выражать и неистинное самозамыкание во втором смысле. В совместном философствовании (Symphilosophieren) личный момент, как совесть и критика, составляет неизменно созвучащий фон во всех предметах, образующих непосредственное содержание разговора.
Другая техника заключается в том, чтобы не отвечать, но подвести сказанное другим как простое содержание под общее понятие. Обладать как интеллектуальным достоянием всей полнотой рациональных формулировок из истории философии, – есть дело усердной восприимчивости, и при этом может оказаться утраченным всякое соприкосновение с истоком этих формулировок. Если же кто-нибудь в ходе взыскующего коммуникации разговора говорит что-то по исконно философским побуждениям, будет несложным и, казалось бы, логически совершенно очевидным маневром: поставить сказанное само по себе в его отвлеченности и зафиксировать его как определенную и уже известную философскую позицию. Другой подхватывает наше выражение, словно бы накалывает на булавку и укладывает его в одну из своих рубрик, отрывает его от личности, истока и ситуации, пока эта игра не станет заметной для другого. При подобном методе мы никогда не присутствуем в беседе сами, но разве только как понятийный аппарат (которым, правда, движут при этом личные в дурном смысле слова аффекты). Превращение философии в дело чисто рациональной вневременно наличной объективности делает возможным эту далекую от экзистенции несущественность и интеллектуально тренированное варварство.
Третий метод уклонения в философской совместности бытия -это сделавшаяся господствующей в течение XIX века схематика мира: множественность духовных сфер в их автономности. Только если все эти сферы суть средства, и если, в конечном счете, в каждой из сфер ответствую, с неким истинным содержанием, я сам, становится возможной подлинная коммуникация. Если же автономии сфер трактуются как что-то предельное, значимое абсолютно, то при помощи этих сфер коммуникация лишается смысла в двух отношениях. Автономии сохраняют характер своей значимости, субъективно проявляющийся как поочередное отрицание одной сферы каждой другой сферой, вследствие чего эти сферы воздвигаются как множество перегородок, препятствующих нам пробиться к подлинной истине в экзистенции. Или же перескакивание из одной сферы в другую тоже служит для уклонения, поскольку я, хотя и ограничиваю свое бытие одной какой-нибудь сферой, но по произволу меняю эту сферу. Скажем, то, что только что было общественным, я вдруг принимаю как должностное или дружеское, или наоборот; то, что только что было этическим, трактую отныне как политическое, и вдруг, его же – как эстетическое. Я погружаюсь в одну сферу и покидаю ее вновь, как только дело получает серьезный оборот, я ускользаю и никогда не присутствую в беседе по-настоящему. Дело выглядит так, словно бы у меня было много душ, а самого меня в них не было.
4. Общность философствования.
– Подлинная философская дискуссия – это совместное философствование, через которое экзистенции соприкасаются друг с другом и раскрывают себя в среде предметных содержаний. Но поскольку мы как люди побуждаемся к действию более страстями и пустым рассудком, чем присущей любовью и обдуманным разумом, философы издавна и справедливо признавали философское понимание зависящим от изначально-этической сущности индивидуальности (а не от особенной одаренности и отдельного навыка в логическом мастерстве). Они были убеждены в том, что истина в философском ее обличье не просто доступна для каждого человека. Философская дискуссия есть для них достижение себя, движущееся из уклонений к открытости (Offenbarkeit).
Существенная, выражающая бытие истина возникает только из коммуникации, к которой она привязана. В то время как в предметном исследовании наук личность настолько безразлична, что личная неприязнь совместима здесь с фактическим содействием предметной цели, – философская истина есть функция коммуникации с собой самим и с другим. Она есть истина, с которой я живу, и которую я не только мыслю; которую я убежденно осуществляю, а не только знаю; в которой я, в свою очередь, убеждаюсь путем ее осуществления, а не только при помощи одних лишь мыслительных возможностей. Она есть осознанность солидарности в рождающей и разворачивающей ее коммуникации. Поэтому истинная философия может явиться на свет только в общности. Отсутствие коммуникации у философа становится критерием неистинности его мышления. Внушающее благоговение одиночество великих философов не есть что-то такое, чего они сами хотели, их мысль есть могучий порыв устремления к коммуникации, которой они желают как подлинной коммуникации, а не в ее обманчивых суррогатах и предвосхищениях.
Общность философствования есть, на первой ступени, готовность слышать другого и доступность для того, что мы постигли как существенное; таким путем она открывает возможность удачно расслышать нечто, еще без содержательной солидарности. На второй ступени эта общность есть солидарность взаимного обязывания (die Solidarität des Sichaneinanderbindens) через непрерывность общего мышления; затем в опасном сомнении, как неотъемлемой артикуляции доходящего до самой сути мышления, она становится истоком коммуникативной достоверности.








