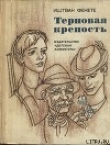Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
Эгето даже взмок, помогая во время погрузки. Штраус еще раз проверил товар, подписал в конторе какую-то квитанцию и вернулся к подводе. Не говоря ни слова, он взобрался на козлы; Эгето устроился на ящике среди товаров.
– Трогай, – сказал Штраус. – Улица Немет, двадцать восемь, фабрика красителей Курзвейла.
Возчик стегнул лошадей. Подъезжая к площади Деака, он обернулся.
– А вот теперь уж не скажешь, что тут контрабанда, да еще жернова! – сказал он с похвалой.
Эгето кивнул, и уголки его губ дрогнули в легкой усмешке.
– Угораздило же меня отправиться именно с этим дурнем Андришем, – проворчал Штраус.
– Такое уж ваше счастье за тридцать пять лет! – откликнулся возчик, толкая Штрауса локтем в бок и подмигивая.
На фабрике Курзвейла они получили по списку какие-то лаки, красильные порошки в коробках и затрусили в нефтяную лавку на площади Барош; там они погрузили на подводу бочку с керосином и колесную мазь, отгородив их как следует доской, чтобы соль и другие продукты не впитали в себя запах керосина. Потом они двинулись на химический завод «Орион», расположенный у городских скотобоен, и взяли стиральный порошок, ящик синьки, средства для химчистки и бочку медного купороса. Возчик и Эгето, когда они наконец отправились домой, сделали себе самокрутки и закурили.
– Ну что это за поездка, – очень недовольным тоном сказал возчик на обратном пути, когда они подъезжали уже к проспекту Ракоци, – одну коломазь везем домой, больше ничего не достали. – Вдруг он выругался и угрожающе замахнулся кнутом в сторону какого-то невнимательного, пешехода, затем продолжал: – Никакой порядочной бакалеи! Нет у нас имбиря, инжира, мускатного ореха, шафрана, корицы, фиников, гвоздики! Нет малагского винограда, ванили, какао, кокосового масла, земляного ореха! Нет перца, кофе, чая, майорана, лаврового листа, соевых бобов! – Теперь он уже попросту завопил, увидев второго рассеянного пешехода, ибо в мозгу его пронеслась мысль о совершенно пустой фляге. – Это не бакалейное заведение, а черт знает что! – продолжал ворчать возчик.
– Да замолчи ты наконец, дуралей! – оборвал возчика Штраус, ткнув его кулаком в бок.
– Замолчать? – заморгав, спросил возчик.
Штраус кивнул в ответ.
– Как угодно, – обиженно сказал возчик.
Они протрусили по Верхней аллее, но у проспекта Андраши вынуждены были остановиться, так как путь им преградила какая-то военная колонна, маршировавшая под оглушительные звуки труб.
Возчик приподнялся на козлах.
– Румыны, – сообщил он мрачно.
Эгето тоже поднялся посреди ящиков и мешков; встал на козлах и маленький Штраус. Все трое смотрели на широкий проспект Андраши, по которому со стороны Городского парка под быстрое стаккато чужих трубных сигналов, сжимавших сердце, тесными рядами выступали колонны оккупационной армии. Впереди двигались конные горнисты; сидя на больших поджарых конях, в стальных плоских касках, покраснев от натуги, они извлекали из труб резкие, отрывистые звуки. За ними следовал конный стрелковый эскадрон с карабинами на плече, в касках с опущенными под подбородок ремешками. Вдруг трубные сигналы сделались громче. За стрелковым эскадроном через небольшой интервал на породистых лошадях темной масти, выступающих словно на арене цирка, появились элегантные, выбритые до блеска штаб-офицеры, затянутые в светлые мундиры с портупеями и расшитыми золотом воротниками, в шнурованных сапогах, в темных галифе и французских офицерских головных уборах. Это был генеральный штаб трансильванской румынской армии. Впереди на танцующем вороном жеребце гарцевал седоусый человек небольшого роста – верховный главнокомандующий генерал Мардареску. Позади него на расстоянии одного шага, слева, ехал плотный мужчина с пышными черными усами – начальник генерального штаба Панаитеску; справа, также гарцуя, двигался высокий генерал-лейтенант Холбан, назначенный комендантом города Будапешта.
В этот день в венгерскую столицу вступили три полностью укомплектованные румынские дивизии и были размещены в казармах и школах; их караульные части заняли главный почтамт, две телефонные станции, вокзалы и все прочие общественные здания, за исключением министерств. Главнокомандующего у ворот города встретил и приветствовал краткой речью военный министр Венгрии Хаубрих. Оккупационные войска немедленно взялись за обеспечение порядка в городе. Вечером по улицам венгерской столицы уже циркулировали румынские патрули, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками; сохранившаяся кое-где Красная милиция была разогнана, однако полицию, в аппарат которой непрерывно вливались прибывавшие из предместий и провинций, изгнанные во время революции жандармы и офицеры, на основании переговоров, ведшихся с профсоюзным правительством, не разоружали.
Вслед за румынским генеральным штабом по проспекту Андраши следовал эскадрон кавалерии, потом шла пехота во главе с громыхающим военным оркестром. Впереди отдельных пехотных подразделений шагом двигались всадники с прикрепленными к седлам длинными пиками, на которых развевались крохотные разноцветные штандарты полка. Пехотные, по преимуществу егерские части были в роскошных высоких сапогах со шнуровкой, в бриджах, плоских касках, с винтовками, к которым был примкнут не широкий плоский, а узкий трехгранный штык. Подавляющая часть этой великолепной экипировки являлась продукцией крупнейших военных заводов и военных предприятий, принадлежавших Большой антанте, – «Шнейдер – Крезо», «Армстронг – Виккерс» и другим компаниям. Но, как свидетельствуют военные историки, боевая ценность этих войсковых соединений вопреки превосходной экипировке, предоставленной им Антантой, не шла ни в какое сравнение хотя бы с такими красными частями, как 32-й пехотный будапештский полк, состоявший из тощих официантов, костлявых слесарей, сутулых портных, каменщиков с обломанными ногтями, или с боевым чепельским полком корпуса металлистов. И все же власть венгерского пролетариата была растоптана, и румынская армия, главную боевую силу которой составляли завербованные в принудительном порядке несознательные потомственные землепашцы, шагала сейчас парадным маршем по улицам Будапешта. Первопричиной этого послужило предательство штабных офицеров чонградской южной венгерской армейской группы, тайное заигрывание командования армии на правом фланге Тисского фронта с Сегедом, более чем двоедушное поведение Секейской дивизии и генерал-лейтенанта Кратохвилла, коварная игра начальника генерального штаба венгерской армии полковника Жулье, предательство начальника штаба III корпуса Красной армии Политковского, который регулярно снабжал контр-адмирала Хорти секретными сведениями, саботаж бывших кадровых офицеров, проникших в народный комиссариат по военным делам, и наконец подрывная деятельность международной шпионской организации, созданной непосредственно Большой антантой.
За четыре с половиной месяца своего существования венгерская диктатура пролетариата в условиях не прекращавшейся ни на миг борьбы развернула гигантскую созидательную работу внутри страны, но у нее физически не хватило времени на то, чтобы до конца сломать буржуазную государственную машину, избавиться от паразитической армии чиновничьего и офицерского сословия старого государственного аппарата, произвести беспощадную чистку внутри партии, изгнать из своих рядов мелкобуржуазных правых социал-демократических элементов, вроде Якаба Велтнера, Кароя Пейера, Йожефа Хаубриха и им подобных, которые вели против диктатуры пролетариата подрывную деятельность, и приступить к проведению аграрной реформы. Кроме того, она в известной мере была лишена возможности использовать опыт большевистской партии, возглавлявшей борьбу революционной России, сражавшейся в период гражданской войны с полчищами интервентов четырнадцати империалистических держав. Окружив Венгрию со всех сторон – с севера, юга, запада и востока, еще со знаменательной даты 21 марта, готовые к скачку, ждали своего часа свирепые французские генералы, сверкающие глазами итальянские авантюристы, корректные и циничные английские дипломаты и набожные шотландские адмиралы-пресвитерианцы, трясущиеся за свои латифундии венгерские эмигранты – графы и епископы, натравленные буржуазией и скрежещущие зубами от злобы чешские шовинисты и затянутые в корсеты, с напудренными физиономиями офицеры – наемники румынских бояр, боявшихся утратить свое классовое господство; а внутри государства ждали того же разномастные тайные агенты империалистической Антанты: церковники, кадровые офицеры, постриженные ежиком профсоюзные бюрократы, проповедующие всепрощение сентиментальные обыватели, принадлежащие к христианской народной партии регенты, радикально настроенные лавочники. Игра велась крупная. То была генеральная репетиция столкновения классовых сил в Центральной Европе! Например, графу Иштвану Бетлену, засевшему в Вене, детальный план выступления Красной армии на Тисском фронте стал известен еще до того, как о нем узнали политкомиссары идущих в бой дивизий, и он через специального курьера заранее передал этот план в Сегед, так же как и в Белград– в руки французского генерала де Лобитта. Сведения о численном составе, оснащении и оперативных планах II секешфехерварского красного корпуса были размножены и отправлены сегедскому контрреволюционному правительству, венскому комитету и даже державам Антанты не только самим начальником генерального штаба Краененброеком, но и бывшими кадровыми офицерами штаба корпуса.
Большинство румынских пехотинцев, шагавших по проспекту Андраши, были черноволосы, с оливковыми лицами; рослые солдаты среди них попадались редко. Стройные офицеры, красуясь на статных конях, внимательно рассматривали четыре скульптуры на площади Кёрёнд: графа Палфи в парике, Иштвана Бочкай в высокой шапке, Габора Бетлена в парадном ментике и высеченную из камня фигуру национального героя Миклоша Зрини со знаменем и обнаженным мечом в руках, увековечившего момент вылазки гарнизона крепости против турок. Вслед за пехотой по торцовой мостовой проспекта Андраши с глухим грохотом двигалась артиллерия – пушки на конной тяге и полевые гаубицы; дальше тянулся нескончаемый обоз: повозки, груженные мешками муки, горами поджаристых булок, овсом, сеном и разрубленными надвое окровавленными воловьими тушами. Румынский генеральный штаб занял отель «Хунгария», расположенный на берегу Дуная. Здесь же разместилась и канцелярия коменданта города генерал-лейтенанта Холбана.
– Очень нужна была нам классовая борьба! – заметил почти довольным тоном пожилой господин с зонтиком, стоявший у подножия памятника Зрини.
Возчик слишком внимательно рассматривал рукоятку своего кнута, потом перевел взгляд на господина с зонтиком и установил, что у того на ногах башмаки с пуговками.
– Оставайтесь на месте, дядюшка Андриш, – строго предупредил его маленький Штраус.
Возчик хмыкнул и, огорченный, принялся почесывать затылок.
– От вас еще и вином разит! – добавил с упреком Штраус.
Возчик совсем съежился и затаил про себя грустные мысли о господах, предавших родину.
По тротуару проспекта Андраши в этот душный дневной час гуляло довольно много народа. Люди словно надели на лица маски: никто не улыбался, но и не строил враждебных гримас, взгляды были неподвижны, губы плотно сжаты; никто не взмахивал платочком, никто не сжимал кулаки. По внешнему виду будапештцев ничего нельзя было определить – боятся ли они, негодуют или радуются. Последние повозки военного обоза проехали в сторону площади Октогон.
– Но-о, – протянул возчик, и они двинулись к мосту Фердинанда.
Все трое молчали.
– Что теперь будет? Кто возьмет власть? – глухо, словно обращаясь к самому себе, спросил Штраус.
Эгето махнул рукой.
– Едем, – сказал он. – Один раз вы меня уже отговорили.
– Но ведь румыны теперь уже… – начал Штраус.
– Поедем по Вацскому шоссе? – перебил его Эгето.
Маленький Штраус пожал плечами. Подвода протарахтела по мосту.
– Правители наши сбрехнули, – подвел итог дня возчик, от которого действительно попахивало вином. – Пришли-таки напудренные генералы!
Он стегнул лошадей; подвода почему-то свернула на проспект Лехела, а не на Вацское шоссе; одно колесо, плохо смазанное, скрипело, лошади шагом тащились в В.? тяжелый запах лежавших на подводе товаров, словно невидимый шлейф, тянулся за ними по пыльным улицам предместья. Дети играли прямо на мостовой, перед воротами стояли рабочие без пиджаков, на улице Лёпортар повязанная платком старуха, прислонясь к дереву, плакала навзрыд – только сейчас она узнала, что сын ее, красноармеец, сложил свою голову под Монором. Улицы были серы от пыли, налетавший с Дуная ветерок время от времени взметал пыль, еще более увеличивая царившую здесь сумеречность.
– Говорят, будто румыны раздают ржаные хлебцы, – сказала какая-то женщина.
– Каждому по двадцать пять кругленьких, мамаша! – отозвался какой-то мужчина.
Большая подвода тарахтела уже по проспекту Сент-Ласло; день был на исходе. Обезоруженный, преданный город молча ждал решения своей судьбы. В этот вечер постриженные ежиком старые функционеры из социал-реформистов, вконец запутавшись, втянули головы в плечи, ибо почувствовали всю тяжесть последствий своей деятельности; однако истинное значение произведенной румынами акции, многими не предвиденной, было еще не совсем понятно. Поэтому конгрегационалисты с бачками, мелкие чиновники, судебные исполнители и члены опекунских советов, титулованные начальники канцелярий, министерские и муниципальные служащие, графские адвокаты и управляющие имениями, модные дантисты, владельцы машиностроительных заводов, бывшие австро-венгерские генералы, генеральные директоры судоходных компаний, управляющие банками, одолеваемые жаждой мести парикмахеры, регенты, приходские священники и вице-нотариусы в замешательстве присмирели, белый террор на некоторое время приутих: перестали ломать людям кости, кастрировать их, выжигать им ногти на ногах, так как никому пока не были известны намерения румынских генералов, и поэтому никто не хотел рисковать.
На другой день, однако, все началось с удвоенной силой: Мардареску заявил, что не желает вмешиваться во внутренние дела государства, но большевизм на венгерской земле он вырвет с корнем.
В это самое время, время передышки, вызванной замешательством, Ференц Эгето, выпачканный с ног до головы мукой, на подводе со скрипящими колесами, принадлежавшей фирме «Марк Леваи и сыновья», возвратился в город В. Когда подвода протарахтела по улице Вираг, было около восьми часов и уже довольно темно – Штраус в этот день умышленно вел дела так, чтоб основательно запоздать со своей комиссией. Подвода на несколько минут остановилась перед домиком, в котором жил Штраус, и Эгето с маленьким старичком слезли. Штраус сделал знак возчику не спеша отправляться дальше, а сам вместе с Эгето вошел в ворота. Их видел только один мальчуган, проживавший в этом же доме. Дверь квартиры Штрауса выходила в подворотню; все женщины в доме хлопотали, стряпая ужин, из глубины длинного двора доносились мужские голоса и крики детей. Квартира Штрауса состояла из кухни, сравнительно большой комнаты и очень тесной каморки.
– Таз с водой и мыло вон там, – сказал старик. – Я буду через полчаса.
С этими словами он ушел сдавать товар фирме «Марк Леваи и сыновья». Дверь снаружи он запер на ключ.
Ференц Эгето скинул с себя фартук и шляпу грузчика, снял рубашку, глубоко вздохнул, затем хорошенько помылся до пояса. В квартире было темно. Разумеется, он и думать не мог о том, чтобы зажечь свет. Помывшись, он снова надел китель, сел за стол и посмотрел в окно, за которым сгущался вечерний сумрак. По стеклу поскребла чья-то маленькая ручонка. Эгето не шевельнулся. Потом послышался стук кулачка в дверь.
– Дядюшка Йожи! – донесся тоненький детский голосок. – Впустите!
Тишина. В дверь заколотили босые ножки, и тоненький голосок прозвучал сердито:
– Дя-я-я-дюшка Йо-о-ожи!
Мальчуган за дверью прислушался и перешел на жалобный тон:
– Впустите меня, пожалуйста… Мне сладкого рожка не надо.
Опять тишина. Ребенок за дверью пробормотал что-то, потом босые ножки удалились.
Теперь Эгето лежал на диване и смотрел во тьму; в этот миг ему казалось странным, что где-то там, за стенами дома, на проспекте Арпада, гуляют люди, уже горят фонари, в трамваях сидят мужчины, они возвращаются домой к своим женам и детям, в кухнях трещит огонь, варится скудненький ужин – если каша, тоже неплохо; у кинотеатра «Корзо», в двух шагах отсюда, встречаются пары, у каждого есть кто-то свой, лишь у него… Эгето попытался вызвать в памяти лицо своей умершей жены, но это ему не удалось… Когда же придет наконец Штраус?
За дверью снова раздался шум, шлепанье босых ног. Потом зазвучали голоса детей – они совещались.
– Он дома, – донесся голосок.
– Да ну тебя к черту! – послышался другой, еще более тоненький голос. – Разве бы он не открыл, если бы был дома?
– Не тяни меня за волосы, ну-у! – крикнула девочка.
Опять заколотили в дверь, потом постояли, прислушиваясь и прижимая носы к замочной скважине, – об этом можно было догадаться по возне и громкому сопению, доносившимся из-за двери.
– Может, он умер? – В голосе мальчугана слышалось беспокойство.
– От мертвецов пахнет карболкой, – солидно возразил другой мальчик.
Этот аргумент заставил малышей глубоко задуматься.
– Один малюсенький сладкий рожок! – с тоской прозвучал новый голос, и его обладатель подергал дверную ручку.
Но тут послышался звук пощечины, детский плач, шлепанье босых ног – должно быть, пришел кто-то из взрослых и разогнал малышей.
Ференц Эгето впервые был в квартире старика Штрауса, хотя жили они по соседству. Дом, в котором обитал Штраус, был одноэтажный, длинный и узкий, состоящий из двенадцати квартир, где ютились пролетарские семьи, – улица Вираг, 13, – такой же, как дом, в котором проживала со своей дочкой тетушка Терез, наводненный армией без устали вопящей, вечно голодной босоногой детворы. На улицу выходила всего лишь одна квартира, и это была квартира старика Штрауса; дверь в нее вела прямо из подворотни, а в другой части дома, выходившей на улицу, помещалась москательная лавка. Узкий участок земли позади дома был застроен со всех четырех сторон; в тесном дворике вокруг водопроводной колонки никогда не просыхала грязь. Здесь целые дни горланили дети, пока их крики не приводили в ярость какую-нибудь женщину и она не разгоняла детей тростниковой выбивалкой; тогда на пять минут воцарялась тишина, потом все начиналось сначала: игры, ссоры, драки. В этот день дети играли в войну между красными и румынами, и сколько ни разгоняли их задавленные нуждой матери, они опять и опять шумливо сбегались в другой угол двора, измышляя все новые и новые виды сражений; напоследок двоих ребятишек назначили «членами сегедского контрреволюционного марионеточного правительства» и хорошенько вздули.
– Не понимаю, – жаловался проживавший в том же доме бородатый господин Брюлл, обмывальщик покойников, член местной еврейской общины, – почему их не остановят? Эти дети накличут еще на наши головы христиан-социалистов!
В тот день, однако, они никого не накликали. Как всегда, дети играли, пока не наступил вечер; мальчуган, которого звали Бела, тот самый, что с особенным нетерпением дожидался прихода Штрауса, понапрасну божился, что собственными глазами видел, как Штраус пришел домой. Кончилось тем, что мальчугану дали хорошего тумака и подняли его на смех.
Дядюшка Штраус, этот преклонного возраста человек, неизменно распространявший вокруг себя ароматы всевозможных пряностей, занимал воображение маленьких замарашек всего дома. Старик с необыкновенной серьезностью относился ко всякому представителю сей категории человечества, включая и двухлетних малюток. Он приводил их в свою квартиру и Предлагал садиться, как взрослым, а самым крохотным вытирал носы и на полном серьезе справлялся о домашних новостях; он излагал им свою точку зрения на весьма любопытные и, бесспорно, решающие проблемы жизни, такие, как, скажем, методичное отправление внутрь организма пресловутого рагу из тыквы и находящееся в непосредственной зависимости от этого развитие выдающихся качеств человеческой натуры; в каких странах произрастают леса сладких рожков, как эти леса необъятны и каким образом содержание носа в чистоте влияет на развитие умственных способностей человека. Неоднократно он делился с ними воспоминаниями о том, какой военный чин в старое время следовал за чином майора, какой вес имела медная четырехкрейцеровая монета и чем был плох государственный строй Венгерского королевства, объединенного с Австрийской империей. Иногда он развивал перед своими слушателями такую тему: по каким особым приметам можно угадать подлецов, обирающих простых людей; порой пересказывал содержание научной книги, повествующей о том, как в индийском граде Ахмедабаде посеянные вечером вьющиеся бобы за одну ночь вырастали до самой луны, а то выступал с хитроумными разоблачениями: из чего англичане готовят свой излюбленный напиток – имбирное пиво; он сообщал малышам о предателях народа и не скрывал от них даже того, к кому он обращается, когда читает заупокойную молитву о сыне. Дети очень любили слушать старика. Рассказывал он серьезно и просто, а они, навострив уши и шмыгая носами, чинно сидели на диване.
– Настоящий мадьяр не шмыгает носом, – замечал Штраус. – Настоящий мадьяр вытирает нос. Шмыганье носом – это приветствие эскимосов!
Следствием столь неосторожного замечания явилось то, что маленькие бесенята битых два дня приветствовали друг дружку, а также своих родителей лишь по обычаю эскимосов. Иногда Штраус приносил из магазина сладкий рожок, иногда рассказывал о сыне, о своем Беле, которого погубили злодеи с лихо закрученными кверху усами. О дочери своей он не говорил никогда. Его память навеки запечатлела тот день, который принес ему страшную весть о гибели единственного сына, когда один за другим входили к нему соседи, отцы и матери его маленьких друзей, – столяры-подмастерья, фрезеровщики, переплетчики, жены сапожников, молча пожимали руку старику, сидевшему в одних носках, без башмаков, с покрасневшими от слез глазами, и приносили ему разную еду, даже его любимое кушанье из картофеля. Но особенно отчетливо он помнил, каким сочувствием окружили его тогда дети. Сперва они приоткрывали дверь, заглядывали, потом бесшумно проскальзывали в комнату, без всяких церемоний, запросто садились на диван, молчали и не сводили с него глаз, забывая при этом болтать ногами; они смотрели на висевший на стене портрет его сына Белы, который так непостижимо, так бесчеловечно был расстрелян по приказу генерал-лейтенанта Лукачича.
– Портрет тоже умер! – изрек тогда один из его глупеньких друзей.
Дети в тот день отличались непривычными для них молчаливостью и застенчивостью и, казалось, даже были менее грязны, ибо, прежде чем проникнуть в комнату, старательно вытирали носы, используя для этой операции рукава своих курточек.
Иногда старик показывал им всякие книги и картинки; сказок у него не было, и он, напустив на себя необычайно важный вид, сообщал, что по такой-то книге он изучает мир; ребятишки, выслушав его заявление, впрочем, не очень-то понимали, что в данном случае надлежит думать им.
…За окном стояла густая тьма; должно быть, шел уже девятый час; во всем доме матери совершали над своими отпрысками обряд омовения ног перед сном и больше не пускали их во двор. Но вот в замке повернулся ключ – пришел Штраус; прежде чем зажечь свет, он прикрыл окна ставнями.
– Хаос! – проговорил он тихо, когда желтый свет керосиновой лампы разлился по большой комнате. – И все румыны… Рохачеки не показываются, боятся. А социал-демократы… Ночью, возможно, сюда войдут румыны!
– Ночью они не придут, – сказал Эгето. – Где Богдан?
– Будет в десять. Он сказал: очень важно!
– Я ухожу. К этому времени вернусь… сюда…
Штраус ни о чем не спросил – спросили только его глаза.
«Домой», – чуть было не вырвалось у Эгето, но он промолчал, лишь сделал рукой неопределенный жест.
Штраус понял и пожал плечами.
– Погодите, я проверю, – сказал он. Затем подошел к лампе и задул ее.
– Можно, – немного погодя шепотом позвал он, выглядывая в полуотворенную дверь.
Они вышли из ворот.
Город был окутан вечерней мглой. Позади них, где-то близ улицы Няр, мигал одинокий огонек керосиновой лампы, а далеко впереди, на проспекте Арпада, сиял яркий свет дуговых фонарей; до путников он не доходил, постепенно рассеиваясь и сливаясь с серым сумраком вечера.
– Я провожу вас, – сказал Штраус. – Покараулю на улице. Вы можете спокойно…
– Зачем? – спросил негромко Эгето.
– Да так… хочется подышать воздухом! Мой Бела тоже… – Не договорив, старик смущенно умолк.
Эгето, однако, понял и так. Его Бела, который истек кровью, прошитый пулями усатых крестьян из окрестностей Сараева, солдат взвода боснийцев, павший от рук таких же подневольных, каким был он сам, – Бела поступил бы точно так же.
Надо было пройти всего несколько шагов. Под покровом тьмы человечек с согбенной спиной прошмыгнул в ворота того дома, куда направлялся Эгето, и вскоре возвратился.
– Можно.
Эгето вошел. Тетушка Терез стояла в кухне; она вздрогнула, увидев его, тотчас бросилась к двери и занавесила стекло. Юлика лежала в постели.
– Дядя Фери, – сонным голосом позвала девочка. – Что вы принесли?
– К сожалению, ничего, – ответил Эгето.
– Спи, – приказала ей тетушка Терез.
Прихватив керосиновую лампу, Эгето и тетушка Терез вошли в комнату. Там все еще оставались следы разгрома, произведенного субботней ночью: буфет, лишенный стекол, выглядел на редкость унылым, с книжной полки исчез Маркс, а также брошюры и книги о рабочем движении; порядок расстановки прочих книг был нарушен, они стояли так, как их поставила тетушка Терез, подняв с пола. Полированную доску стола рассекала длинная царапина, на полу красовалось огромное чернильное пятно – во время обыска сбросили на пол чернильницу.
– Они не придут опять? – озабоченно спросила тетушка Терез.
– Не думаю, – ответил Эгето. – Им самим тогда не поздоровится…
– Да я нисколько не боюсь, – заявила тетушка Терез и уселась на стул, демонстрируя таким образом свою храбрость, однако она была немного бледна.
Сел и Эгето.
– На улице караулят, – сказал он.
– Что вы скажете о буфете? – вместо предисловия начала тетушка Терез.
Затем слова хлынули из нее мощным потоком; перескакивая с одного на другое, она сообщала ему о самых немыслимых подлостях, совершенных в городе В. за прошедшие два дня. Рассказывая, она выдвигала весьма своеобразную точку зрения относительно исторических событий, часто прерывая свое повествование ошеломляющими риторическими, вопросами.
– Неужто не скрутит их холера! – восклицала она, задыхаясь от гнева и поглаживая пальцами огромную царапину на столе. – Вот так христиане! – через несколько минут заявляла она, с недоумением переводя взгляд с предмета на предмет.
Мебель, однако, не шевелилась, буфет, как бы поеживаясь от смущения, продолжал стоять с сиротливым видом ослепшего мученика. В рассказе тетушки Терез, беспорядочном и прерываемом тяжелыми вздохами, главную роль играла она сама; тема злодеяний, совершенных по отношению к ней, звучала словно лейтмотив некой симфонии.
– Какое он имеет отношение к политике? – кивнув на чинно стоявший буфет, вновь воскликнула она. – А это были чернила Мюллера! – проговорила она затем с укоризной. И пригорюнилась. Вдруг, без всякого перехода, она вспомнила о пощечине, полученной Юликой. Когда ее негодование достигло кульминации, она воскликнула: – Так надругаться над домом вдовы контролера железной дороги!
– Книги я хотел бы оставить здесь, – начал было Эгето.
Тетушка Терез не слушала его, она все еще была так поглощена собой, что не в силах была переключить свое внимание с горестных мыслей о собственных невзгодах на что-либо другое.
Часы с кукушкой уже пробили половину девятого, когда тетушка Терез перешла к рассказу о разгроме, учиненном в рабочем клубе. Наконец она вспомнила о пытках, которые пришлось претерпеть схваченным рабочим, и тут внезапно умолкла.
Воцарилась глубокая тишина. Лишь тикали на стене часы с кукушкой.
– Об этом и говорить страшно! – заключила тетушка Терез.
Напор мыслей, рвавшихся из нее, был настолько силен, что в конце концов застопорил словесное извержение. Губы ее дрожали.
«Большинство людей совершенно не умеет говорить, – думал Эгето, – Особенно женщины. Чем больше ими произнесено, тем меньше бывает сказано. Тетушка Терез, без сомнения, стонет во сне, когда вспоминает о пытках на улице Вашут. Но говорить она может лишь о разбитых стеклах ее буфета или о том, что ей, вдове контролера железной дороги…»
– Тетушка Терез, я переезжаю, – сказал он.
Тетушка Терез смотрела на стол.
– Я думала… – помолчав, пробормотала она. – К сожалению…
– Помогите мне собрать вещи. Книги я оставлю у вас.
Тетушка Терез погладила царапину на столе, вздохнула, потом поднялась и открыла шкаф Эгето.
Гардероб его был более чем скромен: в потертом чемодане свободно уместились несколько сорочек, носовых платков, несколько пар нижнего белья, носков, пара туфель и костюм – его темный, уже немного потрепанный костюм. Три домотканых полотенца. Кое-какие мелочи. За исключением книг, эти перечисленные вещи составляли все имущество Эгето, приобретенное им за тридцать шесть прожитых лет. Но в этом была и своя положительная сторона: такое имущество легко было носить с собой. Он запер чемодан.
– В дверь стучат, – слегка побледнев, сказала тетушка Терез.
Она в нерешительности остановилась.
– Не пугайтесь и отворяйте, – сказал Эгето. – Возьмите с собой лампу.
Тетушка Терез, чуть пошатываясь, вышла из комнаты, и Ференц Эгето остался один в темноте; на всякий случай он задвинул ногой чемодан под кровать – дверь осталась неплотно прикрытой, и из кухни падала на пол полоска света.
– Кто там? – послышался голос тетушки Терез.
Ответа Эгето не расслышал, но вскоре до его слуха донесся скрип открываемой входной двери.
– Добрый вечер, – прозвучал женский голос.
И снова донесся голос тетушки Терез, в котором слышались подозрительные и враждебные нотки:
– Что угодно?
Последовала небольшая пауза.
– Простите за беспокойство… – Посетительница умолкла.
Тетушка Терез молчала тоже. Было совершенно очевидно, что явилась какая-то незнакомая женщина, и, судя по голосу, молодая. Ференц Эгето не помнил этого низковатого женского голоса.
– Это квартира господина Эгето? – снова заговорила пришелица.
– Нет, – обиженно отозвалась тетушка Терез, – квартира моя!