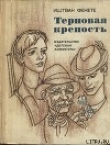Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
– Но он правда был похож! – стоял на своем мальчик. – Был похож и не сводил глаз со статуи Ференца Деака, а потом громко чихнул.
– Глупости, – заявила старуха. – Это тоже сказка?
– Погоди. Он так сильно чихнул, что у него отскочил нос. Нос взлетел в воздух и уселся на макушке Ференца Деака. «Ай, господа полицейские, – сказал человек, – улетел мой нос». – «Не врите», – сказал один полицейский. «Так вам и надо, – сказал другой, – незачем было так сильно чихать, раз вы кладовщик». Он увидел, что и правда нет уже у того человека носа.
– Кто тебе поверит? – язвительно вставила старуха.
Мальчик, густо покраснев, пожал плечами, но продолжал:
– «Вон мой нос, – сказал кладовщик, – он на голове у Ференца Деака. Мой нос превратился в птицу!» Уверяю тебя, бабушка, нос в самом деле превратился в птицу.
– Ты сам это видел, а? – осведомилась старуха.
– Ага… «Врешь, проклятый кладовщик», – сказал полицейский Кёвари.
– Кому? – насупившись, спросила старуха.
– Не Кёвари, а кладовщику, – покраснев до ушей, поправился мальчик. – Тогда кладовщик остановился перед памятником, сложил руки и взмолился: «Милый носик, вернись ко мне!» – «Не пойду! – ответил ему нос. – Я теперь птица, а ты оставайся без носа и ступай с господами полицейскими. Не желаю я томиться с тобой в рабстве!»
– Значит, он любил свободу, – задумчиво проговорила старуха, но вдруг спохватилась и насмешливо добавила: – Хорошо еще, что нос этого кладовщика благодаря твоей милости не превратился в Шандора Петёфи! Ты что же, дурой считаешь бабушку? Ешь вареники!
Мальчуган промолчал и принялся жевать.
– Тогда один полицейский, – вновь заговорил он, – поднял ружье и прицелился. «Ай-ай-ай! – закричал кладовщик. – Не стреляйте, пожалуйста, а то продырявите мой нос…»
В этот миг раздался стук в дверь. На улице было уже темно. Мальчик выскочил из-за стола и отпер дверь. И тогда в изодранной солдатской одежде серого цвета, в итальянском солдатском головном уборе через порог переступил его отец. Вошел и молча остановился посреди тесной кухни, освещенной тусклым огоньком подвешенной к стене голубой керосиновой лампы. Мальчик, не издав ни звука, бросился к отцу на грудь, вцепился в него и долго не отпускал, обнимая его и целуя. Когда они наконец оторвались друг от друга, щупленький солдатик обнял мать, даже всхлипнул, растроганный встречей, а мальчик стоял рядом и теребил его гимнастерку.
– Очко в мою пользу! – объявила старуха, высвободившись из объятий сына, и с выражением торжества на лице повернулась к внуку и шутливо хлопнула его по щеке.
– Какое очко? – спросил Дубак старший.
– Моя радость, – краснея, ответила вдова Дубак, в то время как внук смотрел на нее с иронической улыбкой.
– Как Маришка? – спросил Лайош Дубак, и тут старуха и мальчик увидели, что голова у него трясется.
– Исхудал ты, – сказала старуха. – Что у тебя с головой?
– Нервный шок, – сказал Лайош Дубак, – пустяки. Как Маришка?
– Скоро придет.
– Где она?
– Наверно, отлучилась по делу, – ответила старуха, поглядев внуку прямо в глаза.
– Ах, мама, – сказал Лайош Дубак и с хрустом потянулся, – как хорошо быть дома!
– Сложи одежду сюда. Я сейчас согрею воду. Ты, наверно, притащил с собой квартирантов?
– Может быть, – ответил сын, – может быть, мама. Хорошо бы мою одежду сразу как следует пропарить.
– Я дам тебе чистое белье, – сказала старуха. – Твой. темный костюм в сохранности. И ты сразу ляжешь спать.
– Нет, не лягу. Я наряжусь, как барин, и мы дождемся Маришку. Для нее это будет сюрприз: Лайош Дубак собственной персоной, вымытый и в штатском костюме.
Мальчик молча помог отцу раздеться. Старуха раздула в плите огонь, поставила греть воду и начала готовить ужин.
– Какой ты худющий, папа, – заметил мальчик.
– Я потом расскажу тебе о диго, – пообещал отец. – Так мы называли итальянцев.
Лайош Дубак остался в зеленых солдатских подштанниках, а старуха принесла горячую воду и вылила ее в корыто.
– Я совсем как младенец: уа-уа! – пошутил Дубак старший и, когда старуха целомудренно отвернулась, уселся в корыто.
– Я потру тебе хорошенько спину, папа, – хлопотал вокруг отца мальчуган.
– Три сильнее, Лайчи, – приговаривал отец, – три так, будто ты настоящий банщик; как хорошо, что ты мой сын. А знаешь ли ты, что любят есть больше всего итальянцы? Кошек. Они едят их с сыром, для них кошатина вкуснее гусятины…
– Вот видишь! – обратилась старуха к внуку, который, покраснев и кряхтя от усердия, тер спину отца. – Вот где настоящая история! Это тебе не летающие носы!
– О какой это истории вы там говорите? – полюбопытствовал Лайош Дубак, с наслаждением плескаясь в корыте, и вздохнул от удовольствия. – Даже король так не купался! – воскликнул он и стал вытираться.
Потом он облачился в чистые сорочку и кальсоны, и старуха, достав из шкафа бережно сохраненный ею темно-синий костюм, подала его сыну.
– Как хорошо, что ты дома, – сказала она и пощупала его исхудалые плечи. – Ну и кляча ты стал!
– Лучшего и желать нельзя! – сказал Лайош Дубак, усаживаясь за кухонный стол, на котором уже дымился горячий картофель с паприкой, наскоро приготовленный старухой из последних запасов. – Такую еду я не променял бы на всех морских червей итальянцев! – И он прищелкнул языком. – Знайте же, что я и это ел; они ведь там кормятся всякими отвратительными морскими червями да своими замысловатыми изделиями из теста. А вы, разве вы не будете есть со мной? Тогда и я не…
– Пускай твой сын поест с тобой, – сказала старуха и подала на стол еще одну тарелку, ложку и вилку. – А мне на ночь нельзя…
Дубак младший не заставил просить себя дважды, подсел к столу и с завидным аппетитом принялся за еду. Набив до отказа рот картофелем, выпучив глаза, мальчик жадно поглощал содержимое тарелки.
Покончив с едой, Дубак старший выпил стакан холодной воды.
– Даже водопроводный напиток и тот дома лучше, – сказал он.
Старуха быстро прибрала в кухне.
– А теперь я буду рассказывать, – объявил Лайош Дубак.
– Ты не устал? – спросила старуха.
– Нет, подождем Маришку.
Старуха вздохнула.
Рассказывать, однако, Лайош Дубак ничего не стал. Втроем они сидели за кухонным столом и молчали. Мальчика вдруг стало клонить ко сну, он положил голову на стол, ухватился за руку отца и, не выпуская ее, заснул. Старуха приготовила ему постель.
– Почему в кухне? – спросил Лайош Дубак.
– Мы с ним будем спать в кухне, – ответила старуха.
Слабый румянец окрасил щеки Лайоша Дубака.
– Разум у него – прямо огонь! – сказала старуха, когда, уложив ребенка, снова уселась за стол. – Только ест он мало, в его возрасте надо бы больше.
– Когда-то и я был таким сопляком, – сказал Лайош Дубак, – а теперь у меня усы. Ну, рассказывайте, мама, как вы живете. Говорят, есть нечего. Что тут у вас с этим новым правительством? Есть ли галантерейные магазины? Я видел, что Брахфельд закрыт. Ведь мы там, в Удине, Градеце и Лайбахе, почти ничего не слыхали о вас. Знали, что какая-то Советская республика; что же это было такое? – Помолчав немного, он как-то весь подался вперед. – Как Маришка?
– Она ничего, – сказала старуха, избегая глядеть на сына. – Увеличили пособие солдатским семьям. Пока тебя не было, я ходила стирать. В большую квартиру нашего домовладельца – раньше там одна только горничная расхаживала – вселили семью рабочего. Они в гостиной пеленки сушили – горничная рассказывала. Много еще чего было – говорили, что теперь для бедняков наступит рай. Ну, мы, конечно, понимали, что не так это просто сделать.
– Что и говорить, конечно, нет. А вы, мама, видать, коммунисткой стали?
– Какая из меня коммунистка! – возразила мать. – Старуха я. А что, бедняку нельзя в своей партии состоять? Сейчас тут у нас румыны командуют, ты слыхал?
– Слыхал. Поди разбери его, этот коммунизм. Брахфельда ведь закрыли. А с приказчиками что же?
– Не знаю. Богачи охали-ахали, когда у них лишнее отбирать стали. Разве ты не читал – народная собственность!
– Нет, в поезде я только слыхал об ужасных зверствах, которые они над монашками чинили.
– Вот как? – задумчиво проговорила старуха. – Ты рассуждаешь точно так же, как Виктор Штерц.
– Кто это?
– Дня два сидел под арестом. Сын домовладельца. Был офицер, злился, что отобрали у них для народа дом да фабрику салями. Ну, он-то подобные вещи говорил оттого, что зол на них. А ты и поверил? Теперь-то их почем зря ругают, так уж заведено.
– Все офицеры порядочные пройдохи! – сказал Лайош Дубак. – Даже в Градеце они особое довольствие получали, не то что другие военнопленные, и жалованье полностью. Им и в город разрешали ходить, и в кафе захаживать. А мы на червивом горохе сидели, а то, бывало, и его не давали. Тогда я много думал о них, о вас, о Лайчи, о Маришке…
– Видишь! – живо откликнулась старуха. – Вот где собака зарыта! Бедняку всегда было плохо и будет плохо, раз и красным не удалось. Это я тебе говорю. А ведь они, тетушка Фюшпёк говорила, и впрямь беднякам добра желали. Все это правда – они увеличили пособие солдатским семьям. И с квартирами тоже… И барыни в шляпах в очередях стояли, как и мы… Только одна беда была, и большая беда: ничего в лавках не было, кроме ячневой крупы да тыквы. Хотя бы капельку жира, а главное – простого стирального мыла! Теперь, говорят, какие-то белые придут. Послушай, Лайош, я знаю: нашему брату еще тяжелее будет. Ты не смейся.
– Ну и спит этот Лайчи! Как сурок! – проговорил Лайош Дубак. – А большой какой стал! Словом, война, мы это прекрасно знаем, мама! – Он испытующе посмотрел на мать. – Дома хорошо. Семья… – проговорил он задумчиво. – Маришка…
– А Россия? – внезапно спросила старуха. – Там, говорят, бедняки держатся крепко. Видать, эта власть справедливая, недаром Виктор Штерц так бесится из-за нее. Эти Штерцы никогда не покормят прачку завтраком.
– Мерзавцы! – бросил Лайош Дубак. – Много льется крови, вот в чем беда, мама. А нам бы не мешало хоть капельку мира, чтоб можно было спокойно пожить…
– Не придет он, – сказала старуха.
– Кто? – не понял сын.
– Мир. В полицейском управлении людей калечат без всякой жалости!
– Поздно уже, – заволновался вдруг Лайош Дубай. – Скоро половина десятого. По улицам уже нельзя ходить. Где Маришка? Не случилось ли с ней чего?
Старуха молчала.
– Боже мой! – произнес он со вздохом, и голова его затряслась сильнее.
Старухе стало жаль сына.
– Не волнуйся, – медленно проговорила она. – Придет.
– Вы чего-то недоговариваете, мама? – спросил он, не скрывая своего беспокойства и пристально глядя на мать.
– Недоговариваю? – не поднимая глаз, переспросила старуха. – У Фюшпёков еще горит свет. Ты писал, что Болдижар Фюшпёк был с тобой. На твоем месте я бы сходила к ним сейчас…
– Вы правы, – сказал Лайош Дубак. – Он, бедняга, погиб на моих глазах. Какие мы все-таки бессердечные. Я сейчас же отправлюсь туда, может, они еще не легли. Как только придет Маришка, сразу постучите к ним и позовите меня. Почему она так задержалась, что это может означать?
Старуха не отвечала, и он пошел к двери. Голова его тряслась. Старуха смотрела вслед сыну.
– Никто не видал? – в кухне квартиры номер двенадцать, расположенной на четвертом этаже, спросила у Эгето вдова Фюшпёк, владелица кофейни, помещавшейся в том же доме.
– По-моему, нет. Какой-то тщедушный человек шел по лестнице впереди меня и постучал в соседнюю квартиру. Он меня не видел.
– Что за человек? Вечером, так поздно?
– Щупленький такой, солдат…
Эгето умылся теплой водой и побрился, Он сразу как будто помолодел, глаза казались более синими, и на худощавом лице разгладились морщины.
– Теперь совсем другое дело! – сказал он почти с удовлетворением, усаживаясь в кухне за стол и принимаясь за дымящийся картофель с паприкой, который тетушка Фюшпёк минуту назад сняла с плиты и поставила перед ним.
В этот насыщенный тягостным напряжением вечер, когда простых людей обуял страх перед мрачной неизвестностью фатально надвигающихся событий, не только в кухнях Дубаков и Фюшпёков, но и во всем городе тысячи бедняков ели на ужин картофель с паприкой. В этот вечер хозяйки, словно по мановению волшебной палочки, отыскали в глубине кладовых бережно хранимый последний килограмм картофеля, положили в кастрюлю ложку жира, где вскоре, после недолгих колебаний, зашипел, золотясь, накрошенный лук и стала постепенно румяниться картошка. Запахи пищи, которую готовили на ужин в этот вечер, наполняли квартиры, состоящие из комнаты и кухни; они просачивались в обиталища мелких буржуа, где над кроватями красовались цветные олеографии, изображающие умирающего Петёфи или скитающегося Ракоци, проникали они и в комнаты, ставшие пристанищем пролетарских семей…
Для того чтобы показать особенности той эпохи и выделить ее характерные черты, добросовестный бытописатель, изображая носителей этих черт, то есть живых людей, их сознание, порожденное конкретными условиями того времени, никоим образом не может обойти молчанием сей ритуальный картофель с паприкой, составлявший единственное меню будапештских ужинов 3 августа 1919 года; этот картофель с паприкой был роскошью, да, неслыханной роскошью по сравнению с осточертевшими, набившими оскомину ячневой и кукурузной кашей и рагу, приготовленным из тыквы. Мелкие буржуа ели, исполненные надежды: съедим все, что у нас есть, и блокада будет снята, ибо Антанта видит, что мы сделались демократами. Пролетарии ели в хмуром раздумье: кто знает, где придется есть завтра вечером? Длинноусые отцы семейств и их худосочные отпрыски сопровождали свое насыщение громким чавканьем: все, что попало к нам в желудок, безусловно, наше! Иные размышляли: будущее, может быть, хоть на йоту, но все же принесет облегчение, – и последним кусочком хлеба начисто вытирали тарелку. Те, кто мыслил трезво, надеялись лишь на одно: еда и воспоминание о ней придаст им силы в последующие дни.
Эгето съел свою порцию картофеля с паприкой; после трапезы в этой квартире, как и в соседней, у Дубаков, за столом в кухне сидели втроем. Полнолицая смуглая тетушка Йолан (один господь бог знал, почему эту цветущую сорокалетнюю женщину все называли тетушкой), ее шестнадцатилетний сын Йожеф – ученик коммерческого училища с лицом, усыпанным веснушками, и снявший китель Эгето обменивались новостями.
– Обыск был? – спросил Эгето.
– Штатские приходили, – кивнув, сказал веснушчатый парнишка. – С ними только один был в форме. Они все перерыли, а тетушка Терез бранилась даже при них, матушку их помянула – они стекло в буфете разбили и Юлике затрещину дали.
Йошка Фюшпёк, побывавший днем в В., рассказывал сейчас обо всем, что ему удалось узнать. Сперва он навестил своего бывшего одноклассника Кароя Хорна; Хорны держали пивную на углу улиц Теметё и Сент-Геллерта– это была известная пивная Хорна. Оттуда он проник к квартирной хозяйке Ференца Эгето, тетушке Терез. Дядя Фери очень хорошо сделал, что с субботы на воскресенье не ночевал дома: всю ночь напролет какие-то люди с дубинками в руках вертелись подле ворот его дома – видно, его, дядю Фери, подстерегали. И это сущая правда: в воскресенье на рассвете разгромили рабочий клуб – он сам видел; еще днем там стоял часовой с ружьем, прямо на улице валялись ножки от стульев и то, что осталось от сломанных столов; как их выбросили, так они и лежали под разбитыми окнами; на тротуаре виднелись темные пятна крови – говорят, было трое убитых.
Веснушчатый парнишка, ученик коммерческого училища Йошка Фюшпёк знал город В. как свои пять пальцевой там родился и там же окончил четыре класса гимназии. Долгое время они жили на улице Густава Кеменя, а Ференц Эгето, пока его не призвали на военную службу, был у них квартирантом. Сюда, в Будапешт, они переехали в феврале 1916 года, когда тетушка Фюшпёк приобрела на улице Надор, дом восемь, вот эту самую кофейню.
– Юлика не плакала? – спросил Эгето.
– Нет, не плакала. Она тоже бранилась, и даже похлеще, чем ее мать, но тетушка Терез шлепнула ее по губам. Тогда Юлика спросила: «А почему тебе можно, мама?» А тетушка Терез ответила, что она, мол, вдова, и буфет разбили ее, а не Юликин. А я, я сказал, что не видел вас, дядя Фери, и понятия не имею, где вы. «Видел ты его или нет – все равно, но, ради бога, пускай он и не думает возвращаться! Здесь все перевернулось, ночью его два раза искали и подстерегали на углу нашей улицы; особенно старался чиновник муниципалитета Рохачек».
– Хорёк, – бросил Эгето. – Его младшего брата, офицера, хотели повесить на заводе М. Потом расстреляли.
– Во время обыска этот Рохачек свирепствовал больше всех, то и дело поминал ревтрибунал и раскидал все вещи. А тетушке Терез пригрозил: мол, велит вздернуть ее за то, что она несколько лет держала на квартире такого коммуниста. Тут вмешалась Юлика и говорит: «Моя мама – вдова контролера железной дороги и сдает квартиру тому, кто ей платит». Ну а Рохачек всех и каждого готов отправить на тот свет, чтобы отомстить за смерть брата. На улице людей полным-полно, и все с железными палками. Книги Маркса тетушка Терез припрятала; она сказала, если вам нужна одежда, дядя Фери, пожалуйста, известите ее. «Я не знаю, где он», – сказал я. А тетушка Терез говорит: «Так и надо, правильно!» Сегодня в полдень вас, дядя Фери, искал господин учитель Маршалко.
– И он тоже? – поразилась тетушка Фюшпёк.
– Чего он хотел? – помолчав, спросил хрипло Эгето.
– Этого тетушка Терез не знала, – пожимая плечами, ответил парнишка. – Лицо у господина учителя было очень красное и смущенное. Он заикался и все время потел. Наконец он спросил, не знает ли она, где дядя Фери. Тут тетушка Терез как закричит! Она, мол, никакого отношения к делам квартиранта не имеет. Тогда господин учитель стал еще больше потеть и запинаться. Он, дескать, не желает ничего дурного. И опять допытывался, где вы. Потом сказал: «Я хочу только помочь!» – и ушел. Тетушка Терез мне и говорит: «Боюсь я этого полоумного, он еще притащит ко мне…» А я ей говорю: «Он меня в гимназии учил и совсем не был полоумным». Тут тетушка Терез и на меня как закричит: «Мне-то лучше знать, полоумный он или нет! Ты уж помолчи!»
Паренек умолк.
– Чего же он все-таки хотел? – опять спросил Эгето.
Ответа не последовало.
– Вот и все, – сказал Йошка. – В пивной Хорна нельзя было играть в бильярд. Компания каких-то христиан-социалистов устроила там свое собрание, и приходский священник Верц сказал: «Наступила пора взяться наконец за евреев».
– Ну и люди, – задумчиво проговорила тетушка Йолан. – Избить ни в чем не повинную двенадцатилетнюю девочку…
– Да еще после мировой войны! – иронически, заметил Йошка. – Не надо придавать значение затрещине, мама.
– Нет, надо, – твердо сказал Эгето. – Надо возмущаться.
– Почему? – удивленно спросил Йошка. – Зачем?
– Изверги! – продолжая думать о своем, кипятилась тетушка Йолан. – Бьют стекла в буфете!
– Тебе это хорошо известно, – сказал Эгето.
– Когда идет борьба, – возразил Йошка, – нет времени возмущаться.
– Есть время. Человек борется не одной винтовкой, человек еще борется сердцем. Тот, кто прислушивается лишь к зову своей винтовки, не кто иной, как наемник или анархист. Кто прислушивается только к зову сердца, тот моралист или мечтатель. В целом свете лишь мы одни, коммунисты, прислушиваемся к голосу и того и другого.
Кто-то постучал в стекло кухонной двери. Тетушка Йолан вздрогнула.
– Кто там? – спросила она.
– Я, – послышался за дверью незнакомый голос.
Тетушка Йолан сделала знак Эгето, потом чуть-чуть приоткрыла дверь, но тут же поспешно распахнула ее – Эгето едва успел выскользнуть в комнату. Причиной столь лихорадочной поспешности тетушки Йолан было изумление.
– Господин Дубак! – воскликнула она и всплеснула руками.
– Собственной персоной, – входя, проговорил Лайош Дубак.
Тетушка Йолан от неожиданности на мгновение утратила дар речи и молча смотрела на вошедшего. Что говорить, за минувшие два года Лайош Дубак отнюдь не стал выглядеть моложе, костюм висел на нем как на вешалке, черты исхудалого лица заострились и почему-то тряслась голова.
Дубак сообразил, что оба они, женщина и мальчик, глядят на его трясущуюся голову.
– Остановись же наконец, голова-голубушка, ведь ты в гостях! – пошутил он и схватил себя за затылок. Голова и в самом деле перестала трястись. – Небольшой нервный шок, – пояснил он, махнув рукой. – Это пройдет. Я не помешаю?
– Конечно, нет, – сказала тетушка Йолан. – Присаживайтесь, господин Дубак.
На спинке стула висел серый китель Эгето.
– У вас гость? – спросил Дубак. – Все-таки я помешал! – Он взглянул на дверь, ведущую в комнату, ручка которой еще поворачивалась.
– Не-ет, – протянула женщина. – То есть… – добавила она в замешательстве.
Вдруг из комнаты донесся шум – это полетела на пол гладильная доска. Днем тетушка Йолан гладила и, как обычно, окончив глаженье, прислонила доску к косяку двери, а когда пришел Эгето, она попросту забыла о ней и не убрала на место. Стоило сделать в темноте один-единственный шаг, и человек неминуемо должен был на нее наткнуться.
– …то есть родственник! – быстро нашелся Йошка.
Воцарилась мучительная тишина. Эгето слышал каждое слово, произносимое в кухне; он стоял вплотную к двери, а на его ноге лежала гладильная доска.
«Неплохое начало», – подумал он и вышел в кухню.
– Ференц Ланг, – назвался он, обмениваясь рукопожатием с Лайошем Дубаком.
– Сколько процентов? – тут же осведомился гость.
– Сорок, – ответил Эгето. – Ведь я был ручным наборщиком. В Сербии…
– Осколок? – снова спросил Дубак.
Эгето кивнул.
– А я у Пьяве, – со слабой усмешкой сказал Дубак. – У меня контузия. Говорят, что я могу рассчитывать на двадцать пять процентов. Должен явиться в какое-то ведомство по опеке инвалидов войны.
Эгето кивнул. Женщина и мальчик в разговор не вступали, инстинктивно ощутив ту незримую связь, которая мгновенно возникла между этими двумя совершенно незнакомыми друг с другом людьми; в кухне чужой квартиры в какую-то долю секунды некий стремительный импульс передался от одного к другому, от человека с двумя оторванными пальцами к человеку с трясущейся от нервного шока головой, и теперь для этих двоих из всех проблем вселенной самой важной являлась одна: увечье обоих.
Все сели.
– Вы изволите быть из Будапешта? – поинтересовался Дубак.
Эгето промолчал.
– Нет, – вдруг сказала тетушка Йолан.
– Откуда же?
– Комитата Веспрем, – сообщил Эгето. – Из Кетхея.
– Одним словом, не из одного места, – улыбнулся Дубак, – а сразу из двух. А зачем изволили прибыть в Будапешт?
– Для исследования в госпитале.
– Вы серьезно больны?
– Еще не знаю, – ответил Эгето.
– Желудок? – Дубак с участием смотрел в изможденное лицо Эгето.
– Полагают, что печень, – сказал Эгето. – Мне нельзя подолгу ходить.
– Это у вас фамильная болезнь, – сказал Дубак. – Ведь и у господина Фюшпёка…
– Он не родственник мужа, – перебила тетушка Йолан.
Эгето предостерегающе кашлянул.
– Он мой двоюродный брат, – заключила тетушка Йолан. – Расскажите же, господин Дубак, как вам удалось вернуться домой.
– Боже мой, – пробормотал вдруг Дубак, – какой же я осел, сижу и болтаю тут всякий вздор… а господин Фюшпёк… – Он судорожно глотнул и умолк.
– В августе мы получили извещение от его командира, – промолвила тетушка Йолан, – в августе прошлого года.
Дубак положил свою руку на руку тетушки Йолан.
– Он погиб на моих глазах, – сказал он.
Тетушка Йолан смотрела в сторону.
– На моих глазах, – повторил Дубак с печальной и виноватой улыбкой, – на моих глазах, на горе Монтелло.
– Как? – спросил Йошка.
– Рикошет! Прямо в голову. Пуля сплющилась о скалу и отскочила рикошетом, это так называется. В июле восемнадцатого года.
Тетушка Йолан тяжко вздохнула.
– Мама… – сказал Йошка.
– Он не страдал, – продолжал Дубак. – Совсем не страдал. Сразу…
Глаза тетушки Йолан наполнились слезами.
– Если бы я мог быть таким достойным человеком, каким был Болдижар Фюшпёк! – вдруг воодушевился Дубак. – Вот это был храбрец, он ничего не боялся. Он бежал совсем не от страха. Бывало, сидит под ураганным огнем и с аппетитом уплетает холодные консервы. А когда его поймали да разжаловали и со штрафной ротой вернули на фронт, он, думаете, опечалился? Нет, извините, нет, он ни минуты не горевал об утраченных капральских нашивках. Собрались тогда наши старики, солдаты да унтер-офицеры, а он и говорит: «Черт подери, против кого я должен здесь воевать? На этой ли стороне, на той ли – все равно палить из винтовки надо не тут». Капрал и спрашивает: «А где же?» Он огляделся и ответил: «Нам – в Будапеште, а итальянскому пролетариату – где-нибудь в Риме!» Так и сказал.
Эгето одобрительно кивнул.
– Я тогда спросил у него, – продолжал Дубак, – разве не гордится он своей серебряной медалькой? Тут он сощурил глаза. Дня за два до его гибели это было. «Я горжусь, – сказал он, – я и вашей медалькой горжусь, боевой товарищ Дубак; я горжусь всей австро-венгерской армией, даже орден Железной короны первой степени генерала от инфантерии барона Артура Арца мне доставляет удовольствие. Мы все здесь герои, все до одного… Покорнейше прошу… А вот поручик Виктор Штерц ошивается в тылу и жрет салями своего папаши».
– Верно, – с ненавистью сказал Йошка.
Дубак вдруг как-то сразу приуныл.
– Время… – наконец проговорил он и погладил руку тетушки Йолан, – время и вашу рану… госпожа Фюшпёк…
– А вы, – спросила тетушка Йолан, – как вы, господин Дубак, вернулись домой?
– Я бежал, – сказал Дубак. – После перемирия я, как военнопленный, находился в лазарете в Удине, потом в Градеце. Как инвалиду с нервным шоком мне было легче удрать от итальянцев. Бежали мы с другом моим по фронту, его фамилия Зингер. Ох, сударыня, вы и представить себе не можете, сколько нам, венграм, пришлось выстрадать. Уже после побега мы месяца три голодали в Лайбахе. Верите ли, сперва нас оттуда не выпускали австрийцы, потом словаки – из-за блокады. Черт знает, что такое! Ты воюешь, ну, точно лошадь в шорах, война давно уже кончилась, а тебя не пускает домой твой союзник австриец. Там бывал барон Легар, полковник. Он-то, конечно, свободно приезжал на машине из Фельдбаха, такой, знаете, щеголеватый офицер, брат композитора, да только не затем он приезжал, чтобы нас освободить. Говорят, евреи хитростью продали Венгрию каким-то националистам. Порази их гром, этих националистов, так говорил мой приятель Зингер, этот парень из Будапешта. Какое нам дело до каких-то националистов? Извольте знать, осиное гнездо этих националистов тогда находилось в Вене, и они ни минуты меж собою не ладили. До нас дошел слух о каких-то ста сорока миллионах, которые эти националисты выудили у венгерской миссии в Вене через одного английского офицера; говорят, у них столько было шампанского, как у нас колодезной воды. Ну а мы тоже не лыком шиты и себя в обиду не дали, войной мы были сыты по горло. Взяли, да и пустились наутек оттуда, только нас и видели. Весь путь до Канижи на своих двоих протопали. В пути, извольте знать, мы просто попрошайничали, как и полагается истинным героям войны, и, не стану скрывать от вас, воровали кукурузу. От Канижи на крыше вагона зайцами ехали.
– Нечем мне угостить вас, – сказала тетушка Йолан, от души жалея щуплого солдатика.
– Разве я за этим пришел? – проговорил Дубак. – А здесь что за жизнь? Прямо не дождусь, извините, чтобы с божьей помощью в галантерейном магазине Берци и Тота…
– Он закрыт, – вставил Йошка.
– Что? Берци и Тот?
– Да. И Брахфельд тоже.
Дубак призадумался.
– Это несчастье, – сказал он наконец с грустью и поднялся. – Где мне тогда служить? – спросил он, смущенно улыбаясь.
– Теперь даже пару белья из бязи трудно… – начал Йошка.
– Но бог-то, может быть, не закрыт! – вдруг выпалил Дубак, и на губах его слабо заиграла лукавая усмешка. – Он-то поможет.
– В святые отцы пойдете? – насмешливо осведомился Йошка.
– Замолчи! – прикрикнула на него тетушка Йолан.
Дубак покраснел.
– В моей профессии, – сказал он растерянно, – не много таких работников, как я.
Он задумчиво провел рукой по лбу; рукав синего костюма, сидевшего на нем мешком, словно балахон, поплыл за его цыплячьей рукой.
– Сынок ваш, – сказала тетушка Йолан, – сильно вырос. Такой смышленый мальчуган. А как хорошо он играет в шахматы с моим Йошкой!
– Верно? – Дубак будто весь изнутри засветился. – Что ж, унаследовать ему было от кого! – добавил он хвастливо. – Хоть сам я в шахматы не играю, – тут же поспешно признался он, пытаясь по лицам хозяев угадать, какой эффект произвели его слова.
Ему никто не ответил. Тетушка Йолан неподвижным взглядом смотрела в одну точку где-то в центре стола.
– Мне пора, – сказал Дубак, и голова его затряслась сильнее при мысли, что сейчас он увидит свою жену. – Будьте здоровы! – Он сделал общий поклон, затем всем троим по очереди пожал руку.
Он ушел, и тетушка Йолан занавесила входную дверь. Некоторое время в кухне царила тишина.
– Слишком много он говорит, – заметил Йошка.
– Он неплохой человек, – сказал Эгето. – Правда, излишне любопытен. Однако…
– Давайте ложиться, – сказала тетушка Йолан.
– Бедняга! – немного погодя проговорил Йошка.
Тетушка Йолан молча взглянула на сына.
Госпожа Дубак явилась домой в половине двенадцатого– господин Кёвари был агентом управления военных поставок, а перед октябрьской революцией[5]5
Имеется в виду буржуазно-демократическая революция в Венгрии, начавшаяся 31 октября 1918 г. – Здесь и далее примечания редактора.
[Закрыть] – военным следователем и потому располагал всевозможными документами, благодаря которым мог беспрепятственно расхаживать по улицам после комендантского часа. Лайош Дубак сидел за столом в полутемной кухне – в целях экономии керосина фитиль в лампе наполовину привернули – и клевал носом, судорожно вздергивая голову, то и дело падавшую на грудь. С другой стороны стола сидела старуха, время от времени поглядывая на сына из-под поредевших старушечьих ресниц. Солдатик, облаченный в свободный темно-синий костюм, нахохлившись, дремал на табурете и, когда голова его низко свешивалась, фыркал и мгновенно просыпался. В полутемной кухне пахло керосином, в углу безмятежно посапывал мальчуган, и Лайош Дубак по временам обращал взгляд в сторону спящего сына, а старуха, наблюдая за своим сыном, поджимала губы, и на ее костлявом лице проступала беспредельная материнская грусть.
Вокруг замочной скважины зашарили ключом. Лайош Дубак вскочил и рывком распахнул дверь. Женщина, стоявшая во мраке галереи, вздрогнула и почти минуту не двигалась, бессильно опустив руки.
– Это ты! – наконец проговорила она и вошла.
Дубак сжал ее в объятиях, погладил золотистые волосы, потом чмокнул в щеку – шляпа на ее голове чуть-чуть сползла набок.
– Вот я и дома, – сказал счастливый супруг.
Тут поднялась старуха, вывернула до отказа фитиль в лампе и в упор уставилась на невестку. Та, высвободившись из объятий мужа, чуть растрепанная, молча кусала губы.