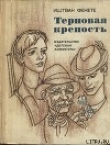Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
– Ах, какие у него на редкость красивые синие глаза, особенно в сочетании с черными волосами, – как-то сказала о нем девушка-печатница.
В декабре 1905 года в газете «Непсава» было опубликовано сообщение о волне всеобщих политических стачек, прокатившейся по России, и об усилении там революционного движения. Это произошло спустя три месяца после того, как русский царь заключил с Японией Портсмутский мирный договор. Вскоре после Нового года столичная ежедневная газета «Будапешти напло» напечатала сообщение агентства Рейтер о баррикадах, воздвигнутых на улицах Москвы, а также о том, что в районе полыхающей огнем Пресни целых девять дней тысячи рабочих с оружием в руках вели кровопролитные бои против поддерживаемых артиллерией царских полков.
В начале 1906 года, достигнув двадцати трех лет, Ференц Эгето вступил в организацию социал-демократической партии города В. Премьер-министром Венгрии был тогда барон Геза Фейервари, а министром внутренних дел – Йожеф Криштоффи, однако кабинет «опричников» уже доживал свои последние дни, и соответственно пошла на убыль волна манифестаций, связанных с борьбой за избирательные права.
В скромных помещениях рабочего клуба города В., помещавшегося на улице Дяр, жизнь в эти месяцы била ключом; дважды в неделю читались лекции политического и просветительного характера, по временам приезжали докладчики даже из членов столичного партийного руководства. Здесь впервые услыхал Ференц Эгето о пьесе Максима Горького «На дне», а спустя несколько недель в воскресном номере одной столичной газеты прочел рассказ Максима Горького «Двадцать шесть и одна». Писатель изобразил будни пекарей-подмастерьев, проводивших свою жизнь в подвале за бесчеловечно тяжелым трудом, людей, изо дня в день глядевших из подвального окна на ноги проходящей мимо молодой служанки. Каждое слово этого рассказа дышало смятением и надеждой.
Эгето по-прежнему жил в семье тети Рози, ютясь в одной комнатушке с Анталом. По-прежнему ездил трамваем в Пешт. Вечера он проводил в рабочем клубе. Собрал скромную библиотечку, в которой было около восьмидесяти книг, которые он обернул плотной оберточной бумагой. Он принялся изучать немецкий язык. В типографии Яноша Араня он уже больше не работал; он поступил в типографию «Атенеум» и работал на втором этаже дома на улице Микши, набирая рукописи специального журнала, субсидировавшегося влиятельными капиталистическими кругами и называвшегося «Отечественная промышленность».
В 1908 году он сдружился с семьей Болдижара Фюшпёка; у Фюшпёков был пятилетний сын, мальчишка с лицом, походившим на индюшачье яйцо, и жили они на улице Палоц. Болдижар Фюшпёк работал печатником на новых, только что появившихся тогда ротационных машинах в типографии Толнаи; каждую неделю он приносил домой сорок восемь крон и в свои тридцать три года был членом правления рабочего клуба города В. Благодаря Болдижару Фюшпёку, или, точнее говоря, благодаря стараниям тетушки Йолан, Ференц Эгето познакомился с девушкой, которая позднее стала его женой. Она работала в типографии Толнаи; родители ее давно покоились на кладбище, а она жила у Фюшпёков. Первого мая 1909 года Эгето и эта девушка шагали рядом по Вацскому шоссе в толпе, державшей путь в столицу. Они дошли еще только до проспекта Хунгария, когда Илонке нестерпимо захотелось пить. Эгето повел ее в ближайший большой дом, но тщетно стучались они в одну из квартир первого этажа – им никто не открыл.
– Сицилистам здесь делать нечего, – вдруг донеслось до них со второго этажа: слова принадлежали старику с багровой физиономией, на голове которого красовался вышитый колпак, а в зубах торчала прокуренная трубка.
В конце концов в другой квартире им дали два стакана воды.
– Когда выйдете, нажмите, кнопку, товарищи! – мигая, сказала сидевшая в кресле парализованная старуха.
В прохладном подъезде, прежде чем присоединиться к толпе, они, не обмолвившись ни единым словом, обнялись и поцеловались; губы у них были влажные от только что выпитой воды; каштановые волосы девушки щекотали щеки Эгето, ее мягкое тело на мгновение податливо прильнуло к нему; у нее был тонкий стан, еще не потерявший гибкости от долгого стояния у печатного станка. Спустя три месяца после знакомства они поженились. Полгода они прожили вместе – потом Илонка умерла. В больнице Каройи. Гнойный аппендицит. Операция. Перитонит. Она очень страдала; в ее последнюю ночь Эгето не отходил от больничной койки, держал горячую руку жены в своей, слушал ее слабые стоны, прорывавшиеся сквозь страшный зубовный скрежет – она почти не принимала болеутоляющих средств.
Сейчас, в ночной тиши, ему словно бы вновь слышались стоны Илонки.
«Прошло целых десять лет, – думал он, растревоженный тенями прошлого, – а кажется, будто только вчера…»– И он смотрел и смотрел на луч луны, прокравшийся в комнату через окно.
Йошка Фюшпёк перестал храпеть и спал совсем тихо; стены, за день нагретые солнцем, все еще отдавали тепло.
«Тогда… – снова унеслись в далекое мысли Эгето, – да… я переехал на самое рождество…»
…Да, в тот рождественский день после смерти Илонки, когда снег падал крупными хлопьями, Эгето перебрался жить к Фюшпёкам. Он и Болдижар Фюшпёк перевезли на ручной тележке его скромные пожитки. Он исхудал за эти недели и сделался молчалив. Нежданно-негаданно в один из тех дней его навестил учитель венгерского и латинского языков городской гимназии. Этот учитель, огромного роста, толстый, румяный мужчина в очках, слишком шумно сопел. Он был очень смущен и, не ожидая приглашения, сел.
– Чем могу служить? – учтиво осведомился Эгето.
– Вы узнаете меня? – спросил учитель.
Эгето кивнул.
В сущности… – Гость из-под очков, как-то сбоку смотрел на Эгето и кряхтел. – Мы… мы ведь с вами родственники.
Эгето не отвечал.
– К сожалению, я ничем не могу угостить вас, – сказал он наконец в нерешительности.
– Очки запотели, – объявил учитель, снял очки, подышал на стекла и, подслеповато щурясь, принялся протирать их носовым платком. – Вы, как я слышал, – он сделал какой-то извиняющийся жест, – как я слышал, социал-демократ.
– Да.
Учитель помолчал.
– А кем прикажете быть еще? – с легкой иронией произнес Эгето.
– Не могу ли я чем-либо быть вам полезен?.. – проговорил тогда учитель, глядя Эгето прямо в глаза.
Эгето пожал плечами.
– Благодарю, – сказал он.
Наступила тишина; учитель, терзаясь, ломал свои большие красные руки и близоруко щурился. За сильными увеличивающими стеклами очков, словно луны, поблескивали белки его глаз.
– В «Атенеуме»… там готовят к изданию мой латинский словарь. – Он махнул рукой. Потом поднялся и неуклюже протянул Эгето руку.
– Видите ли, – заговорил он поспешно, – я слыхал, что у вас умерла жена… Примите мои сожаления.
И он ушел, высокий, громоздкий и шумно сопящий; проходя через кухню, где ужинал Болдижар Фюшпёк, он отвесил общий поклон, пробормотал какие-то прощальные слова и вышел, надев шляпу уже за дверью.
– Что ему надо? – спросил позже Фюшпёк.
Эгето пожал плечами.
– Бог его знает, – с задумчивым видом ответил он.
Об этом странном визите между Эгето и Фюшпёком не было произнесено больше ни слова. В то время у учителя Кароя Маршалко было уже двое детей: сын гимназист и десятилетняя дочь.
Шли годы, но братья никогда не встречались друг с другом. Изнурительно знойные лета сменяли студеные, зимы, русский царь и германский император Вильгельм II дважды встречались, чтобы обсудить вопрос о Багдадской железной дороге, велись переговоры о Балканах и Персии, вновь потерпели фиаско переговоры по поводу заключения англо-германского соглашения о флоте. Как-то ранним утром, идя по бульварному кольцу в типографию, Эгето увидел, как в направлении Западного вокзала пронеслись несколько пароконных фиакров на резиновых шинах. Полицейский на углу вытянулся и взял под козырек.
– Эге, Тедди Рузвельт! – воскликнул продавец жареной кукурузы и ткнул пальцем в сторону второго фиакра, где сидел, закинув ногу на ногу, пожилой человек с румяным лицом, президент Северо-Американских Соединенных Штатов.
– Недурно бы получить от него несколько долларов! – объявил разносчик газет с большой пачкой «Аз уйшаг» под мышкой, где были напечатаны длиннющие статьи, сообщавшие об исчезновении русского писателя графа Льва Толстого и о смерти венгерского писателя Кальмаца Миксата.
Этой осенью в рабочем клубе города В. происходили бурные дебаты по поводу соглашения о совместной борьбе за избирательные права между партией социал-демократов и партией Юста[6]6
Партия независимости, созданная либеральным политическим деятелем Дюлой Юстом. Эта партия выступала за введение всеобщего избирательного права.
[Закрыть].
«Мы не можем идти на компромисс с буржуазией», – утверждали одни. Другие доказывали, что единственной задачей партии в настоящий момент является завоевание демократических свобод; после того как трудовая партия одержала в избирательной кампании крупную победу и когда история о фактическом использовании денег, принадлежавших управлению соляных копей, на избирательные цели получила широкую огласку, обе группы спорщиков, ошеломленные, умолкли. Приходский священник Верц в один из воскресных дней произнес длинную проповедь в церкви города В., посвященную бичеванию «безродных каналий», именуя столь нелестным прозвищем местных социал-демократов, а днем молодые люди, члены духовной конгрегации, устроили демонстрацию перед рабочим клубом: разумеется, не обошлось без драки, в которой участвовал и Ференц Эгето, за что был доставлен в полицию и задержан там вместе с четырьмя товарищами до утра следующего дня.
Свой досуг он проводил за чтением книг или за игрой в шахматы, несколько раз побывал в Аквинкуме, а однажды вдвоем с девушкой отправился на пароходе в Вышеград; он и Болдижар Фюшпёк по утрам в воскресенье пили пиво в саду «Хорват» и даже – правда, редко – играли в кегли. В пятницу вечером он оставался в Пеште и слушал в профсоюзе лекции по социологии; несколько раз он побывал в старом парламенте, где происходили публичные дискуссии по вопросам антимилитаризма и пацифизма, организованные членами кружка Галилея; на одной из лекций по марксизму молодой журналист Ласло Рудаш рассорился со студентами – членами национально-демократической партии. В это же самое время Ференц Эгето самостоятельно прочел в рабочем клубе лекцию для аудитории, состоявшей из тридцати или сорока человек. Он готовился к лекции несколько дней и все же немного конфузился; касаясь теоретических воззрений немецкого социал-демократа Эдуарда Бернштейна и его «ревизии марксизма», он выражался очень резко, а к концу лекции употребил слово «тухлый». Председатель собрания, член правления рабочего клуба, тотчас затряс колокольчиком и заявил:
– Потрудитесь излагать парламентарным языком то, что вам угодно сказать!
Болдижар Фюшпёк, сангвиник по природе, даже захрипел от возмущения и ударил кулаком по столу; Эгето постарался охладить его пыл, а затем, прищурившись, осведомился у председателя, какой парламент он имеет в виду.
– Как это какой? – оторопев, спросил председатель.
– Вот именно, какой? – уточнил Эгето. – Парламент графа Иштвана Тисы, князя Бисмарка или же лорда Асквита?
Его слова были встречены взрывом смеха. Председатель, покраснев до ушей, тряс колокольчиком, а на следующий день два члена правления отозвали Эгето в сторону.
– У вас чересчур горячая голова, – с упреком сказал один, – вам еще надо учиться.
Ох уж эта молодежь, – проворчал другой.
– Мне двадцать девять лет, – сказал Эгето.
Первый член правления посмотрел на него и сказал:
– Вам бы следовало жениться…
Примерно в эту же пору его назначили профуполномоченным типографии «Атенеум» и выдвинули кандидатом в члены комитета социал-демократической партии города В.; он прочел доклад об антимилитаризме, как-то рассказал о творчестве Золя, а один раз в зале старого парламента выступил в каком-то диспуте перед студенческой аудиторией, состоявшей из тысячи человек, и был жестоко осмеян, когда назвал французского философа Декарта (Descartes) – «Дескартес».
То были жаркие годы. Забастовка наборщиков; манифестации, связанные с борьбой за избирательные права; борьба за повышение заработной платы; борьба против графа Тисы, а потом…
…Тут воспоминания Ференца Эгето, вызванные бессонницей, на мгновение оборвались; свет луны, просочившийся с улицы, настиг его в сером сумраке ночи и полюбовался его изувеченной правой рукой, покоившейся на одеяле в глубине алькова. Йошка Фюшпёк стонал спросонок. В городе В. на улице Вираг, без сомнения, спала тетушка Терез, и этот же самый лунный свет скользил по стульям, выброшенным на улицу из рабочего клуба. «Та же луна!» – промелькнуло в голове у Эгето, и на лбу его выступили капельки пота. Он думал о том, что где-то далеко, на самой окраине города, у составленных в пирамиды винтовок, не спят румынские часовые. Здесь, во дворе этого дома, урчала в клозетах вода; на улице загромыхал грузовик. «Какая-то военная машина, – решил Эгето, – должно быть, идет к Венгерскому королевскому отелю». Потом воцарилась тишина, веки Ференца Эгето отяжелели, но сон все не приходил…
Май 1916 года, сербско-болгарская граница… Он видел себя словно со стороны… Он уже полтора года на фронте, в траншее относительно тихо, он углубился в роман писательницы Эльзы Йерусалем «Священный скарабей». Это роман о германских публичных домах. И тут произошло нечто совсем непонятное. Вдалеке, словно бы рассыпаясь, что-то несколько раз громыхнуло, потом послышалось какое-то жужжанье, солдаты прижались к стенке траншеи, и тогда перед ними возникло крохотное облачко пыли…
– Где книга? – спросил кто-то, когда облачко пыли рассеялось.
Книги «Священный скарабей» не было в руках у Эгето, этой книги попросту не было нигде. Эгето посмотрел на свои руки: они были залиты кровью. Боли он не чувствовал, однако ни указательного, ни среднего пальца на правой руке его тоже не было, их не было нигде, сколько бы он ни искал их на земле ли, в воздухе ли – их не было!! Лицо его сделалось мертвенно-бледным, о, не от боли и не от потери крови – просто оттого, что все случившееся было совсем непонятно. Ему наложили временную повязку и отправили в тыл, потом еще глубже в тыл и еще, и наконец в июле 1916 года он оказался в Будапеште; он провел всего лишь месяц в 16-м гарнизонном госпитале и поправился… то есть был признан сорокапроцентным инвалидом войны, получил аттестат на двенадцать крон сорок филлеров в месяц и мог отправляться на все четыре стороны… К военной службе он был уже не пригоден!
На все четыре стороны… Он поселился в Доме инвалидов на улице Тимота, не бывал у Фюшпёков, даже не ходил в профсоюз, – ведь он не печатник больше… Какой из него печатник с восемью пальцами?.. Он же был ручным наборщиком…
Впрочем, Фюшпёки уже и не жили в В.; от Антала, сына тети Рози, он узнал, что Фюшпёки переехали в Пешт и тетушка Йолан открыла кофейню на улице Надор. И вот однажды к нему зашел Болдижар Фюшпёк. Усы Фюшпёка поседели, и был он в военной форме – ополченец-капрал. Некоторое время оба молчали.
– Я считал тебя более стоящим человеком, – жестко, без жалости заговорил наконец Фюшпёк и разгладил по привычке усы. – Из-за двух пальцев, брат…
Эгето в упор смотрел на Фюшпёка и молчал.
– Что ж, на мировой революции теперь ты поставил крест, а? – язвительно заметил Фюшпёк.
– У меня нет пальцев, – сказал Эгето и пожал плечами, дивясь, каким бестолковым сделался Фюшпёк. – Ведь наборщик…
– Будто на наборщиках свет клином сошелся! – сказал Фюшпёк. – Рабочий класс состоит не из одних наборщиков.
– Зачем ты пошел в солдаты? – спросил Эгето.
– Это тебя не касается! – резко ответил Фюшпёк.
Эгето опустил голову.
– Что же мне делать? – спросил он наконец. – Пойти в проповедники?
– Вот это другой разговор! – сказал, улыбаясь, седоусый капрал. – Пошли! – и он хлопнул Эгето по плечу.
Сперва они отправились на улицу Надор и зашли к тетушке Йолан.
– Ох, как ноют у меня нынче ноги! – тотчас сказала она, села и заплакала.
Волос длинен, а ум короток, – таково было мнение Болдижара Фюшпёка о собственной жене.
В кухне кофейни они пили кофе с ватрушками.
– Благодаря жене я стал настоящим мордастым буржуа, – сказал Фюшпёк. – Когда демобилизуюсь, не стану терпеть сие предприятие разбавленного молока!
…В эту осень Болдижар Фюшпёк был отправлен на румынский фронт. Ференц Эгето поступил на трехмесячные курсы по переквалификации, организованные в Доме профсоюза печатников на площади Шандор, и первым делом с большим трудом научился держать карандаш между обрубком среднего и безымянным пальцем; почерк его сделался несколько корявым, однако был достаточно четким, и в январе 1917 года по ходатайству профсоюза его взяли в типографию «Атенеум» в качестве корректора. Он вновь очутился в городе В., осел на улице Вираг, в чистенькой, окнами выходящей во двор комнатке, у старой приятельницы тетушки Йолан, вдовы контролера железной дороги, по фамилии Креннер.
Фюшпёк был ранен дважды. Первый раз это произошло в октябре 1917 года – румынская пуля на излете застряла у него в боку между седьмым и восьмым ребрами. Он попал в 16-й гарнизонный госпиталь, помещавшийся на проспекте Хунгария, и через три четверти часа, которые продолжалась операция, пулю извлекли. 25 ноября 1917 года, когда Эгето навестил его, дело уже пошло на поправку. После этого визита Фюшпёк, исхудалый, с забинтованной грудью, опираясь на палку и распространяя вокруг себя запах карболки, сбежал из госпиталя. Вместе с Эгето он потащился в зал промышленной выставки и по дороге лишь посмеивался, глядя на озабоченную физиономию Эгето.
Большой зал был битком набит рабочими-манифестантами; среди них было много людей в солдатских шинелях; в первом ряду сидели с неподвижными лицами два слепых солдата в черных очках, несколько солдат с костылями и солдаты, у которых не было одной руки. Фюшпёк простоял на ногах все собрание от начала до конца. Щеки его пылали, так как у него, без сомнения, был жар, когда очередь дошла до чтения проекта резолюции: «Рабочие Будапешта и его предместий, а вместе с ними и весь народ Будапешта шлют братский привет русским революционерам, которые благодаря мужеству своих сердец и крепкому разуму твердой рукой выводят человечество из пекла войны». Однако когда собрание кончилось, Фюшпёк весьма резво зашагал обратно в госпиталь, причем свою суковатую палку в шутку предложил Эгето, с тревогой наблюдавшему за ним и на обратном пути. После этой экспедиции Фюшпёк и в самом деле пролежал с высокой температурой целых три дня. В январе 1918 года его снова отправили на фронт, только на этот раз он ехал в Италию. В районе Южного вокзала курсировали патрули вызванных боснийских и чешских полков; шел восемнадцатый день января, а за пять дней до этого на четырех многолюдных митингах был принят проект решения социал-демократической оппозиции, состоявший из требования о немедленном учреждении по всей стране рабочих советов. В тот самый вечер рабочий класс венгерской столицы готовился к всеобщей стачке – вот почему были вызваны боснийские и чешские полки.
– Тяжело уезжать, старина! – сказал тогда Фюшпёк, обнимая Эгето, жену и сына.
Это было их первое прощание на Южном вокзале. На следующий день началась грандиозная стачка, проходившая под знаком мира и солидарности с российским пролетариатом; даже магазины и те были закрыты. На пятый день с помощью вызванных полков стачка была сломлена, после чего руководство социал-демократической партии «в соответствии с заявлением министерства иностранных дел Австро-Венгрии и венгерского правительства» в газете «Непсава» неоднократно квалифицировало продолжение стачки, как «подрывную работу смутьянов». Имени Ференца Эгето в ту пору совершенно случайно не оказалось в длинном списке арестованных. Правда, сыщики дважды искали его на работе, но оба раза товарищи заявили, что в типографии его нет. Ну а полиция была по горло занята арестами множества других людей.
Болдижар Фюшпёк пробыл на итальянском фронте всего восемь недель. У Ишонзо он снова был ранен, получив пулю в бедро, и вернулся домой с малой серебряной медалью, но с весьма кислой физиономией. Рана его зажила быстро; когда же истекли положенные ему две недели отдыха, он после недолгого размышления не вернулся в свою войсковую часть, стоявшую в резерве за горой Монтелло. Он дезертировал. Несколько дней он провел в своей пештской квартире на улице Надор, потом за ним явился Эгето и перевез в В. Там с ведома вдовы контролера он поселил Фюшпёка в своей комнате. Прошло две недели, и вот однажды вечером по анонимному доносу чиновника муниципалитета, некоего Тивадара Рохачека, к Эгето нагрянули два сыщика. В комнате у Эгето света не было. Вдова Креннер отправилась с дочкой в кинотеатр «Уран», и Эгето сам открыл дверь.
– Документы! – приказал один из вошедших.
В темной комнате сидел Фюшпёк.
– Это моя квартира! – намеренно громко объявил Эгето; он был без пиджака, а его удостоверение личности лежало во внутреннем кармане кителя в неосвещенной комнате. – Предъявите ордер на обыск в доме!
– Ну-ну, не кипятитесь! – сказал другой сыщик. – Обыска мы делать не будем. Предъявите ваши документы. Может быть, вы дезертир?
– А этого вам недостаточно? – загремел Эгето, выставляя вперед изувеченную руку.
«Тем временем он может спокойно вылезть в окно», – подумал Эгето, и на лбу его выступила испарина.
– Пожалуй, достаточно, – сказал первый сыщик уже более вежливым тоном. – Для меня, пожалуй, достаточно. Но существует приказ генерал-лейтенанта Лукачича. Вы его читали? Предъявите же документы.
– К чертям! – крикнул Эгето. – Забирайте! – И он скрестил на груди руки. – «Эх, был бы я в пиджаке, – думал он, – больше часа не продержали бы».
– Вы что, рехнулись? – рассердился второй сыщик. – Почему вы кричите? Мы не глухие.
Через отворенное в комнате окно Фюшпёк увидел во дворе тетушку Терез и девочку, возвращавшихся из кинотеатра. Бежать было поздно.
– Если вы через две минуты не предъявите документы… – начал первый сыщик, но тут из комнаты вышел Фюшпёк.
– Ведите к чертям… – произнес он медленно. – Нечего рассусоливать.
В этот момент появилась тетушка Терез с дочкой. Болдижара Фюшпёка и Ференца Эгето отвели в военную полицию, помещавшуюся на проспекте Арпада. Эгето, однако, через полтора часа отпустили, пригрозив, что против него возбудят судебное дело.
– Еще два пальца у меня отнимете? – спокойно осведомился Эгето; затем обнял Фюшпёка и пошел домой.
Вокруг Фюшпёка поднялась возня, которая тянулась целую неделю, а потом его вновь отправили на итальянский фронт.
– Что-то заждались мы мира, – заметил с сожалением Фюшпёк, прощаясь с женой и Эгето. – Я вот даже на юг отправляюсь! – И, сопровождаемый конвоиром, он сел в поезд.
Это было их второе прощанье на Южном вокзале. Спустя два месяца Болдижар Фюшпёк погиб, и капрал Лайош Дубак обнаружил в его кармане отпечатанную в Будапеште на четырех страничках брошюру о значении победоносной Октябрьской социалистической революции в России.
Через три дня после того, как был схвачен Болдижар Фюшпёк, в гражданском клубе за карточным столом во время партии в тарокко у чиновника Тивадара Рохачека произошло ничем не объяснимое столкновение с одним из партнеров, преподавателем гимназии Кароем Маршалко. Робкий и близорукий учитель наложил руку на последнюю взятку Рохачека.
– Я воспользовался взяткой, – объявил учитель, глядя в упор на Рохачека, – точь-в-точь как некий полевой жандарм!
Рохачек в негодовании проворчал что-то. Тогда учитель поднялся с места, схватил чиновника за ухо и закрутил его изо всех сил.
– Донесите на меня за то, что я перехватил вашу взятку, – тяжело дыша, сказал он. Затем простился с присутствующими и отбыл.
На третий день после этого происшествия в дворцовом лесу состоялась дуэль на пистолетах; учитель выстрелил под ноги чиновнику муниципалитета и, отказавшись от примирения, удалился, оставив на месте дуэли ошеломленных секундантов.
– Близорук, как бегемот! – воскликнул врач, принимавший участие в поединке.
– Отчего он так взбесился? – недоумевая, спросил один из секундантов.
Второй секундант хмыкнул, а Рохачек скрипнул зубами.
В один из первых дней января 1919 года Ференц Эгето пришел на Вишеградскую улицу и подал заявление о приеме его в Коммунистическую партию Венгрии.
…Эгето лежал в глубине алькова; былое и настоящее как-то вдруг переплелись в его сознании, он видел, как за окном сияет луна, слышал, как во дворе старого дома, залитом серебристым лунным светом, попискивают крысы, как где-то капает из крана вода, и думал о том, что на другом берегу Дуная, на улице Дороттья, в Венгерском королевском отеле, без сомнения, уже спит сам военный министр Йожеф Хаубрих, а на вымерших улицах Пешта по приказам, отпечатанным на плотной бумаге, тоже скользит белый луч луны.
«Должно быть, около трех…» И мысли Эгето вскачь понеслись дальше.
Было действительно около трех часов. Лежа на чужой постели в сумерках летней ночи и невольно вслушиваясь в сочное сопение спящих, Эгето в ожидании сна вспомнил строки из послания В. И. Ленина «Привет венгерским рабочим»: «Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно революционную войну, войну угнетенных против угнетателей, войну трудящихся против эксплуататоров, войну за победу социализма»[7]7
В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 361.
[Закрыть].
…Венгерская Советская республика…
Эгето стиснул зубы, ему хотелось кричать. Он судорожно глотнул. Его душило бессилие… Итак, самоотверженная борьба, титанический труд – все оказалось тщетным… И вот он здесь, гонимый… Нет! Теперь он стремился подавить воспоминания, пытался думать о другом.
…Дни шли, и он за все это время всего лишь два раза видел учителя Маршалко. Первый раз встреча произошла на Западном вокзале. Это было в начале мая, в субботний день. Они обменялись рукопожатием, и Эгето с трудом втиснулся в переполненный поезд, благо на крыше отыскалось местечко.
Он ехал в Шальготарьян. Со всех сторон поступали тревожные вести: части чешских войск под командованием французских генералов уже угрожали Шальготарьяну; румыны начали наступление против венгерского пролетарского государства и перешли Тису. А Ференц Эгето со своей изувеченной правой рукой оказался в стороне от всех событий, и когда, откликнувшись на первый призыв, сто тысяч рабочих Будапешта вступили в ряды Красной армии, он вынужден был остаться дома.
Дочь тетушки Терез проводила лето в Шальготарьяне у каких-то своих родственников шахтеров; поезда ходили без всякого расписания, и тетушка Терез то и дело разражалась слезами.
– Я поеду за ней, – сказал Эгето, видя отчаяние тетушки Терез.
Разумеется, это был всего лишь предлог, чтобы отправиться в те края, и, по всей вероятности, даже тетушка Терез поняла истинную причину его рвения.
В Шальготарьяне царила необычайная сумятица. По улицам с видом заговорщиков шныряли офицерики без знаков различия; некоторые правые лидеры профсоюза шахтеров вели с ними продолжительные беседы; рабочие утренней смены хоть и регулярно являлись на работу, но в шахту спускались с тяжелым сердцем.
– Это уже для чешских капиталистов, – мрачным шепотом утверждали некоторые посвященные, старые функционеры социал-демократической партии.
Шахтеры, лица которых были покрыты угольной пылью, сдав смену, щурились наверху от солнечного света и с удрученным видом стояли у спуска в шахту, не помышляя о том, чтобы уйти домой, – Шальготарьян был единственным шахтерским районом, поставляющим уголь Советской республике; от него зависело все, что нуждалось в угле: армия, производство, транспорт. Ночью в Шальготарьян пришло сообщение: «Всякое сопротивление излишне и бесполезно. Советское правительство подало в отставку». Сообщение это исходило не от частного лица, оно было послано тогдашним секретарем профсоюза шахтеров Кароем Пейером.
К счастью, поступило не только это предательское сообщение; немногим позднее в город шахтеров прибыл невысокий молодой человек, представитель Революционного правительственного совета. В тот самый час, когда Эгето приехал в Шальготарьян, обстоятельства уже переменились. Молодой человек с необычайной энергией приступил к формированию добровольческих шахтерских батальонов. Под землей шахтеры удвоили усилия по добыче угля; офицерики с видом заговорщиков уже в значительно меньшем количестве сновали по улицам, а некоторые профсоюзные чиновники поглубже втянули головы в плечи.
Первый добровольческий шахтерский батальон отправился на фронт в тот самый момент, когда Эгето, взяв Юлику за руку, повел ее на вокзал. Разумеется, не могло быть и речи о какой бы то ни было воинской дисциплине в этом рабочем батальоне, той дисциплине, которая некогда отличала всю австро-венгерскую армию; бойцы стояли не по ранжиру, шагали не в ногу и одеты были во что попало, начиная с потрепанной темной шахтерской блузы и кончая шинелью серого цвета; лица людей были хмуры, но они решительно сжимали в руках винтовки. Эгето понял, что командир батальона целиком доверяет своим бойцам; рядом с колонной вооруженных шахтеров в обществе политкомиссара шагал с неуловимой улыбкой на губах тот невысокий молодой человек, воля и энергичные действия которого резко изменили ход событий. Эгето сел в поезд в каком-то смятении чувств, он радовался и грустил одновременно.
– Винтовки тоже нужны, чтобы добывать уголь? – спросила у него девочка.
– Да, да… – задумчиво ответил он.
Спустя несколько дней, уже в Будапеште, Эгето узнал, что положение на Северном фронте фактически стабилизовалось, шахтеры собственными силами удержали город и сейчас спокойно могли возвратиться в свои покрытые угольной пылью штольни, так как на фронт уже прибыли части вновь созданной Красной армии. Немногим позднее началось грандиозное наступление под командованием Ландлера, в результате которого неприятельские войска, вторгшиеся в пределы Венгрии, отступили и бежали вплоть до самого Эперьеша.
…До Эперьеша… Уже серел за окном четвертый день августа; в каком бы направлении ни поплыли исполненные страданий, не знающие покоя мысли Эгето, они вновь и вновь возвращались к одному…
Второй раз он встретился с учителем Маршалко, когда был подавлен мятеж, который пытались осуществить контрреволюционные элементы 24 июня. Эгето был тогда ранен в жестокой схватке, происшедшей на заводе М. Лишь только было получено первое тревожное известие с завода, как Эгето и два его товарища бросились без промедления на завод и появились там еще до того, как прибыл вооруженный отряд красных металлистов судостроительного завода. Группе контрреволюционеров, явившихся на завод, удалось, сославшись на распоряжение командующего корпусом Хаубриха, ввести в заблуждение часть рабочих, человек пятнадцать, к которым вскоре примкнули еще два мастера и один инженер, и в течение нескольких часов держать завод под угрозой.