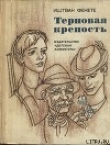Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
– Это я позволил себе побеспокоить вас, господин Берци, – заговорил Дубак, и голос отца показался мальчику совершенно чужим.
– А-а, – протянул господин в подтяжках и как будто слегка растерялся. – Так это вы, господин Дубак! А я не узнал вас.
Дубак все улыбался и кланялся.
– Садитесь, – натянутым тоном предложил господин в подтяжках, и они сели на стулья, очень изящные стулья, и молчали.
– Потрепали вас, однако! – совсем уже дружелюбно заметил господин в подтяжках и щелкнул мальчика по голове. – А это ваш сынок?
– Совершенно верно, господин патрон, – сказал Дубак. – Это мой Лайошка.
Господин в подтяжках задумался на мгновение, потом вышел из комнаты и тут же вернулся, неся в руке яблоко, этакое не очень большое румяное яблоко, протянул его Лайошке и потрепал мальчугана по щеке.
– Leider[8]8
К сожалению (нем.).
[Закрыть], положение из рук вон плохо! – обратился он к Дубаку. – Магазин, вы, конечно, видели, уже несколько месяцев закрыт.
– Видели, с вашего позволения, – сочувственно проговорил Дубак.
Господин в подтяжках нахмурился. В этот миг Лайошка пожалел его от всей души.
«Но что значит „leider“? – размышлял он про себя. – Не забыть бы спросить потом у отца».
– Всего обобрали, – продолжал господин в подтяжках теперь уже сердитым тоном. – То, что я целую жизнь наживал своим горбом, коммунисты… Вы сами знаете, господин Дубак, я работал в магазине как последний ученик, даже больше… Эх! – И он безнадежно махнул рукой.
– Святая правда, – подобострастно поддакнул Дубак, улыбаясь; он почему-то все время улыбался.
Наступила пауза. Господин в подтяжках стал ерзать на стуле, наконец он поднялся.
– Что же… Я очень рад, – заговорил он опять, – что вы в общем-то дешево отделались, господин Дубак.
– Да, – сказал Дубак и поклонился, не вставая.
– К сожалению, у меня неотложные дела, – сказал господин в подтяжках.
Дубак поднялся.
– Господин патрон, прошу вас, – заговорил он торопливо с просительным выражением лица, – вам, как я думаю, угодно будет открыть потом магазин, так я вас прошу, сделайте одолжение, не забудьте тогда обо мне! Ведь вы, господин патрон, знаете, я всегда… действительно…
– Да, – сказал господин патрон и, сощурившись, посмотрел на Дубака.
– Словом, не будет ли вам угодно взять меня опять? – выпалил Дубак и с таким волнением ожидал ответа, что сердце у него замерло.
– Leider, – раздельно произнес господин в подтяжках и отрицательно мотнул головой, – нет!
Дубак смотрел на него испуганными глазами, раскрыв рот.
– Мы будем счастливы, – сказал господин в подтяжках, – если я, мой компаньон и в лучшем случае старший приказчик… Войдите же, любезный господин Дубак, в мое нынешнее положение! Я не хочу обнадеживать вас!
– Что касается жалованья, то самое скромное… – начал Дубак.
Но господин в подтяжках лишь покачал головой.
– Быть может, позднее, – неопределенно проговорил он и тут же добавил: – Вы бы, господин Дубак, хорошо сделали, если б немного отдохнули, окрепли. То, что у вас голова трясется, тоже…
– Словом, – торопливо перебил его Дубай с этакой лакейской ухмылкой, – словом, может быть, позднее… О господин Берци, могу ли я хоть надеяться…
Господин в подтяжках развел руками.
– Обещать ничего не могу, – сказал он и потряс руку Дубака.
И вот они оба, отец и сын, идут по лестнице вниз.
– Какой он добрый, этот патрон, – после некоторого раздумья возвестил Дубак. – Где твое яблоко, Лайчи?
– Я забыл его там, – не глядя на отца, ответил мальчуган.
В это утро, часов около десяти, за одним из угловых столиков кофейни стряслась беда: покончил с собой холостяк, мужчина среднего роста, лет примерно тридцати восьми. Кое-кто еще и раньше обвинял самоубийцу в том, что он сразу после установления диктатуры пролетариата, 22 марта 1919 года, в помещении Венгерской всеобщей сберегательной кассы, будучи заместителем начальника отдела векселей, вслух читал стихи Ади.
Несчастье произошло следующим образом.
В тот день, в понедельник, 4 августа 1919 года, уже с самого раннего утра в кофейне тетушки Йолан началось необычное оживление и внезапно изменился состав клиентов. Солдаты Красной милиции исчезли бесследно, вместо них появились усатые субъекты с колючими глазами из соседнего полицейского управления, затем адвокаты и маклеры по ценным бумагам, несколько элегантных иностранцев и даже парочка полицейских офицеров. Но банковские служители по-прежнему выносили из кухни альпаковые подносы с завтраками, предназначенными для чиновников соседних финансовых учреждений, несмотря на то, что ассортимент блюд и напитков этой небольшой кофейни был весьма ограничен; посетители имели возможность, согласуясь с собственным вкусом, выбрать себе на завтрак подслащенный сахарином суррогатный кофе, венгерский суррогатный чай, приготовленный из лимонной кислоты искусственный лимонад, а также особый «апельсиновый сок». Блюдо имелось одно – сваренная на воде ячневая каша, приправленная микроскопической дозой творога, добытого каким-то весьма таинственным способом; была еще, правда, обычная мамалыга, пользовавшаяся спросом у части посетителей, с нежностью именовавших ее «маисовый кекс». Тетушка Йолан, приобретя на прошлой неделе сурепное масло, в этот день поджаривала на нем горьковатый сорокапроцентный кукурузный хлеб, каковое лакомство имело ошеломляющий успех. Давали его, естественно, в обмен на соответствующие талоны хлебной карточки.
К половине десятого оживление уже утихло и в кофейне оставалось всего три посетителя. За угловым столиком в самой глубине зала сидел Йошка Фюшпёк и сам с собой играл в шахматы – он повторял партию Ласкер – Алехин, игранную ими на санкт-петербургском чемпионате в 1912 году, которую он вычитал из учебника по шахматам д-ра Тарраша. За белым мраморным столиком, стоявшим у витрины, с восьми часов утра сидел необычайно близорукий, очень худой, потрепанного вида человек, которого банковские служители называли не иначе, как «сумасшедший Янкл». Человек этот, несмотря на свою далеко не респектабельную внешность, неизменно садился за столик у витрины и был на виду у всех – делал он это, должно быть, из-за того, что его слабые глаза искали света. Из дырявых, но туго набитых карманов он извлекал всевозможные, очень старые и потрепанные книжки небольшого формата и, пока другие занимались своими делами – что-то записывали, учитывали векселя, пили суррогатный кофе, – он, уткнувшись носом в книжицы и беззвучно шевеля губами, умудрялся читать три томика сразу. Время от времени он снимал очки с необыкновенно толстыми стеклами и протирал их, слепо моргая глазами.
– Лингвист какой-нибудь, – высказал как-то предположение один из посетителей.
Замечание это было встречено дружным смехом банковских чиновников. Надо признаться, что сия потертая, тощая и не особенно опрятная личность отнюдь не являлась наилучшей рекламой в витрине кофейни тетушки Йолан, однако хозяйка заведения не только терпела его постоянное присутствие, но даже отпускала ему в кредит, а однажды в знак особого расположения предложила этому странному посетителю домашнего пирога. Изможденный человек, близоруко мигая, несколько мгновений с какой-то голодной тоской созерцал рулет с маком, который тетушка Йолан с улыбкой протягивала ему на тарелке. Потом встрепенулся, покраснел и, заикаясь, отказался от угощения. После этого он еще глубже зарылся в книжки. Он то и дело вытаскивал из карманов небольшие листочки бумаги, два-три карандашных огрызка и, поочередно меняя их, делал какие-то пометки.
Третьим посетителем кофейни был господин К., заместитель начальника отдела векселей Венгерской всеобщей сберегательной кассы. У' него было несколько возбужденное лицо. Он вошел в кофейню около половины десятого и сел неподалеку от лингвиста, за угловой столик у окна. На нем был чрезвычайно элегантный белый полотняный костюм и синий шелковый галстук; он выпил две чашки суррогатного кофе; судя по всему, он с нетерпением кого-то ждал. Из банка его уволили еще в субботу, не посчитавшись с тем, что он бессменно проработал за одним столом целых двадцать лет; сегодня утром он все-таки явился на службу, но управляющий не ответил на его приветствие, а двое коллег во всеуслышание заявили, что, дескать, красным мерзавцам не место за столом в обществе служащих сберегательной кассы. Прочие чиновники низко склонились над бумагами, остерегаясь поднять от них глаза. В конце концов управляющий через служителя вызвал его к себе в кабинет и в самой учтивой форме предложил удалиться. Тогда К. отправился к директору личного состава с просьбой об аудиенции, но секретарша, выразив сожаление, объявила, что господин директор занят. К. вышел на улицу; при взгляде на него у старичка служителя возникло опасение, что он, того и гляди, разрыдается тут же, у главного входа в банк; тогда он проводил К. в кофейню тетушки Йолан и оставил там, пообещав, что кликнет его, если у директора личного состава вдруг найдется для просителя время. Служитель вскоре возвратился и, не садясь за столик, наклонился к К. и шепнул одно лишь слово:
– Нет.
К. посмотрел на него вопросительно.
– Стало быть, говорит, с большевиками в разговоры не вступаю, это, мол, дело полиции и дисциплинарной комиссии. Мне очень жаль, господин К.
Старичок ушел, лингвист делал свои пометки, Йошка играл в шахматы, а К., лицо которого покрылось от волнения пятнами, еще некоторое время просто сидел за столом, потом растворил в стакане с водой несколько таблеток сулемы, закрыл глаза и опрокинул раствор в рот. Он захрипел, повалился на стол, на губах его выступила пена, тело конвульсивно подергивалось, стакан с водой опрокинулся. Первым вскочил Йошка. Потом ушедший с головой в свои записи лингвист, заметив, что что-то стряслось, встал и молча подошел к столику К.
– Как видно, отравление, – сказал он тихо.
Тетушка Йолан принесла молока. Хрипящего К. положили на пол. Йошка бросился к телефону и вызвал скорую помощь; в кофейне уже начал скапливаться народ; из полицейского управления явился сыщик, желавший позавтракать, и в это же время прибежал чиновник Венгерской всеобщей сберегательной кассы, чтобы полакомиться гренками, поджаренными в сурепном масле; чиновник этот с состраданием пожимал плечами.
– Из-за коммунизма, – уронил он негромко.
К., продолжая хрипеть, открыл глаза и посмотрел на столпившихся вокруг него людей; сыщик записывал имена свидетелей, и тогда выяснилось, что «сумасшедший Янкл» – приват-доцент и зовут его д-р Тадеуш Голуховский. Тут подоспела карета скорой помощи, злополучному К. промыли желудок и увезли его. Между тем вся армия завсегдатаев кофейни тетушки Йолан собралась уже в полном составе, и даже после того, как санитарная машина уехала и было заказано не менее шести порций гренков, происшествие с беднягой К. все еще обсуждалось.
– Он взобрался на письменный стол, – говорил чиновник сберегательной кассы, – и читал стихи Ади. Те, что кончаются словами:
И вдобавок на столе самого управляющего банком!
– Хватит, – сказал кто-то глухо.
В кофейне опять началась суматоха. Наступил час завтрака. Сухопарая старая дева по имени Маргит, приходившаяся тетушке Йолан двоюродной сестрой, орудуя в кухне длинной двузубой вилкой, поджаривала на огромной сковороде пропитанные маслом ломтики хлеба, в плите трещали дрова, резкий запах сурепного масла овевал Маргит со всех сторон. Ложки всевозможной длины, цедилки, кувшинчики для суррогатного чая и суррогатного кофе, так же как и посуда для таинственной каши, кстати сказать изрядно надоевшей завсегдатаям кофейни, были всегда у нее под рукой. Эта Маргит жила на улице Нап и, добираясь от дома пешком, появлялась здесь спозаранку; она снимала с полки и выстраивала на длинном, вымытом добела кухонном столе шеренги прекрасных аль-паковых подносов, кувшинчиков, ложек, цедилок и чашек; вся посуда блестела, ибо банковские чиновники, составлявшие основную массу посетителей кофейни, хотя и потребляли суррогатные напитки, однако с точки зрения сервиса были, как и полагается истинным господам, весьма и весьма привередливы. Служители, например, в качестве посетителей входили лишь через черный ход – в дверь кухни; рядом с холодильником в кухне стоял небольшой столик, за которым они охотно располагались. Нет, нет, ни за что на свете не согласились бы они занять места за белыми мраморными столиками кофейни!
Первое время тетушка Йолан упорно настаивала на этом, но ни одна ее попытка не увенчалась успехом; дядюшка Рук, седовласый служитель Венгерского ипотечноссудного банка, пользовавшийся известным авторитетом, заявил ей напрямик:
– Вы еще не поняли всех тонкостей профессии. Поглядите-ка на господина Штёккера из учета, он член клуба гребцов «Хунгария»; так вот, что он скажет, если войдет в зал и сядет за соседний с ним столик какой-то сопливый Йожи Толнаи в своем служительском лапсердаке с монограммой?
– Даже подумать страшно! – с самым серьезным видом ответила тетушка Йолан.
Тогда дядюшка Рук зажмурился и произнес буквально те же слова, что и старик рассыльный.
– Порядок есть порядок. Банк ворочает миллионами. Кем был ваш муж?
– Мы были печатники, – гордо ответила тетушка Йолан.
– Так я и думал, – неодобрительно кивнул дядюшка Рук; должно быть, профессия печатника не пользовалась у него уважением.
И тем не менее он даже пытался ухаживать за тетушкой Йолан; несколько раз он видел ее во сне, эту белотелую женщину, – дело было в давние времена, в начале осени 1916 года. Однажды он пригласил ее на обед, устроенный служителями в ресторане Виппнера в Хювёшвёльде, но тетушка Йолан почему-то мягко отказалась от столь лестного для нее приглашения.
В пять часов утра тетушка Йолан бывала уже на ногах и вместе с Маргит мыла и чистила помещение, начищала до блеска подносы, ложки, разводила в плите огонь. Потом тетушка Йолан поднимала железные шторы кофейни, повязывала фартук и прикрепляла к поясу кожаную сумку для мелкой монеты – она сама обслуживала посетителей и сама с ними рассчитывалась. Банковским служителям полюбились ее гладкие щеки, белые зубы и полные руки; движение через улицу бывало достаточно оживленным: молодые банковские служители в униформе проносили сверкающие подносы, уставленные суррогатной провизией для высокопоставленных чиновников, управляющих и даже вице-директоров находящегося поблизости Управления военных поставок, Венгерского ипотечно-ссудного банка, банков «Wiener Bankverein» и «Дейч Иг. и сын», Венгерского промышленного банка и прочих финансовых учреждений. Самому д-ру Енё Рейсу, директору-распорядителю Управления военных поставок, в 1918 году именно отсюда доставляли суррогатный чай с небольшой порцией рома.
Служители, за исключением двух-трех молодых, проникшихся духом времени, даже в период диктатуры пролетариата скромно и упрямо продолжали сидеть за кухонным столом; это была особая категория служителей, происходивших, как правило, из династии потомственных слуг – не простая лавочная прислуга, пришедшая из деревни, а служители с родословной, у которых, возможно, даже прадеды были банковскими служителями еще во времена Андраша Фаи; они отправлялись к мессе по воскресеньям, жили в Кишпеште или Зугло и держались подальше от чиновников, среди которых встречалось немало евреев. Не исключено, что эти ветераны в какой-то мере даже с презрением относились к чиновникам, ибо нередко бывали случаи, когда какой-либо банковский служитель в летах – наперсник руководителя, а то и директора личного состава – считался действительно важной персоной в банке и даже играл на бирже, разумеется до революции.
В первое время, когда тетушка Йолан только открыла свое заведение, там пеклись пироги с творогом, люди пили кофе с молоком, китайский чай и натуральный малиновый сок; более того, на стеклянной стойке, расположенной против двери, стояли четыре бутылки с разнообразными напитками и стаканчики: в одной бутылке был бледный ликер, в другой – зеленый шартрез, в третьей – желтый дюшес и, наконец, в четвертой – белая сливянка.
В эти годы дела тетушки Йолан шли совсем неплохо – в результате к концу 1918 года на ее счету в банке лежало две тысячи четыреста крон, а у Маргит – тысяча двести. Весь день, с рассвета и до девяти часов вечера, обе женщины проводили на ногах – жарили, парили, мыли, терли шваброй, обслуживали, получали деньги; и все-таки тетушка Йолан так и не смогла полюбить свое заведение, она всей душой стремилась назад в В., туда, где смешались запахи бензина, свинца, бумаги и масла, запахи, которые каждый вечер приносил из типографии Болдижар Фюшпёк. По вечерам ее ноги болезненно ныли, и она решила лечиться грязевыми ваннами.
– Разбавлять молоко нечестно, – неодобрительно заявил Болдижар Фюшпёк, когда в первый раз приехал с фронта в отпуск и увидел сберегательную книжку тетушки Йолан.
– По-твоему, можно прожить на солдатское пособие? – иронически осведомилась тетушка Йолан.
Давно это было. Где они, те пироги с творогом? Где и какие ветры развеяли прах седоусого капрала Болдижара Фюшпёка?
После бури и натиска, неизменных во время завтрака, часов в одиннадцать, когда в кофейне на своем обычном месте сидел в одиночестве лишь близорукий лингвист (Йошка должен был прервать партию в шахматы, так как тетушка Йолан послала его домой с завтраком для Эгето), в зал в сопровождении господина Кёвари, коренастого мужчины среднего роста с черными усами, вошла госпожа Дубак. Тетушка Йолан быстро обслужила новых посетителей. Госпожа Дубак некоторое время беспокойно вертелась на стуле, наконец встала, прошла в кухню и там пошепталась с тетушкой Йолан; она была очень бледна и выглядела крайне смущенной, когда вышла из кухни во двор, где в продолжение нескольких минут смотрела вверх, на четвертый этаж. В это самое время во двор спустился Йошка, и от него она узнала, что у них дома одна ее свекровь; тогда она стала подниматься по лестнице, неся в руках пустой чемодан, принадлежавший господину Кёвари. Кёвари тем временем, расплатившись в кофейне, тоже вышел во двор и стал прохаживаться взад и вперед. Выглянули из своих дверей привратник дома и подмастерье сапожника Колбы. Спустя полчаса госпожа Дубак появилась с чемоданом, щеки ее пылали и губы были плотно сжаты, – одним словом, сцена была достаточно красноречивой, и подмастерье сапожника Колбы тотчас и безошибочно установил, что эта пухленькая блондинка покидает своего мужа. Подмастерье ухмыльнулся и, не выпуская из зубов деревянный гвоздь, отпустил в адрес дамы какую-то сальность. Парочка удалилась, чемодан нес мужчина; он и она, казалось, о чем-то спорили, и она часто оборачивалась назад; наконец они с улицы Зрини повернули к Дунаю, чтобы сесть в трамвай номер восемь.
– Неспокойный какой-то и бранится, – войдя в кухню, доложил матери Йошка, имея, по всей вероятности, в виду Эгето.
В кофейню вошли двое мужчин, одетых с отменным щегольством, осмотрелись, уселись за столик и попросили тетушку Йолан сварить им настоящее голландское какао, которое они принесли с собой, сварить по-английски, на одной воде. Потягивая какао и заедая его колбасой, издававшей соблазнительный пряный запах, и крохотными ломтиками ржаного хлебца, они с жаром обсуждали крупное коммерческое дело – речь шла о двух ящиках какао.
– Оно достаточно крепкое, – сказал тот, что был старше, – но, может быть, недостаточно ароматно. Синие деньги пойдут за него?
Тот, что помоложе, покачал головой.
Близорукий лингвист, занятый у витрины своими заметками, почувствовав дразнящий аромат колбасы, повел носом, бросил в сторону собеседников тоскливый подслеповатый взгляд, проглотил слюну и вновь углубился в карманное издание комментируемой им «Махабхараты».
Двое щегольски одетых мужчин, один из которых был лакей известного банкира Жака Гейма, а второй – лакей из Липотварошского казино, в конце концов договорились относительно какао и покинули кофейню, довольные сделкой.
Потом пришла тетушка Мари, старая продавщица газет, она держала под мышкой пачку только что отпечатанной вечерней газеты «Эшти непсава» и вручила один номер тетушке Йолан; к этому времени она уже так сильно охрипла, что заголовки могла выговаривать лишь шепотом. Тетушка Йолан вложила газету в газетницу с рамкой из испанского тростника, перелистала ее и протянула единственному гостю в кофейне, близорукому лингвисту; тот с удивлением поглядел на газету, сделал рукой отстраняющий жест и что-то пробормотал – без сомнения, на санскрите, ибо тетушка Йолан ничего не поняла.
– Зачем это? – вразумительно спросил наконец лингвист. – Зачем, сударыня?
Но тут вошли помощник аптекаря с улицы Мерлег, два биржевых маклера, а за ними домашний парикмахер с приятелем столяром, чтобы съесть до обеда несколько гренков. Эти господа, выражаясь фигурально, рвали газету друг у друга из рук; потом один из маклеров вышел и возвратился с другим экземпляром газеты, который он приобрел на углу. Новости были волнующие, и все их подробно обсуждали, точнее говоря, маклеры обсуждали их между собой, парикмахер со столяром тоже между собой, а помощник аптекаря не мог удержаться и попеременно вмешивался в разговор то одних, то других, не забывая тем временем с жадностью поглощать аппетитные гренки. Йошка разыгрывал партию Тартаковер – Капабланка и слушал разговоры посетителей.
Два маклера тщательно анализировали возможные экономические последствия ответных телеграмм Клемансо подполковнику Романелли.
– Он говорит совершенно ясно, – утверждал один, – что не станет вмешиваться во внутренние дела, если будет соблюден договор о перемирии. Румыны останутся на демаркационной линии, там, где они стоят сейчас. Я полагаю, уже на этой неделе начнутся частные сделки без участия официальных маклеров.
Второй маклер махнул рукой.
– Не так это просто, – сказал он, вздохнув.
– Не подлежит, однако, сомнению, что, если начнутся спекуляции ценными бумагами на бирже, они не должны касаться акций промышленных предприятий… Клемансо далеко. Даже и он не сможет предотвратить демонтаж заводов. Делай, что хочешь, а я, пожалуй, стал бы потихоньку скупать с рук банковские ценные бумаги.
Затем они обсудили заявление статс-секретаря министерства юстиции Эмиля Балажа о ликвидации ревтрибуналов, о пересмотре всех судебных приговоров, о восстановлении коллегии адвокатов, об экстренном пересмотре всех декретов советского правительства.
– Только скупать! – пришли к обоюдному решению маклеры, согласно кивая головами.
Парикмахер и его приятель столяр прежде всего детально обсудили новость о самоубийстве Тибора Самуэли; они уплетали гренки и, чавкая, рассказывали, как Самуэли с австрийским коммунистом Штрошнейдером перешел границу, как в деревне Лихтендорф они наскочили на жандармский патруль, как их опознали и привели в ближайшее караульное помещение; когда обыскивали Штрошнейдера, венгерский народный комиссар вынул из кармана носовой платок, в который был завернут револьвер, и выстрелил себе в грудь под левое шестое ребро…
– Трус, – прохрипел столяр.
– …и умер, когда его перевозили в Винер-Нейштадский военный госпиталь.
Йошка, у которого кровь отхлынула от лица, с ферзем д-ра Тартаковера в руке, услышал, как два субъекта надругались над памятью покойного.
– Жаль его, – ехидно заметил помощник аптекаря. Взгляды присутствующих обратились к нему. – Я так понимаю, – продолжал он, – его надо было схватить живьем, чтобы вырвать сначала язык, а потом уж колесовать.
Оба маклера понимающе закивали головами, а Йошка собрал шахматные фигуры и вышел из-за столика; нечаянно уронив ящик, он опустился на колени и принялся собирать под столом пешки; ему страстно захотелось вцепиться зубами в икры этих людей и куснуть их так, как сделал бы это какой-нибудь бешеный пес.
Лингвист продолжал читать, беззвучно шевеля губами.
Йошка, белый как полотно, уселся в кухне и сидел, не поднимая глаз; его не столько взволновало известие о гибели человека, сколько гнусная клевета, сопровождавшая эту печальную весть.
Парикмахер пустился в разглагольствования о том, что его двоюродный брат был вожаком контрреволюционного мятежа в Дунапатае; теперь этот братец согласно декрету об амнистии лиц, осужденных за совершение политических преступлений в период между 21 марта и 2 августа, вышел на свободу и якобы вновь становится важной персоной. Маклеры обсудили также манифестацию служащих муниципалитета, затем открытое выступление бывшего вицебургомистра Тивадара Боди против рабочего совета и наконец призыв министра внутренних дел положить конец влиянию политических партий в муниципалитете.
– Прежние советники уже приняли свои отделы, – заметил второй маклер.
Напоследок они обсудили репертуар театров и долго совещались, в какой театр пойти вечером: в Будапештском театре давали «Народоненавистник» (при этом слове маклеры поморщились), в Будайской студии – «Господа офицеры в женском монастыре», а в Театре Маргит – «Недотрогу»…
В это время в кофейню вошел согбенный маленький человечек в помятом сером костюме, осмотрелся, сел за первый столик в среднем ряду и заказал лимонад; тетушка Йолан, подавая лимонад, окинула его внимательным взглядом.
– Моя фамилия Штраус, – сказал человечек едва слышно, – я подожду.
Тетушка Йолан ушла в кухню, а маленький Штраус принялся спокойно потягивать лимонад, потом достал из кармана газету и стал читать, но то и дело поднимал глаза и поглядывал поверх газеты.
Первым покинул кофейню кровожадный помощник аптекаря, за ним ушли оба маклера; между тем парикмахер доверительно сообщил своему другу, что евреям еще предстоит хлебнуть горя, на что столяр, который не любил разговоров на эту тему, неопределенно пожал плечами, однако противоречить не стал.
Лингвист, увлеченный описанием чудодейственного копья Арджуны, позабыл обо всем на свете, лоб его покрылся испариной, и даже очки запотели; он снял их и, подслеповато щурясь, старательно протирал, а Штраус с жалостью смотрел на этого чудака не от мира сего.
Наконец расплатился и парикмахер и ушел вместе со столяром. Тогда Штраус поднялся и подошел к двери, ведущей в кухню.
– Получите с меня, – произнес он негромко.
– Семьдесят филлеров, – объявила тетушка Йолан и сделала рукой отрицательный жест, означавший, что посетитель ничего ей не должен. – Четвертый этаж, двенадцать, угловая квартира, стучать три раза, – сказала она затем.
Штраус попрощался и вышел. Некоторое время он шел в направлении площади Йожефа, но, дойдя до угла улицы Мерлег, вернулся, поднялся на четвертый этаж и трижды постучал в дверь. Чуть погодя дверь отворилась.
– Приготовьтесь, товарищ Эгето, – сказал Штраус, – мы отправляемся в В. Богдан ждет вас. – На губах его мелькнула еле уловимая улыбка.
– Наконец-то! – облегченно вздохнув, воскликнул Эгето. – А знаете, я уж ругался! Думал, вы никогда не придете, и жалел, что мы условились с вами вчера. Ведь я давным-давно мог бы быть там…
– Или в другом месте, – сказал, усмехаясь, Штраус.
Эгето схватил его за плечо.
Большие спокойные лошади, упрятав головы в торбы, надетые поверх окованных медью уздечек, крепкими желтыми зубами размалывали ячмень, перемешанный с кукурузой. Время от времени то тут, то там под кожей у них вздрагивали мышцы, и длинные хвосты хлопали по бокам, отгоняя назойливых мух. Широкая грузовая подвода стояла на углу улицы Балвань и улицы Яноша Араня, перед магазином «Оптовая торговля пряностями и бакалеей. Блиц и Браун», все еще являвшимся общественной собственностью. Полдень давно уже миновал; возчик, краснолицый крепкий старик в фартуке, выпачканном мукой, и в шляпе с отогнутыми впереди полями, какую обыкновенно носят грузчики, – ни дать ни взять бакалейный Наполеон, – мирно дремал на козлах.
Маленький Штраус тряхнул его за плечо.
– Будем грузиться, – сказал он. – Это Фери, подручный.
Эгето пожал возчику руку; тот узнал его и подмигнул.
– Вам в глаз соринка попала, что ли? – ворчливо осведомился Штраус.
Возчик в ответ только хмыкнул.
Штраус пошел в магазин с накладной. Эгето стало жарко, и, подумав, он сбросил с себя китель.
– Вы и вправду помогать хотите? – вытаращив глаза, спросил его возчик.
Эгето свернул китель, положил на сиденье, затем засучил рукава рубашки и влез на подводу.
Возчик не спускал с него глаз.
– Ладно! – бросил он наконец.
Затем вытащил из-под козел фартук, такой грубый, точно он был сделан из кожи, шляпу, какую носят грузчики, с отогнутыми по-наполеоновски полями, и протянул Эгето. Тот мгновение помедлил, затем решительно облачился в предложенную одежду.
– Не дай бог встретить этакого возницу! – воскликнул краснолицый старик с нескрываемым удовольствием. – Будь я городским таможенником, завидев вас, сразу бы смекнул: этот и мельничные жернова провезет контрабандой.
– А что, чудесный, чистый фартук! – отозвался Эгето. – И смазан хорошо, чтоб не скрипел!
Возчик почесался.
– Прошу прощения, сударь, – сказал он наконец и с видом благочестивого смирения опустил голову.
Почему-то приуныв, он поглядел на лошадей, уже опустошивших торбы, затем скосил глаза на Эгето и заморгал.
– Овес оплакиваете? – полюбопытствовал Эгето. – Не мешало бы напоить лошадей, а?
Возчик опять почесался и, не найдя, что ответить, лишь хмыкнул. А Эгето взял из-под козел ведро, с независимым видом вошел в магазин и немного погодя возвратился с ведром, полным воды. Он снял с лошадей пустые торбы; лошади жадно прильнули к воде, фыркая и сопя.
– Я тоже не намерен изнывать от жажды! – вдруг заявил возчик. – И чтоб лошади не смущались.
Он вытащил из своих пожитков флягу, сделал из нее большой глоток и протянул Эгето.
– Прошу на водопой! – сказал он и подмигнул.
Эгето понюхал флягу – в ней было вино. Он покачал головой.
– Благодарю, – проговорил он, возвращая флягу возчику.
– Мы же пьем в интересах лошадей, – принялся уговаривать его возчик. – Если у начальства пересохнет глотка, оно помрет от жажды. И вы и я!
– Я не помру, – возразил Эгето и хлопнул возчика по плечу. – И отведу ваших безутешных сироток домой в конюшню! – С этими словами он вновь направился в магазин.
Возчик разочарованно смотрел ему вслед.
– Твоя бита, – буркнул он себе под нос и слез с козел, чтобы взнуздать лошадей.
Эгето не скрывал своего нетерпения. А маленький Штраус не на шутку удивился, когда увидел его рядом. Эгето был готов немедленно приступить к погрузке, охваченный одним желанием: любым трудом, любым физическим усилием расслабить напряжение своих мыслей и нервов. И вот он уже на улице с мешком соли на плече, который ловко скинул на подводу.
– Свежая сила! – похвалил возчик.
Штраус стоял в дверях с накладной и наблюдал за погрузкой. Эгето и один из служащих магазина по очереди выносили товары: три мешка соли, мешок сладких рожков, два ящика с каким-то серым сахаром, несколько мешков ячневой крупы, являвшейся основным продуктом эпохи, спички, три мешка кукурузы, муку, два жестяных бидона с подсолнечным маслом. Следует заметить, что фирма «Марк Леваи и сыновья» была самым крупным предприятием по торговле пряностями и бакалейными товарами в городе В.