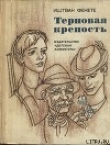Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
– Слыхал я, какой вы великий актер, – прищурившись, тихо произнес рядом с Эгето Надь. Очевидно, сестра рассказала ему об утренней встрече с сыщиками.
– Что за чертовщина? – послышался чей-то низкий голос. – Чтоб его холера взяла, этого однозубого пса!
– Холера пусть возьмет вас, коллега, – немедленно парировал хозяин собаки.
– Тс-с, – раздался третий, взволнованный голос. – Румыны! Всех с улицы гонят.
– Ну ладно, – уже примирительно сказал обладатель низкого голоса. – Но что здесь надо этому жирному кобелю? Ищет место, где бы блох половить? Ах ты бедняга безработный!
Хозяин собаки, человек в военной одежде с поразительно красными ушами, сморщив лоб, пытался придумать какой-нибудь колкий ответ; он с обиженным видом держал под мышкой старого, толстого, моргающего пса, к ошейнику которого вместо ремешка была привязана веревка, и сердился на то, что окружавшие его люди открыто смеялись над ним.
«Бессердечные люди!» – думал он.
– Пускай уж они шумят из-за собаки, – опять прозвучал тот же взволнованный голос. – Вот придут румыны… тогда не то будет.
– Зингер, оставь! – обратился к возмущенному хозяину собаки худенький человечек с капральскими знаками различия, державший за руку мальчугана.
Это были Лайош Дубак и его сын.
Во Всевенгерский союз торговых служащих они попали совершенно случайно.
После того как они выпили у Дубаков всю сливянку и Зингер добрых полчаса храпел, сидя на стуле, он проснулся и тоном, не терпящим возражений, предложил пройтись и немного проветрить головы, тем более что погода была прекрасная, солнечная. Слабый протест старухи Дубак не имел никакого успеха, и тогда она навязала им в попутчики Лайошку, тайком внушив ему, чтобы он ни на шаг не отставал от отца и Зингера.
– Очень уж у них красные уши! – объяснила старуха.
Они пошли по проспекту Андраши, держа путь к Городскому парку; впереди по-прежнему трусил однозубый пес Доди, за ним, держась за веревку и что-то мурлыча под нос, брел Зингер; подле него шествовал в общем-то трезвый Дубак, только сейчас он держал не кастрюлю с бараньим рагу, а ручонку своего сына. Проходя мимо магазина «Берци и Тот», Дубак сделался мрачным как туча – ему вспомнилось, что он сейчас безработный.
– Отцы, которые прогуливаются со своими детьми, никогда не унывают! – вдруг заявил Зингер. Этим он хотел оказать моральную поддержку своему несчастному другу.
Дубак с удивлением уставился на него, затем бросил взгляд на сына.
– Сейчас мы пойдем в наш союз, – строго сообщил Зингер, внезапно осененный блестящей идеей.
– Зачем? – полюбопытствовал Дубак.
– Затем, – заявил Зингер, – что ты сейчас, в конце-то концов, безработный торговый служащий, а не капрал!
Говорил он необычайно громко, чуть ли не кричал; он даже побагровел от натуги. Несколько прохожих в недоумении остановились, а пес вопросительно обернулся назад.
– А если я и безработный, – сказал Дубак, – зачем же об этом кричать на весь свет?
– Зачем? – победоносно запрокинув голову, опять завопил Зингер, которому во что бы то ни стало хотелось помочь другу. – В конце концов, мы в двадцатом веке живем или нет?!
– Ты что, спятил? – с тревогой осведомился Дубак.
– Пособия для безработных! – крикнул Зингер, ухватил Дубака за плечо и потащил за собой. – Там и насчет работы тоже! – добавил он уже не так громко.
Дубак лишь пожимал плечами, но не сопротивлялся; мальчуган тем временем придумал себе забаву – он пытался дотянуться языком до кончика носа и, скосив к переносице глаза, старался разглядеть, как у него это получается.
Так они добрались до ворот дома, где помещался союз торговых служащих и где слонялись люди, сплевывали шелуху подсолнуховых и тыквенных семечек и лениво переговаривались между собой.
– От вас, коллеги, как будто попахивает сливянкой? – с тоской спросил их старый безработный кладовщик, как только они приблизились.
– Вы находите? – с тонкой усмешкой осведомился Зингер, который не сразу сообразил, что ответить.
– Нахожу! – подтвердил старик.
– Странно, – сказал ехидно Зингер.
– Довольно странно! – как эхо, откликнулся старик.
В этот момент появился румынский патруль из десяти солдат, вооруженный винтовками с примкнутыми штыками, во главе с сержантом и капралом. Румыны были размещены в здании женской гимназии, которое находилось неподалеку; им не давало покоя то обстоятельство, что у дома профсоюза на улице Вёрёшмарти целый день толпятся люди, иногда собираются группами, а когда приближается время выдачи пособий по безработице, людей скапливается особенно много. Шедший мимо какой-то румынский капрал, независимый галацкий бакалейщик, жена которого прежде служила горничной у венгерского графа в Трансильвании, немного знал по-венгерски и выяснил, что здесь по сути дела происходят большевистские сборища. Убеждение его было подкреплено спором действительно политического характера, который происходил как раз перед прибытием Зингера с компанией между бывшим старшим приказчиком универсального магазина в комбинированных ботинках и приказчиком из лавки скобяных товаров, имевшим весьма потрепанный вид. Этот последний с грубоватым остроумием, пространно, в мельчайших подробностях проводил параллель между лысой головой министра внутренних дел Венгрии Кароя Пейера и ягодицами французского премьера Клемансо, достигшего преклонного возраста, которые, насколько было известно, отличались редкой краснотой; он утверждал, что если бы ту и другую часть выставили в витрине лавки мясника Брауха на углу улицы Шип и проспекта Ракоци, даже самая опытная хозяйка не сумела бы их различить.
Толпившиеся кругом безработные, и в первую очередь пожилой кладовщик, помешали чуть было не вспыхнувшей драке; тогда элегантный приказчик в ярости заявил: пускай-де кое-кто примет к сведению, что красных больше нет, – и немедленно удалился. Эти-то последние слова и достигли слуха шедшего мимо румынского капрала, а потом он услышал еще: «А красные французские ягодицы!» Этого было более чем достаточно! Через четверть часа нагрянул упомянутый выше патруль.
Начали румыны с того, что взяли в кольцо всех пешеходов и, понукая словом «hajde!»[18]18
Быстрей! (румынск.).
[Закрыть], – один бог знает, почему этим словом, – всех втолкнули в ворота. И разинувшего рот Дубака с сыном, и недоумевавшего Зингера с собакой. Этим, однако, румыны не ограничились. Они погнали всех вверх по лестнице, включая и случайных прохожих, даже двух кухарок, и подталкивали их винтовками, пока еще, правда, не слишком грубо. Даже не пнули в бок злобно лающего пса Доди. Впрочем, начавший уже протрезвляться Зингер своевременно сунул его под мышку и успокаивал что было сил.
В огромной приемной профсоюза яблоку негде было упасть. Там создалось настоящее столпотворение – служащие профсоюза, безработные, согнанные сюда случайные прохожие, кухарки – все стояли, тесно прижавшись друг к дружке, среди них находились и «эсперантисты». Взяв винтовки наперевес, трое солдат загородили выход. Плакала женщина, время от времени тявкал пес Доди, нашлись и такие, кто не стал молчать; старый рассыльный профсоюза дядюшка Граф протолкался к солдатам и, отчаянно жестикулируя, принялся разъяснять им положение на какой-то тарабарщине, представлявшей смесь ломаного словацкого языка – почему именно словацкого? – с немецким. Капрал в сопровождении двух солдат обошел комнаты и всех, кто в них оказался, выгнал в приемную, даже представительного мужчину в очках с золотой оправой, одного из деятелей социал-демократической партии, который с побагровевшим лицом протестовал против подобного насилия.
– Ты коммунист! – заявил капрал, и представительный мужчина очутился в приемной.
Там уже набралось не менее восьмидесяти человек.
– Как ваша печень, господин Ланг? – спросил Дубак, обнаружив зажатого в угол Эгето.
– «Какая печень?» – подумал Эгето.
Он слегка нахмурил лоб и тогда вспомнил этого человечка, соседа Фюшпёков, приходившего к ним в воскресенье вечером.
– Что вам сказали в госпитале? – продолжал допрашивать, правда вполне доброжелательно, Дубак. – Плохо дело?
– Да нет, ничего, – ответил Эгето.
– Мой боевой друг Зингер, – стал знакомить Дубак, – господин Ланг из Задунайского края. Откуда именно? – обратился он к Эгето.
– Из Кетхея, – ответил тот.
В дверях появился толстый старший сержант, и тотчас поднялся невероятный шум, несколько человек одновременно пытались ему что-то втолковать, какой-то человек слишком громко выражал свое недовольство; тогда румынский солдат схватил недовольного за отворот пиджака и толкнул назад в толпу. Старшему сержанту что-то объясняли сержант и капрал; толстяк покачал головой, немного подумал и пожал плечами. Сержант поднял руку.
– Тихо! – крикнул он зычно. – Эй, вы, коммунисты, пошли в комендатуру!
Он сделал знак солдатам, и те, крича и ругаясь, погнали людей за дверь; всех без исключения. Те, кто пускался в длительные объяснения, медлил, протестовал или причитал, расплачивались за это, получая удар прикладом по спине; досталось жившей в этом же доме пожилой преподавательнице гимнастики, тугоухому приказчику из мебельного магазина с площади Телеки, яростно выражавшему свое недовольство социал-демократическому деятелю, то и дело пытавшемуся повлиять на старшего сержанта, да еще такими словами: «Генерал Мардареску – демократ!» – но безуспешно.
Наконец всех увели, у открытых дверей остались часовые– два солдата с винтовками. Помещение союза опустело. Посредине просторной приемной сиротливо валялась тыква, которую в давке выронила из кошелки задержанная кухарка.
– Что теперь будет? – спросил у Эгето Надь, когда они спускались по лестнице – впереди румынские солдаты, за ними толпа, а сзади опять солдаты, угрожающе поднимавшие приклады, если кто-нибудь отставал.
– Теперь будет то, коллега, – ответил за Эгето человек в очках с золотой оправой, вытирая лоб, – что мы опять пострадаем из-за большевиков!
С губ Надя уже готов был сорваться резкий ответ, но Эгето коснулся его руки.
– Бедный пес тоже? – вдруг спросил Зингер.
– Отстаньте, вы, скотина! – огрызнулся человек в золотых очках и в негодовании отвернулся.
– Если я скотина, не остался в долгу Зингер, – то вы очкастая селедка! Не толкайтесь, а то…
Конец перебранке положил румынский солдат, поднявший приклад; оба спорщика тотчас втянули головы в плечи.
Арестованных, когда они вышли на улицу, взяли в кольцо, слева и справа шли по пять солдат с винтовками наперевес. Прохожие при виде этой процессии поглядывали на нее лишь мельком, не отваживаясь остановиться из страха перед вооруженными конвоирами.
– Ведут убийц президента Академии, бедного Альберта Берзевици! – сообщил совсем дряхлый господин, профессор Будапештского университета и член-корреспондент Венгерской Академии наук, специалист в области угро-финского сравнительного языкознания.
– Берзевици жив, – уточнил шедший рядом с профессором коллега, – просто красные несколько дней держали его под арестом.
– Все равно ведут убийц, – упрямо не сдавался дряхлый профессор. – Вы только взгляните, что за уголовные рожи! – И он ткнул пальцем в шагавшего крайним Дубака, у которого был очень горестный вид.
– С ним ребенок! – заметил коллега.
– И что же? – возразил специалист по угро-финскому языкознанию. – Мы уже слышали о таких вещах! Эти коммунисты способны на что угодно!
На проспекте Андраши процессия завернула в ворота женской гимназии; их провели через уютный двор, посыпанный гравием, и втолкнули в стоявшее обособленно одноэтажное строение, правое крыло которого занимал большой гимнастический зал. Дверь за ними заперли. В течение довольно-таки продолжительного времени никому на всем свете не было до них ровно никакого дела. Снаружи уже наплывали вечерние сумерки, несколько перепуганных женщин тихо всхлипывали, хозяин писчебумажного магазина на проспекте Андраши, у которого дел было по горло, выходил из себя от возмущения. Он просто шел мимо по улице Вёрёшмарти, и сейчас в магазине, который вопреки опасениям своей супруги ему взбрело в голову открыть в этот день, остался один ученик. Этот несчастный взъерошенный человек саженными шагами мерил большой гимнастический зал и каждый раз, достигнув стены, произносил одни и те же слова:
– Ведь я владелец писчебумажного магазина, господа!
Старый кладовщик четырежды объяснял ему, что румынам на это наплевать.
Некоторое время люди стояли посреди зала, затем постепенно разбились на небольшие группы. Одни уселись на пол вдоль шведской стенки, другие пристроились на обитых кожей конях, третьи разместились на нескольких обнаруженных скамейках; уже совсем смерилось, от этого на сердце стало еще тяжелее.
Лайошку привлекли гимнастические кольца; он ловко подтянулся, просунул ноги в кольца и принялся раскачиваться; он был даже рад выпавшему на его долю забавному приключению, и у Дубака старшего не хватило решимости приказать мальчугану слезть с колец, хотя кое-кто из невесело настроенных людей явно сердился, а одна пожилая женщина заявила, что такая забава определенно к добру не приведет. Старый пес Доди вдруг сделал несколько шагов и, принюхавшись, заковылял в самый темный угол; Зингер сразу сообразил, что сие означает, и заслонил собой пса в то время, как тот, поразмыслив, исправно сделал свое дело так, что никто ничего не заметил. Стало совсем темно.
Эгето и седовласый инженер перемолвились в темноте несколькими словами.
– Удивительно нелепая случайность, – сказал инженер тихо, – они же наугад… – Он усмехнулся и замолчал.
Из истории рабочего движения оба прекрасно знали, что зачастую наугад начавшаяся операция, кажущаяся на первый взгляд простой случайностью, становилась отправной точкой целой серии серьезных провалов.
– Они по-венгерски не понимают, – сказал Эгето, – и в этой неразберихе хватают без разбора!.. Да и чего можно ожидать от этих солдафонов!
– Так-то! – помолчав, сказал инженер и положил руку на плечо Эгето.
Затем они обменялись рукопожатием – что тут много говорить! – и разошлись по своим местам. Эгето уселся на пол у шведской стенки между Дубаком и Надем, а инженер устроился на скамье поблизости от окна. Какая-то женщина продолжала всхлипывать в темноте, Лайошка упрямо качался на кольцах, словно канарейка в клетке или, скорее всего, как летучая мышь.
– Да, – сказал Дубак, – тяжелая жизнь, сударь! Этим-то что надо от нас? Выходит, снова плен.
– Не горюй, Лайош! – тихо сказал Зингер, сидевший с другой стороны; у него на коленях дремал пес, и Зингер почесывал ему за ухом; пес, должно быть, видел сны – он тихо скулил.
– Наверно, снится кошка, – словно про себя, заметил Зингер. Затем опять обратился к приятелю: – Они нас отпустят! Им и невдомек, кто мы и что мы, они знают только одно: hajde!
– Венгерский народ! – прозвучал в темноте чей-то голос. – С ним всегда так обращались! Целое тысячелетие только и слышно: «Hajde!»
– С румынским народом… – отозвался другой голос, – и с ним тоже… да и с любым народом…
Воцарилась глубокая тишина.
– Будьте добры, оставьте политику, – раздался третий голос. – Нам хватает забот и так!
За стенами помещения, где-то на проспекте Андраши, должно быть, зажглись фонари – на дворе замерцал слабый свет, и этот равномерно рассеивающийся скудный свет просочился сквозь сумрачные окна гимнастического зала; фигуры людей, сидевших внутри, сливались с тьмой; различались лишь их мертвенно-бледные лица и руки.
«Как много здесь черепов и костлявых рук!» – подумал Лайошка, сидевший в кольцах; содрогнувшись от примерещившихся ему видений, он закрыл и снова открыл глаза.
Люди, словно большие сказочные птицы в полузабытье, нахохлившись, сидели в потемках. Худенький, уже с опустевшим желудком, как два дня назад, когда он возвращался из плена, и безразличный ко всему на свете, как не раз бывало с июля 1914 года, сидел Лайош Дубак. Многие в то время просто утратили способность по-настоящему бояться и надеяться, пережив пятьдесят один месяц мировой войны, нужду в самых необходимых, элементарных вещах, две революции, внешнюю и внутреннюю борьбу, а сейчас живя среди грозного скрипа пришедшего в движение контрреволюционного механизма. Эти нахохлившиеся люди оказались в атмосфере, насыщенной всевозможными толками, паническими слухами, их окружали хаос и мрак. Среди этих по воле слепого случая собранных вместе людей было очень мало таких, кто в потоке несущихся с пугающей стремительностью событий обладал правильным политическим сознанием и мог без обывательской трусости смотреть в будущее.
– Может быть, наступит мир! – сказал кто-то.
– Мир? – удивился другой.
В тишине слышались чьи-то рыдания.
– Мне шестьдесят лет, – раздался голос старого кладовщика. – С тех пор как я живу, все время были войны! Пруссия воевала против Австрии, Австрия за какие-то территории против Италии, потом пруссаки и австрийцы объединились против Дании. Русский царь тоже не мог усидеть на месте, он воевал против Англии, Турции, Франции и Японии – один грабитель шел на другого. А французы разве стеснялись? Они воевали со всеми подряд: с Мексикой, с Китаем, с Россией, с Австрией. Они хотели продать Австрию Пруссии, а Италию Австрии, а пруссаку сказали: давай двинемся вместе грабить Бельгию и Люксембург. Да вот перегрызлись. Отец небесный, и чего только не было на Балканах с июня тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, когда я появился на свет! Может, все из-за турок, я не знаю. Потом мы отняли у Сербии Боснию и Герцеговину, хотели раздавить всю Сербию. Итальянец бросился на Абиссинию и Турцию – это был чистый грабеж. Нет, мира никогда не было. А от войн, которые вели англичане, голова может пойти кругом! Англичане воевали тоже чуть не со всеми подряд: с Россией, Австрией, Турцией, Германией, Китаем, с бурами, Египтом, Персией, Суданом. Да и американцы воевали порядком. А сколько было в мире насилий, кровавых расправ: армянская резня, еврейские погромы, линчевание негров, издевательства над македонцами, выкуривание арабов из Марокко, свирепое подавление боксерского восстания в Китае. А они еще говорят – мир! Вот в какое прекрасное мирное время я жил! Но все это были детские забавы, кустарщина, по сравнению с войной четырнадцатого года, охватившей весь мир.
Старик умолк. Его собеседник, сидевший в углу, негромко сказал что-то.
– Ну да! – снова заговорил старик. – Для того меня мать и родила. Черт его знает, что за мир, кто против кого и за что!
Наступила небольшая пауза.
– Все против бедняков! – прозвучал третий голос, и тогда воцарилась гробовая тишина.
– Пожалуйста, прошу вас, оставьте политику! – взмолился владелец писчебумажного магазина с проспекта Андраши.
Тут снаружи раздались шаги и стук грубых солдатских башмаков, в замке повернулся ключ, дверь отворилась, щелкнул выключатель, и яркий свет разлился по гимнастическому залу. Люди, щурясь от света, с трудом приподнимались со своих мест, у женщин были растрепанные волосы, заплаканные глаза; костюмы на мужчинах при ярком освещении выглядели особенно помятыми и изношенными в сравнении с отутюженными мундирами румынских солдат. Среди арестованных, разумеется, были и хорошо одетые люди – приказчики универсальных магазинов, владелец писчебумажного магазина, социал-демократический деятель, какой-то черноусый человек и даже двое «эсперантистов»; но у других внезапно вспыхнувший свет обнажил стыдливо прикрытую нищету: выступили наружу лоснящиеся локти, бахрома на брюках, посветлевшие швы, изношенная материя, мнущаяся бумажная и бязевая ткань, о чем свидетельствовали предательские складки на коленях и локтях.
– А этот? – спросил вошедший старший лейтенант.
Нахмурив лоб, он указал на Лайошку Дубака, тихонько сидевшего на кольцах над головами арестованных. Старший лейтенант стоял перед воздушным гимнастом и смотрел на него. Толстый старший сержант щелкнул каблуками и что-то ответил, затем, насупив брови, взглянул на сержанта. Тот тоже щелкнул каблуками, тоже что-то сказал и сдвинул брови. Затем посмотрел на капрала, говорившего по-венгерски. Последний не пошевелился и счел для себя самым благоразумным не смотреть по сторонам – у него не оказалось поблизости подчиненного!
– Прекрасно! – сказал старший лейтенант. – Сколько лет этому… большевику? – обратился он с ядовитой иронией к старшему сержанту.
У старшего лейтенанта были на редкость черные волосы, а под мундир он, без сомнения, надевал корсет, ибо решительно ни один потомок Адама не мог бы стоять, держа так прямо спину, так выпятив грудь и так втянув живот; даже на обложке популярной книги, носящей название «Биографии знаменитых борцов», не увидишь такого.
– Прекрасно! – повторил все с тем же сарказмом старший лейтенант, похлопывая стеком по желтым шнурованным сапогам. – Посмотрим что вы тут настряпали!
Он и без того был зол. Еще час назад должен был явиться переводчик, младший лейтенант Василеану, но его не было до сих пор. А эти восемьдесят человек свалились на старшего лейтенанта, словно снег на голову. Районная комендатура, которой он доложил обо всем по телефону, заявила, что ей до этого нет никакого дела. Более того! Это компетенция органов охраны общественного порядка. Соблаговолите обратиться или в жандармерию, или в сыскную полицию.
– Вам бы, господин старший лейтенант, следовало знать, – со злорадством объяснил ему в приватном порядке какой-то капитан-доброжелатель, – вы как войсковая часть лишь в случае поимки с поличным имеете право…
«Вот так история!» – подумал старший лейтенант.
Он стал разглядывать арестованных, размышляя над этой «поимкой с поличным», и совсем не по-военному почесывал затылок. На мгновение взгляд его задержался на юноше в косоворотке, затем скользнул по многообещающей фигуре Лайоша Дубака, украшенного капральскими звездочками и малой серебряной медалью, потом по кухарке, всхлипывающей над кошелкой с овощами, которая висела у нее на руке, и наконец его взгляд упал на Зингера, с глупой улыбкой державшего под мышкой собаку. Физиономия старшего лейтенанта сделалась постной.
«Черт его разберет!» – подумал он и вдруг рявкнул на капрала, понимавшего по-венгерски:
– Кто они?! Кто эти чучела гороховые?!
– Да, так… – забормотал капрал без уверенности. – Большевики.
Неожиданно и непрошено выступили вперед два человека, одним из которых оказался седой как лунь старичок – рассыльный профсоюза дядюшка Граф; этот поборник справедливости вновь принялся что-то объяснять на тарабарщине, представлявшей смесь немецкого и словацкого языков.
– Что он говорит? – спросил старший лейтенант.
– Я не понимаю, – в отчаяний признался капрал, – ни слова не понимаю, господин старший лейтенант.
– Идиот! – выругался старший лейтенант. – Даже этого не понимаешь? – И он отвернулся от капрала.
Второй из непрошеных адвокатов был социал-демократический деятель, в очках с золотой оправой.
– Добрый вечер, господин старший лейтенант, – обратился он к капралу, кивком головы указывая на старшего лейтенанта, но продолжая смотреть на капрала. – Прошу ему передать, что я, как старый…
– Что он говорит? – нетерпеливо спросил старший лейтенант.
– Эта скотина цивильный говорит, что я старший лейтенант! – перевел капрал.
– И что же?
– Он приветствует!
– Приветствует? – ядовито переспросил старший лейтенант.
– Мы убеждены в том, – взвешивая каждое слово, продолжал человек в золотых очках, – что такт, свойственный румынской королевской армии, подскажет ей разницу…
– А сейчас что он говорит?
– Что мы солдаты!
Старший лейтенант переводил взгляд с переводчика на человека в золотых очках; вся эта затея нравилась ему все меньше и меньше.
«Этот еще больший дурак, чем тот», – подумал он и вздохнул. Хоть бы переводчик явился.
– Прошу вас… – еще более расхрабрившись, продолжал человек в золотых очках. – Большинство из задержанных невиновно! – Он описал рукой полукруг. – Я, например, как старый социал-демократ, еще в семнадцатом году выступал против большевиков, когда Ленин…
– Ага! – насторожился старший лейтенант. – Это уже посерьезнее! Что он говорит?
– Подстрекает! Признается в том, что социалист! – с облегчением сообщил капрал. – Защищает Ленина! – добавил он совсем решительно.
– Насчет Ленина я тоже слышал! – подтвердил толстяк, старший сержант.
Старший лейтенант, однако, не доверял переводчику.
– Социалист? – спросил он человека в золотых очках, ткнув указательным пальцем в его галстук.
Человек в золотых очках кивнул.
– Социалист-демократ! – повторил он несколько раз и ударил себя кулаком в грудь.
Не рассчитав силу собственного удара, он закашлялся.
– В таком случае – молчать! – И старший лейтенант повернулся к унтер-офицерам. – Вы болваны! Так дальше не пойдет! Немедленно разыскать младшего лейтенанта Василеану!
Сержант тотчас же ринулся выполнять приказ, а старший лейтенант огляделся, что-то сказал еще, затем в сопровождении старшего сержанта, капрала и двух солдат перешел в соседнее помещение, представлявшее собой просторную гардеробную со скамьями и шкафами для гимназисток. Были там еще письменный стол и деревянный топчан. В зале поднялась какая-то возня. Капрал вошел опять, широко расставив ноги, остановился у двери и ткнул пальцем в человека в золотых очках.
– Вы! – сказал он.
– Я? – с надеждой спросил тот.
– Вы! – сказал капрал. – Катитесь!
– О, пожалуйста! – человек в золотых очках расцвел улыбкой и направился к выходу.
– Сюда! – гаркнул капрал. – Катитесь сюда, ко мне! Слышите? – И он сделал рукой приглашающий жест.
Арестованные в напряжении наблюдали эту сцену. Человек в золотых очках нерешительно подошел к капралу, кланяясь на каждом шагу и растерянно улыбаясь.
– Марш сюда! – скомандовал капрал, схватил человека в золотых очках за плечо и втащил в помещение гардеробной. Что происходило за дверью, этого точно сказать нельзя, достоверным оставался лишь тот факт, что минуты две прошли в относительной тишине.
– Ему наверняка выдадут пропуск и отпустят, – предположил тугоухий приказчик из магазина подержанной мебели с площади Телеки.
В этот момент из гардеробной донесся короткий крик, в котором в равной мере смешались ярость и возмущение, горестное изумление, душевная мука и острая физическая боль. Лайошка меньше чем за одну минуту насчитал десять таких, через равные промежутки следовавших звуков, которые в конце концов слились в один душераздирающий вопль. Затем наступила тишина.
– Господин Зингер, – спросил со своих колец Лайошка, – за что бьют там этого господина?
– Не будем в это вникать, сынок, – поспешно ответил Зингер.
В это время появился человек в золотых очках. Лицо его было искажено и приобрело багровый оттенок, губы тряслись от обиды, он жадно хватал ртом воздух, напоминая задыхающегося в лохани карпа. Очки в золотой оправе сползли на кончик носа. Опустив глаза, он шел к скамье, с которой незадолго до этого поднялся себе на погибель.
– Бедненький сударь, прошу вас, садитесь! – жалостливо проговорила кухарка, потерявшая при аресте тыкву.
– Не-ет, – отказался человек в золотых очках и, надувшись, ощупал себя сзади.
– Они секут розгами! – проговорил кто-то тихо. – Они просто…
Воцарилось глубокое молчание.
Человек в золотых очках сначала сопел, а затем из глаз его хлынули слезы и потекли по носу.
– Я… я… – начал он и осекся.
Из гардеробной вновь вышли капрал, понимающий по-венгерски, и толстяк старший сержант.
– Звери! – хрипло бросил Надь и, не отдавая себе отчета в своих действиях, рванулся вперед.
Эгето схватил его за руку. Надь повернулся к нему, глаза его налились кровью.
– Оставьте, – пробормотал он.
– Думаете, мне нравится? – шепнул ему Эгето.
Надь пожал плечами. Эгето наклонился к его уху.
– Вы же почтенный, благонадежный эсперантист!
Надь лишь метнул на него бешеный взгляд. А Эгето сказал:
– Нельзя нам лезть на рожон.
Надь наконец улыбнулся.
– Что за разговорчики! – крикнул капрал, обладавший острым слухом, и посмотрел в их сторону. Взгляд его становился все более колючим. Он подошел к ним.
– Вы! – сказал он, уставившись на Эгето. – Кто такой?
– Бакалейщик, – не спеша произнес Эгето, – приказчик…
– Бакалейщик? – переспросил капрал. – Мука, сахар? Кулечек?
Эгето кивнул. Капрал помолчал.
– Я тоже, – наконец сказал он и, отойдя от него, уже через плечо бросил: – В Галаце.
Он проследовал дальше. Со скучающим видом он оглядывал арестованных. Вокруг царила мертвая тишина. Не слышно было даже жужжания мухи. Человек в золотых очках, объятый ужасом, перестал ловить ртом воздух.
Капрал поглядывал из-под насупленных бровей. Те, на кого падал его взгляд, в конце концов опускали глаза. Какой-то слабонервный приказчик из магазина дамской галантереи под его взглядом побелел как полотно.
– Что пялишься? – спросил капрал у девушки.
Она продолжала смотреть на него и не отвечала. Если бы это зависело только от бакалейщика из Галаца, то, может быть, студентку философского факультета с гладко зачесанными волосами постигла участь человека в золотых очках. Но старший сержант что-то сказал ему по-румынски, и они пошли дальше.
– А-а! – произнес вдруг старший сержант, останавливаясь перед Зингером и Дубаком. – А-а! – повторил он тоном, в котором звучала насмешка, и стал бесцеремонно их разглядывать.
Лайошка тихонько сполз с колец и пробрался к отцу. Он ухватился за полу его кителя. Они стояли, словно скульптурная группа: посредине двое взрослых – Зингер и Дубак с красными ушами, слева – жирный пес, справа – худенький мальчик.
– Вы! – в гробовой тишине прозвучал голос капрала.
– Чего изволите? – сказал Зингер.
Пес тявкнул.
– Собаке молчать! Вы кто? – ткнул капрал в Дубака старшего. – Военная личность?
Дубак щелкнул каблуками и блистательно доложил, что он тоже капрал. И этим себя погубил. Румын повернулся, подал знак указательным пальцем, и Дубак покорно поплелся за ним к дверям гардеробной. Даже не заикнувшись, с ничего не выражавшей бараньей физиономией. Следом за отцом, не выпуская его кителя, шел мальчик. Они подошли к двери.
– Чей мальчонка? – спросил капрал. – Твой?
– Мой, – медленно произнес Дубак и кивнул.
Капрал колебался.
– Черт! – выругался он. – Погань! Живо назад! Красный сброд!
Тут Дубак погубил себя вторично. Он просто не понял того, чего хочет добрый капрал. Он решил, что приказ относится только к ребенку. И вздохнул.
– Ты останься, – обратился он к сыну. – Я сейчас вернусь.
Твердо веруя в торжество справедливости, он скрылся за дверью гардеробной. Румынский капрал сперва оторопел, затем пожал плечами и просто отошел в сторону с пути неумолимого рока. Впрочем, в хаосе накапливающихся событий его вера в свое знание венгерского языка сильно пошатнулась; он не посмел выяснить это новое недоразумение в гардеробной, ибо трусливо полагал, что его переводческой карьере может грозить непосредственная опасность.