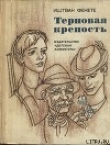Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Все это в далеком-далеком прошлом, а сейчас – какая изнурительная жара! По бульвару полицейские вели обоих «сандвичей» – должно быть, пристроились, бедняги, к какой-нибудь демонстрации и вот плетутся с разбитыми носами, с кислыми физиономиями, и разорванные половинки афиш болтаются у них на груди и спине: «Театр ла Скала…» Люди смотрели на это шествие и хохотали.
– Ведут белых террористов! – язвительно заметил какой-то рабочий.
Надо полагать, ирония, скорее всего, относилась к вспотевшим полицейским с надутыми красными физиономиями.
До вечера было еще далеко, стоял жаркий летний день. В Доме профсоюза печатников люди сидели в большом читальном зале, однако никто не читал, собравшиеся тихо обсуждали события; лишь в одном углу четверо молодых людей за двумя досками сосредоточенно играли в шах-маты. Эгето поздоровался; кое-кто взглянул на него и безразлично кивнул в ответ, но один человек решительно поднялся с места и подошел к нему.
– Добрый день, товарищ Эгето, – сказал он серьезно.
Толстяк – технорук из типографии Толнаи, по фамилии Винцеи, – сделал вид, будто вовсе не заметил прихода Эгето и что-то проворчал себе в усы. Один из шахматистов приветливо махнул Эгето рукой и вновь углубился в игру.
Эгето и подошедший к нему человек стояли у отворенного окна, из которого была видна афиша кинотеатра «Омниа»: «Андра Ферн. Раскрашенный мир». Внизу собирались дневные кинозрители.
– У вас тоже? – тихо спросил человек у Эгето. Он был наборщик, и звали его Берталан Надь.
Эгето кивнул.
– Паршивые собаки! – сказал Надь, и глаза его сверкнули. – Им даже слабого ветерка довольно… а может, они с самого начала выжидали момент, когда можно будет предать.
В помещении не слышно было ни звука.
– Румыны уже на окраине города, – прозвучал чей-то голос за длинным зеленым столом. – Что поделаешь…
– Как это, что поделаешь? – отозвался пожилой буквоотливщик. – Перво-наперво нас обезоружили, ну а белым… – И он ударил кулаком по столу.
Два человека встали и подошли к Эгето. Их лица были угрюмы.
– Что нового в В.? – спросил один.
Эгето опустил голову.
– Что нового? – проговорил он глухо. – Об этом вы у товарища Пейдла спросите да на улице Тарнок и на улице Дороттья.
– Но румыны… что поделаешь… – вновь прозвучал тот же голос.
– А почему у полицейских оружие? Откуда оно у них? – спросил буквоотливщик. – Контрреволюционные собаки!
Воцарилась глубокая тишина.
– Хватит большевистской болтовни! – вдруг окрысился толстый технорук. – Вот что принесла нам эта болтовня… – Он встал, за ним поднялись еще двое.
– Коллеги, – примирительно сказал сухопарый метранпаж, – не будем заниматься политикой в такое смутное время…
Заявление это сперва было встречено молчанием; все, кто был в комнате и слышал его слова, словно онемели, но через миг поднялся оглушительный рев, люди кричали, их лица побагровели.
– Вот как! – взвился над ревом насмешливый голос Эгето. – Вот как! Скажите-ка это белым!
– Пошли, – буркнул толстый технорук. Он и еще два человека направились к выходу. На несколько секунд они задержались возле группы мужчин, собравшихся вокруг Эгето, и посмотрели на них в упор. Нависла такая напряженная, грозная тишина, что каждый чувствовал: что-то сейчас произойдет. На лбу толстого технорука вздулись вены.
– Убийцы, – прошипел он и сплюнул.
В то же мгновение наборщик Надь размахнулся, прозвучала звонкая пощечина. Технорук взвыл и схватился за стул, на его багровой от прилившей крови физиономии четко выделялся белый след пощечины. Несколько мужчин тут же рванулись вперед и встали между ними; секунда – и трое уже крепко держали наборщика, а трое других – толстого технорука, хрипящего и скрежещущего зубами от бешенства. Потом обоих отпустили, и толстяк со своими приятелями пошел к выходу. Но в дверях он обернулся и посмотрел на оставшихся налитыми кровью глазами.
– Вот вам и рабочее единство! – иронически заметил сухопарый метранпаж, державшийся особняком.
– С предателями? – спросил буквоотливщик.
Метранпаж промолчал.
В это время вошел комендант дома. Он посмотрел на стол и на стулья, стоявшие в беспорядке, но на людей взглянуть не решался.
– Прошу вас, товарищи, – заговорил он негромко, – прошу вас, освободите зал. Нам следует избегать любой провокации… – добавил он виновато.
– А вы позвоните Пейдлу, – тотчас раздался чей-то насмешливый голос.
– Нас уже из собственного профсоюза выгоняют! – проговорил старый буквоотливщик, и усы его воинственно ощетинились. – Вот до чего мы дожили!
– Позор! – воскликнул Надь.
Комендант развел руками и вышел. В читальном зале наступила тишина. Несколько человек уселись за зеленый стол и принялись демонстративно читать газеты. Два шахматиста с очень мрачными лицами продолжали прерванную партию. Два других шахматиста некоторое время слонялись из угла в угол, затем, что-то пробормотав, не прощаясь и не глядя на других, выскользнули за дверь.
– По крайней мере воздух стал чище, – сказал старый буквоотливщик.
Сидевшие за столом переглянулись. Кто-то засмеялся, но смех этот был невеселый.
– Ушли пятеро, – после длительного молчания констатировал Надь и с горечью засмеялся. – Скатертью дорога! А восемь работяг остались.
– Пролетарское большинство… – добавил Эгето. Он сказал это совсем просто, без всякого пафоса.
Со стен, выкрашенных в темный цвет, на людей взирали портреты прежних председателей и секретарей этого старейшего венгерского профсоюза.
Было уже далеко за шесть вечера, когда Ференц Эгето и Берталан Надь покинули здание профсоюза и вышли на улицу. Эгето страшно устал, глаза его горели от бессонницы. Больше всего на свете ему хотелось сейчас лечь и долго, очень долго спать. Кромка неба на западе сделалась багряной, солнце ушло за будайские горы и посылало оттуда последние лучи, но сумерки еще не спустились. Был час ослепительного солнечного заката, который в этом большом городе бывал еще красивей, чем восход, чем занимающаяся заря. Солнечный закат… На бульварах полным-полно гуляющей публики, террасы кафе, декорированные искусственными пальмами, до отказа набиты посетителями: толстые дядюшки в люстриновых пиджаках, украшенных часовой цепочкой, и в панамах и тетушки мещанского обличья в широкополых шляпах, увитых цветами черешни, пили суррогатный кофе и поглощали неисчислимое количество воды, которую официант неутомимо подносил им.
Демонстрантов теперь уже не было видно. Не более часа на улице будет еще светло, а потом на город спустится вечер, и с ним придет время закрытия всех заведений. Улицы опустеют; угаснет день, и в наступившей тьме сольется с вечностью воспоминание об этом летнем воскресенье.
Части румынской армии, как стало известно из достоверных источников, достигли окраины города, где их встретила с поднятым белым флагом машина военного министра Хаубриха и бургомистра Харрера; командующий румынской армией заявил, что не имеет приказа о вступлении в Будапешт. В конце шоссе, ведущего из Юллё, румынское командование облюбовало для своих частей кавалерийскую казарму; прошел слух, что даже в том случае, если кто-либо из офицеров румынской армии и войдет в город, то посещение это надлежит расценивать лишь как визит гостя.
– За все это следует благодарить Романелли! – с жаром утверждали дядюшки, сидевшие на террасах кафе. – Антанта ни в коем случае не бросит нас на произвол судьбы, и особенно сейчас, когда у нас воцарилась точно такая же демократия, как на Западе.
– Официант, воды!
Особенным доверием они почему-то почтили Ллойд Джорджа.
– Ночевать можете у меня, – вдруг обратился к Эгето Надь. – Правда, у нас тесновато, больна мама, но…
– Я ухожу, – ответил Эгето.
– Как? – удивился Надь.
– Я возвращусь в В.
– Вас прикончат, – раздельно проговорил Надь.
Эгето молчал.
– Скажите, – спустя некоторое время снова заговорил Надь, – кто вас там ждет?
– Должно быть, никто, – задумчиво ответил Эгето.
Они брели по бульвару, пробираясь сквозь водоворот воскресной толпы. Из кинематографа хлынул новый поток публики, и люди щурились от яркого света и лениво протирали глаза. В начале бульвара Йожефа с четырехэтажного здания Дома печати снимали исхлестанный дождями, полинявший плакат, который висел там с 23 марта.
КРАСНАЯ ГАЗЕТА
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
На значительной высоте перед фасадом дома, стоя на мостике, подвешенном на канатах, двое рабочих вращали ручную настенную лебедку и медленно спускались вниз.
– Ишь как торопятся, – негромко сказал Надь, и на висках его вздулись вены.
– Даже в воскресенье! – воскликнул, схватив его за руку, Эгето.
У кафе «Эмке» несколько солдат-инвалидов – один слепой, а другие на костылях – продавали сигареты. Когда Надь и Эгето вышли на проспект Андраши, солнце уже давно провалилось за Буду. Смеркалось. Надь проводил Эгето до Западного вокзала.
– Улица Нап, семнадцать, третий этаж, пять, – сказал он на прощанье и, пожав Эгето руку, расстался с ним.
Постояв на углу перед Западным вокзалом, Надь еще некоторое время смотрел вслед человеку в военном кителе; на конечной станции трамваев, идущих в В., к моторному прицепляли запасной открытый вагон. На углу улицы Кадар китель серого цвета растворился в вечерней мгле…
Один, с тяжелым сердцем, брел назад, к улице Подманицкого, наборщик Берталан Надь, а в ушах его все еще звенел голос Ференца Эгето и звучали слова, произнесенные им менее десяти минут назад: «Мы не можем знать точно, что еще будет… Что вы злитесь? Помалкивайте и держите злость при себе… Почему вы думаете, что это конец?» И затем после короткой паузы: «Борьба, как видно, вступила в новую фазу». Надь помнил даже его взгляд и сжатые губы, когда Эгето после этих слов уже упрямо молчал вплоть до минуты прощанья.
…На углу улицы Кадар люди дожидались трамвая; ожидавших было много, а сумерки все сгущались и мрак становился плотнее. Целые семьи, днем понаехавшие в столицу, чтобы побывать у родственников, сходить в кино или погулять в Городском парке, теперь возвращались домой; матери держали на руках дремлющих малюток, отцы, облаченные в воскресные костюмы, сжимали ладошки сонных девчушек. Здесь же стояли молодые парочки, и среди них одинокий юноша. Конечную трамвайную станцию освещала одна-единственная электрическая лампочка, висевшая на проволоке перед, будкой диспетчера, расположенной вблизи ресторана «Штурм». Из будки вышел диспетчер в фуражке, украшенной серебряным позументом и эмблемой трамвайщиков, изображающей колесо с крылья-ми. Фуражку он сдвинул с потного лба назад, во рту держал свисток и наблюдал за маневрами трамваев и перестановкой прицепных вагонов, лязгавших буферами и сцеплениями.
Эгето остановился чуть поодаль и, прислонясь к стене дома, в сгущавшихся сумерках смотрел на людей, ожидавших трамвая. Почти рядом с ним, прижавшись к спущенной железной ставне какой-то лавки, стоял маленький человечек, седой и очень сутулый.
Когда они заметили друг друга, человечек от неожиданности вздрогнул.
– Эгето, – произнес он едва слышно.
– Как вы попали сюда, дядюшка Штраус?
– Я был у дочери, – не повышая голоса, ответил старик Штраус.
Трамвай с литерой «А» уже готов был к отправлению. Через окна без стекол на мостовую падал тусклый свет ламп. Водитель дал звонок, вздохнул пневматический тормоз. Эгето сделал шаг вперед, но седой человечек схватил его за руку.
– Погодите, – пробормотал он. – Поедете следующим.
Трамвай позвонил еще раз и ушел.
– Вообще зачем вам ехать? – сказал старик Штраус тихо. – Чего вы там не видели?
Эгето вскинул голову, тщетно пытаясь разобрать во мраке выражение лица седого человечка – наплывающий вечер смывал все черты.
– Я не был у дочери, – сказал тогда старик Штраус. – Я караулю здесь с пяти часов вечера. Меня послал Богдан. Давайте дойдем до угла пешком. Больше я ждать не буду.
Они пошли вниз по Вацскому шоссе. Некоторое время оба молчали.
– Вы третий, – нарушил молчаний старик Штраус.
– Третий? – переспросил, не поняв, Эгето.
– Трамваем ехать нельзя ни в коем случае, – сказал старик Штраус. – Высадят наверняка. Мурна тоже высадили и для начала отвели в муниципалитет. Это случилось в три часа дня, и тогда Богдан послал меня сюда. С пяти часов вы уже третий товарищ, кто пришел на остановку и хотел уехать трамваем.
– Значит, пешком? – проговорил Эгето без энтузиазма. – Прекрасная прогулка – часа на полтора!
– Что же делать! – сказал старик Штраус. – Поймите, Эгето, уезжать сейчас нет решительно никакого смысла. Сегодня в муниципалитет из министерства внутренних дел прибыл представитель с чрезвычайными полномочиями; часть социал-демократов откровенно выступила против Богдана, и с уполномоченным…
– Только-то и всего? – бросил Эгето и махнул рукой.
– А полиция! – глухо продолжал старик Штраус. – Неужели вы не понимаете: на улице Вашут восстановлена полиция! С той ночи много всего произошло. Отобрали оружие у Красной милиции и роздали его полицейским. Пока арестовали человек шестьдесят, забирают левых социал-демократов… Предатели уже обосновались. Днем лестница муниципалитета была залита кровью.
Эгето поднял голову.
– Кто сказал это? – спросил он хрипло.
– Йожеф Штраус! – чуть выпятив грудь, с гордостью заявил старичок. – И Богдан тоже… – добавил он, немного смутившись.
Эгето молчал.
– На первых допросах присутствовали уполномоченный министерства внутренних дел и представитель профсоюза, какой-то секретарь.
Сквозь надвинувшийся вечер с Дуная донесся гудок парохода.
– Они видели кровь, – тихо продолжал старик Штраус, – профсоюзный секретарь тоже видел ее! Перед зданием муниципалитета поставили двойной наряд часовых… Здесь я сяду в трамвай… Вы ничего не можете сделать. Богдан сказал, что социал-демократов одного за другим…
Они остановились на площади Лехела. Со стороны города приближался трамвай.
– Мне бы надо поговорить с ним, – негромко сказал Эгето.
– С Богданом нельзя… – отозвался старик Штраус. – Он скрывается… Вам нельзя ехать домой! – Он осторожно огляделся в потемках. – Завтра я приеду на подводе, – сказал он затем изменившимся голосом, – разыщу вас и скажу, что и как… Где я вас могу найти?
Подумав немного, Эгето назвал кофейню на улице Надор, владелице которой старик сможет передать все, что надо.
– Всего хорошего… – сказал старик Штраус и, немного помедлив, смущенно добавил – товарищ Эгето! – С этими словами он вошел в трамвай.
Эгето еще несколько минут смотрел вслед удалявшемуся красному фонарю трамвая, затем повернулся и пошел по Вацскому шоссе назад, к улице Надор. Было начало девятого, со зловещей неотвратимостью приближался комендантский час; по улицам уже курсировали патрули и кое-где проверяли документы. Эгето шел по городу, глубоко погрузившись в свои мысли. Он думал о странном маленьком старичке, с которым расстался несколько минут назад. Старик стоял на конечной остановке трамвая и поджидал тех, кого надо было предостеречь… Товарищей… Он жил на улице Вираг, через три дома от тетушки Терез. В четыре часа утра он бывал уже на ногах, хотя ему перевалило за шестьдесят; он поднимался с зарей для того, чтобы идти в магазин «Марк Леваи и сыновья. Бакалея и пряности. Оптовая торговля» на проспекте Арпада, где он работал около тридцати пяти лет, то в качестве подсобного рабочего, то помощника кладовщика, то сопроводителя грузов, то инкассатора. Возчики никого не любили так, как «папашу Штрауса», который вместе с ними жевал табак, а потом уже только нюхал его, опять-таки вместе с ними. Он обитал на улице Вираг с дочерью и сыном, но дочь его вышла замуж и переехала в Будапешт, а сын… его сын, подмастерье переплетчика Бела Штраус, в апреле 1918 года был расстрелян по приказу генерал-лейтенанта Лукачича. Это произошло тогда, когда он, Бела Штраус, в третий раз дезертировал с фронта и выяснилось, что он принимал деятельное участие в антимилитаристской пропаганде, проводимой в окопах. Вот тогда-то, оставшись совсем один в своей квартире на улице Вираг, изменился старик Штраус. Бывало, он и прежде изредка приходил в рабочий клуб вместе с сыном, и был этим очень горд; несколько раз садился за шахматы и даже слушал лекции, кивая головой в знак одобрения.
– Прекрасно, прекрасно, – говорил он сыну, – вы во всем совершенно правы, но я для этого слишком стар. У меня есть место на кладбище рядом с могилой покойной жены, и ты не тяни меня, сынок. Видно, моя судьба – доживать свой век в невежестве.
После того как расстреляли сына, все изменилось. Старый Штраус осунулся, ссутулился; поздно вечером приходил он домой и с ужасом думал о том, что должен коротать ночь в жутком и горьком одиночестве. Тогда он записался в кружок «Народный лицей», но, прослушав две лекции некоего Генриха Марцали о пресловутом короле Карле III, перестал посещать кружок. Он стал регулярно ходить в рабочий клуб, проводил там три вечера в неделю и так хорошо чувствовал себя в клубе, что, подумав, записался на курсы эсперантистов. Правда, их он тоже в конце концов бросил. Зато он крепко сдружился с молодежью и после событий 21 марта не пропускал ни одного собрания кружка «Спартак». А как блестели его глаза, когда кто-либо вспоминал его погибшего сына и говорил: «Вот это был настоящий товарищ!» Так все началось, а потом уж не бывало такой лекции или диспута, где бы ни присутствовал старый Штраус, с гордым видом восседавший в первом ряду. Голоса его во время споров, разумеется, никто никогда не слышал, он лишь кивал головой, когда что-либо нравилось ему, или неодобрительно покачивал ею, если не был с чем-либо согласен, и при этом оборачивался к присутствующим, чтобы узнать, согласны ли они с ним. Очень часто он брал на себя улаживание разных дел, а когда случалась работа по переписке, он воспринимал как кровную обиду, если товарищи не поручали переписку ему; на собственные деньги он покупал книги для библиотеки рабочего клуба; но когда его спрашивали, почему он не вступает в партию, он в ответ опять-таки лишь покачивал головой.
– Это для молодых! Если б мой Бела был жив, он непременно был бы в партии вместе с вами… против злодеев! Но что спрашивать со старой развалины-инкассатора… товарищи?
Волнуясь, он неизменно забывал это слово, «товарищ», поэтому произносил его редко и всегда очень смущался. Он много читал, часто приносил домой приложения к газете «Вилагошшаг»; более того, он даже принялся за второй том сочинений Маркса и Энгельса в красном коленкоровом переплете, изданный Эрвином Сабо, но, по правде сказать, только перелистывал его, ибо мало что понимал. Пожалуй, работа Энгельса о крестьянской войне в Германии была единственной, которую он, беспрерывно хмыкая, прочел до конца.
– Дворянство всегда норовило содрать с народа семь шкур! – говорил он задумчиво после этого, однако замечания политического характера делал чрезвычайно редко и, даже осилив названный труд, как-то безотчетно подводил под понятие «дворяне» владельцев магазина «Марк Леваи и сыновья».
В храм божий он ходил два раза в год – читать молитву за упокой души сына Белы и своей жены…
…Эгето внезапно очнулся от задумчивости. Послышался мерный стук шагов – видно, шел патруль; проспект Императора Вильгельма был безлюден.
На темной площади Святого Иштвана съежилась черная безмолвная громада базилики, словно замерший перед прыжком огромный хищный зверь.
– Ра-або-чи-ие! – разорвал тишину чей-то голос. Застучали сапоги, щелкнули затворы винтовок – и опять стало тихо.
По лестнице дома на улице Надор впереди Эгето медленно поднимался человек в изодранной солдатской одежде. Эгето подождал, пока солдат пройдет, и лишь тогда пошел сам. У двери квартиры номер двенадцать на четвертом этаже он остановился и постучал.
– Это я, тетушка Йолан, – сказал он. И лишь затворив за собой дверь кухни, добавил голосом, в котором сквозила смертельная усталость: – Не пугайтесь! Возможно, день или два мне придется ночевать у вас.
Глава вторая
– Эти вареники совсем посинели с полудня! – заявил курносый мальчуган, голодными глазами глядя в тарелку, но к еде тем не менее не прикасаясь.
– Не дури, – отозвалась худощавая старуха, мельком взглянув на стоявшую перед мальчиком тарелку с варениками, которые действительно потемнели за день и были сейчас какого-то серовато-синего цвета и чуть потрескавшиеся. – Ешь! Желудку безразлично, какого цвета ужин. А эти вареники, кстати, не синие, а желтые, просто они из картофельной муки приготовлены.
– С виду синие, – не сдавался мальчик. – Я цвета различаю. Ух, какие скучные эти вареники! Тебе тоже скучно от них, ты уж мне не говори! Теперь давай сочинять, а то я не стану есть.
– Что же нам сочинить? – проворчала старуха.
На ней было темное ситцевое платье и передник в крапинку. Ее тонкий красноватый нос с горбинкой нависал над верхней губой, пучок седых волос прочно пристроился на самой макушке, а в небольших прищуренных глазках таилось какое-то светлое благодушие.
– У тебя уж наверняка припасено что-нибудь очень занятное, – продолжала она, – и ты хочешь передо мной козырнуть.
– У меня ничего нет, – с хитрецой возразил мальчик.
В эту игру они оба – бабушка, вдова Кароя Дубака, и ее внук – играли уже много месяцев. Забава началась в конце мая, когда одиннадцатилетний мальчуган Лайошка Дубак, или Лайош Дубак младший, выздоравливая после плеврита, прочитал все имевшиеся в доме книги – от сказок Гауфа до «Календаря сокровищ», приложения к газете «Будапешта хирлап» за 1918 год; малыш осилил даже политическую брошюру, изданную в 1916 году и носящую название: «Чего желают национально-демократическая партия и Вилмош Важони?» Мальчугана, еще не встававшего с кровати, одолевала невыносимая скука, и он часто хныкал. Об его отце, рядовом, сражавшемся где-то на итальянском фронте, вот уже почти год, с момента капитуляции, не было никаких вестей. Мать мальчика, госпожа Лайош Дубак, работавшая кассиршей в булочной на улице Вешелени, уходила из дому в шесть утра и возвращалась лишь поздно вечером. Старуха тоже нередко оставляла его одного, забегая домой только на короткое время в полдень; все чаще и чаще она уходила то в один, то в другой из соседних домов постирать или сделать уборку. Мальчуган, предоставленный самому себе, целыми днями лежал в постели, устремив глаза в потолок, и размышлял о чем-то своем. Когда у старухи, неразговорчивой по натуре, не бывало уборки или стирки, она, разумеется, весь день проводила с внуком: штопала одежду в комнате или стряпала обед в кухне; прерывая стряпню, она то и дело наведывалась в комнату, чтобы ответить на какой-либо неотложный и странный вопрос мальчугана. Это было в один из дней на исходе мая; старуха сидела в комнате, склонившись над штопкой, когда внук ее вдруг уселся в кровати и каким-то монотонным, внушающим ужас голосом стал говорить на память второй абзац речи, которую он прочитал в брошюре и которую депутат парламента Вилмош Важони произнес 23 октября 1913 года по вопросу об избирательном праве национальных меньшинств.
Бабушка, ошеломленная, некоторое время молчала, и длинный нос ее как-то чудно двигался над губой.
– Ты что, рехнулся? – спросила она наконец.
Мальчик смотрел на нее, не мигая.
– Мне очень скучно, – сказал он тихо.
– Так высунь в окошко нос! – разозлилась старуха и вышла из комнаты, чтобы взглянуть на суп. Она и в кухне продолжала негодовать. Когда же она возвратилась в комнату, мальчик навзничь лежал на постели, устремив неподвижный взгляд в потолок.
– Ну? – осведомилась старуха.
– То, что ты предлагаешь, свинство, – проговорил Лайошка, слегка скосив глаза на свой нос. Затем поглядел на бабушку и начал: – «Политика венгерского правительства по национальному вопросу чревата…»
– Хватит! – в сердцах крикнула старуха. – Ты сведешь меня с ума! – Ее длинный нос как-то подозрительно зашевелился.
– Что такое «чревата»? – спросил мальчик.
– Это не наше дело, – ответила старуха. – Я сейчас же сожгу эту чушь.
Оба замолчали.
– Может, ты сама не знаешь, а? – немного погодя полюбопытствовал мальчик. – Ну что ж, пускай я буду скучать.
– Я бедная женщина, – сурово сказала старуха. – Мне не до этого!
– Расскажи лучше сказку, – попросил мальчик.
– Черт бы тебя побрал! – не удержалась от брани старуха. – Этакий верзила, одиннадцать лет стукнуло, а ты ему сказку подавай! Я сочинять не мастерица, а сказки – выдумка.
– Да ты попробуй!
– Трудно, – созналась старуха, раскаявшись вдруг в своей горячности. – Лучше я расскажу тебе, какие красивые дамастовые скатерти я стирала до венгерской коммуны у их сиятельств господ Краснаи.
– Нет, не хочу, я все это знаю! И про дедушку не рассказывай, и про заражение крови не надо.
Тут старуха обиделась. Она уселась на стул и, не глядя на внука, усердно занялась чулком.
– Какой дырявый чулок! – заметил мальчик.
Старуха не удостоила его ответом.
– Ты хочешь, чтобы я умер? – продолжал провоцировать ее Лайошка. – Ну, не сердись на меня.
– Что бы мне, к примеру, такое сочинить? – внезапно сказала старуха, не выдержав столь мощного натиска.
Мальчик задумался.
– К примеру, – сказал он наконец в раздумье, – как жил-был бедный-пребедный король и как пошел он бродить по свету.
– Бедных королей не бывает! – не допускающим возражения тоном перебила его старуха.
– Почему не бывает?
– Не знаю. Но не бывает.
– Но это же не настоящий, а выдуманный король! Как ты не понимаешь?
– Бедного короля даже выдуманного не бывает! – упорствовала старуха.
Мальчик, озадаченный, смотрел на нее, широко раскрыв глаза.
– Ладно! – в конце концов уступил он. – Жил-был бедный-пребедный человек и пошел он бродить по свету. Так хорошо?
– Не очень, – с сомнением проговорила старуха. – Зачем он пошел бродить по свету? Разве есть на земле такое место, где бедняку было бы хорошо? Кто так думает, тот просто болтун. Мой дед был каменщиком в Олмютце – ты что же думаешь, хорошо ему было? А он не пошел бродить по свету! Зачем ему было бродить по свету?
– Так полагается, – строго пояснил мальчик. – Не будь же такой упрямой, бабушка.
Старуха, чуть растерявшись, молчала. Надо сказать, что так много она не говорила уже почти целую неделю.
Начали они играть в конце мая. Первое время изощрялся в выдумках главным образом мальчуган, он придумывал всевозможные увлекательные и невероятные истории: в его рассказах фигурировали скачущие верхом на метле учительницы, трехногие дворники и другие диковины. Позднее старуха тоже вошла во вкус и иногда по ночам, когда ей не спалось, а то и днем, стирая на чужих людей, придумывала всякую всячину. В ее сказках, рожденных примитивным, без полета, воображением, чаще всего действовали прекрасные дамастовые скатерти, шелковые ночные сорочки с монограммами господ, мохнатые полотенца и такие волшебные прачечные в богатых домах, где прачке на обед подают жаркое, где корыто не протекает, а услаждает слух работящей женщины необыкновенно полезными советами; а щетки – те сами прыгают в руки.
Игра захватывала их все больше и больше, их фантастические истории раз от разу приукрашивались и расцвечивались все новыми и новыми выдумками, но об этой забаве знали только они двое; по обоюдному молчаливому согласию ни старуха, ни мальчик ничего не рассказывали матери.
Когда мальчуган наконец поднялся на ноги, его мать, никому не объяснив причины, почему-то ушла из булочной и стала еще меньше бывать дома. Зато все чаще и чаще по утрам вызывал ее свистом некий господин по имени Кёвари. Старуха хмурилась в такие минуты, и нос ее еще ниже повисал над губой, но она не произносила ни слова; с тех пор как от сына перестали приходить письма, старуха вообще почти не разговаривала с невесткой. Страдая от нужды, царившей в доме (хотя советская власть заметно увеличила помощь солдатским семьям), и осуждая невестку, бросившую работу, старая женщина все чаще бралась за уборку или стирку у чужих людей, на весь день уходила из дому, а как-то в течение целой недели ее с утра до вечера не было дома, когда рядом, по улице Надор, 4, убирали помещение венгерского филиала банка «Wiener Bankverein».
Скупая на слова старуха, несшая на своих плечах груз шестидесяти двух лет, сделалась особенно молчаливой, когда осенью 1916 года призвали в армию ее единственного сына, сорокалетнего Лайоша, служившего приказчиком в галантерейном магазине, и вместе с соседом Болдижаром Фюшпёком отправили с маршевой ротой на итальянский фронт. Болдижар Фюшпёк уже принес свою жизнь на алтарь отечества, но ее сын в октябре 1918 года еще прислал светло-зеленую фронтовую открытку откуда-то из-за итальянских гор. Потом наступило перемирие, но от сына не было больше никаких вестей. Из вдовы Дубак буквально клещами приходилось вытягивать каждое слово; правда, бывало, во время стирки ее щеки внезапно заливала краска, и она начинала сердито бормотать что-то себе под нос. Быть может, она обращалась к невестке, к которой все чаще захаживал господин по фамилии Кёвари, а может быть, бранила себя за то, что, презрев седину в волосах, пошла на поводу у внука, придумывая эти вздорные, день ото дня все более усложняющиеся фантастические бредни. Разумеется, она немало досадовала и на то обстоятельство, что одиннадцатилетний мальчик, изощрявшийся в измышлении всевозможных увлекательных историй о котах с сигнальной трубой вместо хвоста, о стонущих башмаках, о мальчишках с животами из жести, – этот мальчик оказался рассказчиком куда более искусным, чем она, умудренная жизненным опытом старая женщина. И ей ничего другого не оставалось, как, стоя за корытом в наполненной испарениями прачечной, признаваться себе в своей несостоятельности. Размышляя обо всем этом, она, постепенно распаляясь, приходила в ярость, и лицо ее приобретало багровый оттенок. Почти целое утро она досадовала на то, что внук сочинил какую-нибудь особенно удачную историю; ущемленное самолюбие не давало ей покоя, и она с ожесточением терла щеткой простыни и пододеяльники. Нет, нет, скоро все пойдет по-иному, она придумает такую необыкновенную историю, что без труда даст сто очков вперед внуку.
Вот и сейчас, в воскресенье вечером, 3 августа 1919 года, опять то же самое – посиневшие вареники! Что говорить, они действительно с утра немного потемнели, но ведь такова природа картофельной муки, а другой в доме нет.
– Начинай же, – подгонял ее Лайошка.
– Нет уж, сперва послушаем тебя!
– Так вот, – начал мальчик. – Гулял я сегодня утром на улице, был на площади Франца Иосифа. Пришли два полицейских с саблями и увели человека. Он был кладовщик, и я сразу заметил, что у него белый-пребелый нос, а из носа капает кровь. Ты мне веришь?
– И что же?
– Этот кладовщик был похож на господина Кёвари. Веришь?
– Оставим господина Кёвари, – ворчливо откликнулась старуха.