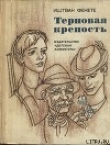Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
– Шугараш – это я! – стыдливо промолвил Зингер.
Первое четверостишие звучало так:
Гулкое сердце мое из стекла,
что ему чин или званья личина!
Сердце мука изгрызла, боль истолкла —
любовь этой боли причина.
Дубак прочел стихи, но не знал, что в таких случаях следует говорить; он некоторое время молчал, затем, почувствовав на себе вопрошающий взгляд Зингера, медленно произнес:
– Петёфи писал такие!
– Петёфи! – мрачно повторил Зингер и водворил страницу на место.
– Я в стихах не разбираюсь, – извиняющимся тоном пробормотал Дубак.
– Я давно не писал, – заметил Зингер. – Проклятия война! Но теперь…
В комнату снова вошла мать Зингера и подозрительно поглядела на обоих – возможно, из-за двери она услышала имя Петёфи. В руках она держала мешок и сообщила, что отправляется по делам фирмы, по поводу покупки целого склада одежды; ей необходимо заглянуть на площадь Телеки, так что раньше четырех вряд ли она вернется.
– А обед? – спросил сын.
– Есть баранина, она посолена, пленку я сняла. Приготовь рагу!
– Ладно! – согласился Зингер, потирая руки, так как очень любил стряпать. – К рагу галушки, мамочка?
– Есть одно яйцо, – сказала «мамочка», кивнула и ушла с мешком заключать сделки.
Лавка подержанного платья на улице Лаудон зияла пустотой, она была заперта – весь ассортимент обносков хранился в самой квартире: вешалки сгибались под тяжестью всевозможных пиджаков и брюк, на шкафу стояли корзины, набитые мужской одеждой, в кухне и в чулане лежали навалом поношенные зимние пальто, короткие желтые с большими пуговицами мужские тужурки, меховые куртки, демисезонные пальто с бархатными воротниками. От этого тряпья вся квартира, все это тесное, выходящее окнами на улицу Лаудон мрачное логовище на втором этаже было пропитано устойчивым затхлым запахом, смешанным с запахом нафталина; но Зингеры к нему привыкли. Одним словом, лавка внизу была заперта, но не вызывало сомнения, что скоро она будет открыта. Проклятая война кончилась – для поэтов и торговцев обносками должны были наступить лучшие времена.
– Почему твоя мать не любит людей искусства? – полюбопытствовал Дубак.
– Не знаю, – неуверенно ответил Зингер, хотя прекрасно знал причину.
Этот толстенький мужчина был у матери единственный сын; ему было семнадцать лет, когда умер его отец и он выбыл из второго класса коммерческого училища. Он и прежде помогал в лавке, но, оставив училище, прочно обосновался в ней, ибо мать одна не могла обеспечить дело: выходить на улицу, зазывать покупателей, помогать во время примерки, навязывать нерешительному клиенту именно ту вещь, которую хотелось сбыть с рук, – какую-либо «добротную» заваль. И вовсе не ту, которую покупатель собирался приобрести вначале. Красноречиво торговаться, давать страшные клятвы, произносить ужасные слова: «Пускай у меня руки отсохнут, если я отдам за такую цену!» Ловко чередовать сладкоречивое увещевание и холодное безучастие, звать покупателя с улицы назад и ронять такую фразу: «Только потому, что сегодня вы первый!» Встречать ледяным и надменным тоном тех, кто желал продать; держать на свету заднюю часть предлагаемых брюк и доказывать, что они совсем как решето; замечать лоснящиеся локти у принесенных для продажи пиджаков, потертый воротник, бахрому на карманных клапанах, выворачивать дырявые карманы, показывать, как сильно мнется ткань; критиковать вещи за их старомодность; производить тактические маневры вокруг цены, выдвигать ящик стола, набитый деньгами, чтобы у продающего закружилась голова. Следить за тем, чтобы у покупателя не было слишком большого выбора, а то он запутается, не решится купить и скажет: «Я еще зайду» или «Я посоветуюсь с женой». Такой покупатель никогда не возвращается, это общеизвестно. Бывают покупатели иного рода: если им предоставляют небольшой выбор, они морщат нос и теряют охоту покупать. Если покупателя сопровождает жена, перед ней надо рассыпаться мелким бесом, суметь заговорить ей зубы. Следует знать, для кого главное – мода, а кому выгоднее говорить о качестве продаваемой одежды, что она, мол, крепка, как кожа. Встречаются такие, кто попадается на удочку, когда ему говорят: «Этот костюм носил граф X.» Другим, наоборот, такая рекомендация не нравится, они даже перед самими собой стремятся отрицать тот факт, что покупают одежду – ну, конечно же! – с господского плеча. Кроме того, не спускать глаз с портных, производящих мелкий ремонт одежды; проверять, какой ей придан вид; не лоснится ли где-нибудь, поставлены ли новые манжеты на потрепанных внизу брюках, покрашены ли потертые места у ворота, почищены ли засаленные карманы и т. д., и т. д. Со всем этим с помощью одного приказчика, на которого, разумеется, «совершенно нельзя положиться», мамочка справиться не могла.
И вот, когда Бела оставил училище и обосновался за прилавком, началась новая жизнь. Торговля в лавке пошла прекрасно. Бела на доверительных началах орудовал кассой, следовательно, в семнадцать лет денег имел вдоволь, да мать его и вообще-то не отличалась мелочностью. Вечерами он похаживал в кафе – сперва в «Лидо», бывшее по соседству, разделяя компанию других торговцев подержанным платьем, а позднее перекочевал в «Палермо» и «Ковач». Примерно в это время как-то перед закрытием лавки приказчик обнаружил на полке тетрадь. Надпись на ней гласила: «Коммерческая математика, Бела Зингер, уч. среднего класса „В“. Полистав тетрадь, приказчик со злорадной ухмылкой передал ее хозяйке. Ничего до той поры не подозревавшая лавочница была несколько озадачена.
– Что это? – на другой день спросила она сына.
– Приватные дела! – вспыхнув, ответил Бела, ибо в тетради, помимо перевода английских мер емкости и веса, были главным образом любовные стихи его собственного сочинения, посвященные кассирше из кафе „Палермо“.
По понятиям лавочницы, таковое обстоятельство – хотя на улице Лаудон и не привыкли ни к чему подобному– само по себе не являлось роковым, ибо, кроме ее Белы, стихи писали такие особы, как придворный советник барон Лайош Доци и царь Соломон; даже сам Йожеф Киш занимался рифмоплетством, и все же с ним поддерживали дружбу депутат парламента Пал Шандор и председатель правления Венгерского всеобщего ссудного банка Адольф Ульман. Беда была в том, что Бела, охваченный страстью к поэзии, стал пренебрегать своим ремеслом; он отошел от корифеев коммерции с улицы Лаудон и с улицы Петёфи, то есть перестал посещать кафе „Лидо“ и искал общества разных „людей искусства“.
– Я видел вашего Белу среди богемы, – с такими словами обратился однажды к лавочнице навестивший ее пожилой шеф конкурирующей фирмы. – К сожалению, коммерсанту это обходится в копеечку, госпожа Зингер!
Именно так и случилось. Началось с того, что Бела Зингер 14 января 1903 года, в среду, купил у одного из сотрудников распространенной экономической газеты под названием „Оштор“, своего партнера по карточному столу в кафе, какой-то необычайно ветхий, сшитый во времена, должно быть, предшествовавшие всемирному потопу, редингот, так называемый ференцйожеф, и заплатил за него втридорога; по мнению приказчика, в этой хламиде Ференц Деак подписывал соглашение! После столь блистательного начала в лавку Зингеров пожаловал другой партнер Белы по карточному столу, также репортер и вымогатель из экономической газеты; но этого последнего, так как Белы фатальным образом в лавке не оказалось, приняла сама лавочница и ледяным тоном отказалась от сомнительной сделки, когда ей попытались всучить по пятикратной цене зеленоватого цвета плащ; приказчик, имевший десятилетний опыт в торговле подержанным платьем, заявил, что плащ был ношен несколько веков назад, причем, как об этом свидетельствовал портновский ярлык, в Гамбурге, и вполне вероятно, что носил его лакей Мозеша Мендельсона, друга знаменитого Готтхольда Эфраима Лессинга, ибо на это указывал даже покрой поименованного плаща.
– Потрудитесь снести его в Национальный музей! – отрезал приказчик.
Бойкий репортер ушел ни с чем, а на следующей неделе в газете „Пешти кёзелет“ появилась разгромная статья, разоблачающая страшные тайны платяного ростовщичества на улицах Петёфи и Лаудон; фирма Зингер, по счастью, не была упомянута. Но лавочницу все это мало беспокоило.
– Плевать мне на прессу! – отмахнулась она.
Но Бела статью принял близко к сердцу, и, начиная с этого дня, клиенты из богемы – согласно предварительному сговору – стали появляться в его лавке тогда, когда мамы в ней не было, и исчезали оттуда с заметно разбухшими кошельками.
В это время какой-то конкурент с ехидством пожелал госпоже Зингер счастья в новомодном способе заключения сделок, введенном ее фирмой.
– Вы работаете лучше самих братьев Кох (в те времена то была одна из крупнейших фирм по торговле готовым платьем на проспекте Кароя, где служили девять приказчиков), – сказал конкурент. – Можно не сомневаться, что вы утроили торговый оборот, сударыня!
Он подмигнул и напомнил ей о роскошных рекламах фирмы Зингер, которые видел в некоторых газетах, расходящихся большим тиражом, таких, как „Оштор“, „Рендкивюли уйшаг“ и „Пешти кёзелет“.
– Клянусь вам, в кругах чиновников налогового управления более популярных газет вы не встретите! – присовокупил он.
И он не лгал. Действительно, эти газеты были наиболее популярны, так как главным образом в них появлялись грязные статейки, разоблачающие фальсифицированные балансы акционерных обществ, замаскированное ростовщичество респектабельных банков, сексуальные похождения некоторых тугих на расплату банковских директоров, злоупотребления с земельными участками в связи с парцелляцией, адюльтер в семьях воротил делового мира, холодно отказавшихся от поддержки прессы, торговлю прокисшими тортами в фешенебельных кафе-кондитерских, отказавшихся от рекламы, крупных адвокатов, охотно выступающих по делам о скандальных происшествиях в публичных домах и сенсационные статьи о гениальности отдельных генеральных директоров и их примерной скромности; о позорящих венгерскую нацию аферах, творимых в будайских кабачках слабоумными племянниками фабрикантов, отказавшихся от субвенции; о тайных физических пороках богатых домовладельцев, о посещениях пожилыми, находящимися на грани импотенции суперинтендентами церковных округов женщин, состоящих под надзором полиции; об утаивании кооперативными объединениями, стремящимися уклониться от уплаты налога, их действительных доходов; информации размером в целую колонку о бессмертных патриотических заслугах некоторых щедрых банковских воротил и финансовых тузов, об уродливых мозолях на ногах актрис, о прискорбных сексуальных аномалиях банковских инкассаторов, о бесспорных достоинствах начальников полиции, обладающих железной рукой, о крупных растратах, о подделке векселей, о промахах, ведущих незадачливых дельцов к банкротству и самоубийству; захватывающие отчеты специальных корреспондентов о кражах, всяких панамах, спекулятивных сделках и ростовщичестве, об общественно полезной деятельности представителей высшего духовенства, страдающих подагрой, толстобрюхих банковских директоров, кривоносых полицейских, бесплодных актрис – одним словом, все эти сногсшибательные репортажи, не страдавшие от недостатка истины, об экономической, общественной и интимной жизни богатых бездельников Венгрии действительно попадали в поле зрения в первую очередь чиновников налогового управления, во вторую – посетителей салонов массажистов, в третью – референта пресс-бюро по охране нравственности. Ну и, разумеется, в поле зрения государственной прокуратуры.
Таким образом, ничего удивительного не было в том, что госпожа Зингер не испытывала особенного расположения к миру поэзии и на людей искусства вообще взирала с явным предубеждением. Ее вполне понятное нерасположение не только не ослабело со временем, но достигло такой степени, что отнюдь не исключено, что даже самого поэта Йожефа Киша она, не торгуясь, попросту выставила бы из лавки, если бы он, паче чаяния, приволок под мышкой продавать свой сюртук; та же участь постигла бы, вероятно, и рыцаря Микшу Фалка, и царя Соломона, если бы они, попав на улицу Лаудон, лично заявились бы к ней за небольшим рекламным объявлением для газеты „Пестер Ллойд“. Эх, немало пришлось претерпеть за прошедшие двадцать лет и ей самой и ее предприятию из-за неутомимого поэтического честолюбия сына.
За два десятилетия в газете „Рендкивюли уйшаг“ под псевдонимом Бела Шугараш было напечатано единственное стихотворение, а журналы „Уй идёк“, „Вашарнапи уйшаг“, „Толнаи вилаглапья“, „Кепеш чалади лапок“, равно как и прочие журналы, а также газеты „Пешти хирлап“, „Будапешти напло“, „Аз уйшаг“ и другие были завалены посланиями к редакторам, которые с непостижимым единодушием почему-то отклоняли поэтическое сотрудничество Белы Шугараша. По этой-то причине псевдоним Шугараш стал известен, к сожалению, лишь в сравнительно тесном кругу людей, главным образом среди завсегдатаев кафе „Палермо“. Бела Зингер остался холостяком; он уже многие годы не писал стихов, и в этом отчасти была повинна проклятая мировая война.
– Пойдем стряпать! – сказал Зингер, когда мать ушла.
– Мне бы надо идти домой, – без особой уверенности произнес Дубак.
– Об этом, старина, даже не заикайся, – возразил Зингер. – Сперва мы роскошно пообедаем! Какие дела ждут тебя дома?
У Дубака в сущности, сколько бы он ни ломал голову, решительно никаких дел не было; он отказывался только ради приличия и еще потому, что, пробыв в квартире Зингеров всего полчаса, уже не находил себе места. С момента прибытия в Будапешт он попросту нигде не находил себе места. Ему было невыносимо тяжело сидеть где бы то ни было; его непрестанно терзало желание куда-то идти, как терзает диабетика жажда; возможно, по пути из плена домой он привык постоянно находиться в движении. Вот и сейчас его тянуло идти куда глаза глядят. Когда он вспоминал о том, что ждет его дома, сердце его сжималось. Еще не было одиннадцати. Дубак, разумеется, остался и уселся на табурет. Нечего и говорить, что друг его Зингер не принял бы от него никакой помощи и вообще не допустил бы ничьего вмешательства в свою стряпню, тем более в собственном доме. Он даже маму частенько отстранял от плиты и сам становился на ее место, широко раздувая ноздри, – он был страстный любитель готовить. Вырядившись соответствующим образом, он стал похож на какого-нибудь прославленного шеф-повара или известного профессора-хирурга. Он снял пиджак и засучил рукава, повязал ситцевый фартук и по-пиратски стянул голову платком с патриотическим рисунком, на котором, держась за руки, стояли султан Мухамед V, император Вильгельм II, Франц Иосиф I и болгарский царь Фердинанд.
– Не люблю, когда в супе плавают волосы! – с важностью сообщил он.
„Баламутный он, но душа золотая“, – снисходительно подумал Дубак и спорить не стал. Пускай его тешится, хотя, во-первых, готовился не суп, а во-вторых, Зингер свои жидковатые волосы еще накануне – по причине, о которой обычно умалчивают, – следуя совету матери, остриг наголо. Когда он повязал платок, его горбатый нос стал выглядеть еще более горбатым.
– Ты похож на турецкую ведьму, дружище! – заметил Дубак.
Нарезанный лук аппетитно зашипел в кипящем гусином жире; семеня лапами, приковылял жирный пес, поднял морду, принюхался, затем подошел к Дубаку, некоторое время с вожделением поглядывал на его тонкие икры, в конце концов сделал попытку укусить, минуты две подержал в беззубой пасти обмотки, соня и прижимая к ним единственный зуб, затем, утомившись, развалился у его ног и, скорбно мигая, стал смотреть на эти солдатские обмотки.
– Бедняжка, дорогой ты мой! сказал Зингер, поглядывая на пса и перемешивая деревянной ложкой подрумянившийся лук с красным перцем.
Потом он положил туда изрядную порцию умело нарубленных бараньих ребрышек, предварительно на короткое время опущенных в уксусный раствор, чтобы отбить специфический бараний запах.
– По-настоящему барана следует готовить на костре и в котле из красной меди! – со знанием дела объявил Зингер и полушутливо добавил: – А ты бедному песику даже ноги не даешь пожевать!
Дубаку стало почти страшно. На столе лежал большой кухонный нож, а Зингер улыбался. Дубаку вдруг представилось, как Зингер внезапно накидывается на него и пытается отрубить ему до колена ногу, чтобы бросить ее собаке. И он засмеялся; на лбу его выступила легкая испарина, а на глазах показались слезы. Тому, кто побывал на поле брани, часто мерещится всякий вздор.
Зингер размешал в воде муку, положил соль, разбил яйцо и поставил кипятить в кастрюле воду; когда вода закипела, он осторожно стал опускать в нее галушки – кухня наполнилась пленительными ароматами. После этого Зингер взял скатерть и изящно сервировал в комнате стол на две персоны; в это время постучали в кухонную дверь. На пороге появился господин с бачками, в панаме и белом полотняном костюме; узкие брюки, шитые, как видно, на кого-то другого, не доставали ему до щиколоток. Впрочем, нос господина отличался столь гигантскими размерами, что с лихвой восполнял недостаточную длину брюк и придавал его облику такую внушительность, какой едва ли можно было достигнуть длинными брюками. Он вошел с видом, говорящим не только об уверенности в себе, но и о некоторой доле спеси.
– Вот и я, маэстро! – объявил пришелец.
– Мой редактор! – воскликнул Зингер, расцветая широчайшей улыбкой.
Они обнялись и долго похлопывали друг друга по спине.
– Молодчина! Ты все-таки решился окончить мировую войну! – сказал пришелец. – Славно пахнет у тебя в кухне! – продолжал он, поднимая кверху свой чудовищный нос.
– Господин редактор Дежё Каноц, мой добрый друг! – не скрывая гордости, представил гостя Зингер. – Мой дорогой фронтовой товарищ Лайош Дубак.
– Очень приятно! – сказал Каноц.
– Сейчас мы сядем за стол, мой редактор, – захлопотал Зингер. – Да только у нас всего капля рагу с галушками, – скромничал он. – Занимайте же места.
Каноц проглотил слюну и раздул ноздри, пожалуй, пошире, чем это делал Зингер, однако с важным видом хранил молчание.
Запах рагу целиком заполнил вселенную.
Немного погодя все трое уселись за накрытый стол; как выяснилось, „всего капля рагу“ было лишь поэтическим образом, в действительности же это означало скромность хозяина, который, придав своему лицу застенчивое выражение, свойственное лишь настоящим великим людям, водрузил на середину стола объемистую кастрюлю, до краев наполненную красным соусом, в котором плавала баранина, и добрую миску с галушками; все это было очень горячим, ибо истинные любители баранины едят ее только в горячем виде.
– Однажды в Атокхазе я, например… – начал Каноц.
– Стоп! – воскликнул Зингер, встал и вышел из комнаты.
Гости не могли понять, что это означало. Однако через две минуты он появился, неся в одной руке огромную банку с солеными огурцами, в другой – многообещающую полуторалитровую бутыль.
– К сожалению, здесь не вино! – все так же скромничая, сообщил Зингер и поставил бутыль на стол.
„Вот это прекрасно!“ – чуть было не вырвалось у Каноца, но, услыхав заявление хозяина, он печально промолчал. „Минеральная вода“, – подумал он с горечью.
– Понюхайте по крайней мере, – предложил Зингер.
Каноц с сомнением протянул нос к открытому горлышку бутыли и обнюхал его.
– Это же… – проговорил он, и по лицу его, излучаясь из необъятных трепещущих крыльев носа, медленно расплывалось наслаждение.
Дубак тоже понюхал горлышко бутыли – там была сливянка.
– Глоточек крепкой водки перед едой, – предложил Зингер и налил каждому в стакан на три пальца сливянки.
Дубак тщетно пытался уклониться от выпивки.
– За здоровье прессы! – провозгласил Зингер, поднимая стакан.
– Нет, нет, милостивые государи! – решительно отверг его тост Каноц. – Пальма первенства, господа, принадлежит вам, возвратившимся домой из мучительного плена. Я пью за ваше здоровье!
Все трое подняли стаканы. Затем Каноц одним духом проглотил свою порцию и только крякнул; Зингер сделал два глотка, а Дубак лишь пригубил обжигающую жидкость.
– Оно вошло в мою плоть и кровь! – воскликнул Каноц, потирая живот, и закатил к потолку свои выпученные глаза, так что стали видны одни белки.
Затем сотрапезники налегли на острое и жирное баранье рагу. У Дубака от этого деликатеса загорелись уши, а Каноц выразительно хрипел, звучно заглатывая громадные кусищи, и при этом его огромный кадык ходил ходуном.
Зингер вначале лишь посапывал, принимая с деланной скромностью беспрестанные похвалы своему кулинарному искусству. Но в конце концов он воодушевился и с набитым ртом и мечтательным выражением лица пустился в рассуждения о стряпне; он рассказывал, например, как готовить баранью голову, предварительно вымочив ее в уксусе, приправленном специями, как варить из телячьих ножек суп с грибами и цветной капустой; как приготовлять лапшу с маком. Сперва следует отварить лапшу и перемешать ее в кипящем свином жире, затем в лапшу надо медленно влить мёд, положить перемешанный с сахарной пудрой мак, который от смешения с сахаром должен приобрести правильный серый цвет – не темнее и не светлее, это известно каждому; он объяснил, как можно с быстротой молнии поджарить выдержанное в течение двух дней филе, чтобы оно было мягким, с хрустящей корочкой и кровью внутри, хотя, по мнению госпожи Зингер, это вовсе не соответствует ритуальным предписаниям приготовления пищи. Но этому сын значения не придавал.
– Может, выпьем? – предложил Каноц и налил себе сливянки на добрых четыре пальца; он стукнул стаканом о стаканы сотрапезников. – Экс! – со смаком произнес он.
Дубака взяла некоторая оторопь, но ради компании он выпил крепкий, как отрава, напиток; пищевод его словно опалило огнем, на глазах выступили слезы, и он задохнулся от кашля. Уши всех троих от горячей и вкусной еды горели, Каноца совсем развезло, он неистово жестикулировал и без остановки говорил. Между тем в кастрюле оставалось еще не менее половины бараньего рагу, соус стал медленно застывать, покрываясь салом. Каноц положил себе на тарелку еще порцию, насилу впихнул в себя немного рагу и галушку, но затем отказался от дальнейших попыток.
– Здесь была примерно половина барана! – объявил Дубак и вытер рот; он уже что-то напевал себе под нос, так как выпил вторую порцию сливянки в добрых два пальца – правда, на этот раз не задумываясь.
– Какие новости в прессе, мой редактор? – спросил Зингер.
Каноц сперва молчал, ему не хотелось рубить с плеча и обескуражить Зингера целью своего визита, – в кармане его скрывался подписной лист на альбом под названием „Доблесть венгерского солдата“, который в экстренном порядке отпечатали накануне, так как было совершенно очевидно, что дела в политическом отношении начинают складываться самым утешительным образом; Каноц даже явился на улицу Шёрхаз, дом три, чтобы записаться в патриотический христианский союз – Союз пробуждающихся мадьяр. И если бы, взглянув на его чудовищный нос, кто-либо по привычке усомнился в его… принадлежности к чистой расе, он мог бы предъявить прекрасное метрическое свидетельство, в котором значилось имя графа Аппони! Ничего подобного, впрочем, не произошло. Редактора Каноца привел один его знакомый христианин из представителей прессы, а потом он сам с первых же слов сумел ловко вставить фамилию дяди с материнской стороны, состоявшего соборным каноником при архиепископе в Эгере, которого, правда, он уже лет восемь не видел. В доме три по улице Шёрхаз при входе всем простым смертным полагалось предъявлять метрическое свидетельство; из этого правила они, представители прессы, составляли безусловное исключение. Повсюду в залах высились ворохи бумаги, книг и брошюр, по ним шагали все, кому было не лень, – армейские и полицейские офицеры, студенты, кондукторы, почтальоны. Еще два дня назад здесь функционировало Общество работников умственного труда, занимавшееся тем, что временно устраивало безработных интеллигентов на физическую работу. В креслах одной из гостиных, расположенной на втором этаже, развалившись, сидели какие-то люди с самодовольными физиономиями; словно по щучьему велению выползли они из разных контрреволюционных берлог; всего пять дней миновало, как профсоюзное правительство пришло к власти, а эти уже очутились в самой гуще организационной работы. В доме три по улице Шёрхаз царили суета и оживление, расхаживали секретари, о чем-то дискутировали стоявшие группами студенты и прикалывали к стенам антисемитские плакаты; в одной из задних комнат раздавали обтянутые кожей дубинки со свинцовой прокладкой, сопровождая вручение сего вида оружия соответствующим рукопожатием; в гостиной перед людьми, развалившимися в креслах, коренастый брюнет, участковый надзиратель, развивал идею еврейского погрома; слушатели примолкли, так как пока еще не решались откровенно высказывать свое мнение по этому вопросу.
– Антанта… – проговорил с опаской какой-то сухопарый майор и уставился на свои лакированные сапоги.
– Потом, когда здесь уже будет Хорти! – вставил другой офицер.
Тогда поднялся стройный, с приятной наружностью мужчина с моноклем (кто-то сообщил, что это Тибор Херкей, помощник адвоката, один из лидеров союза) и произнес краткую речь, главное место в которой было отведено богу, расовой сплоченности истинных мадьяр и не поддающимся описанию зверствам, якобы чинимым евреями; он сообщил о некоем подмастерье пекаря Изидоре Дирнфельде, который в Главном управлении полиции в присутствии самого оратора признался в том, что в пекарне в двух печах сжег шестьдесят семь монашек. Известие об этом преступлении позднее появилось даже в такой газете, как „Американи мадьяр непсава“! Этот изверг по фамилии Дирнфельд, по словам оратора, не скрыл также того, что за месяцы „красного террора“ его излюбленным развлечением являлось следующее: облачившись вместе с тремя товарищами в сутаны, они заходили в церкви и исповедовали верующих; когда они выманивали у своих жертв чистосердечное Признание в том, что те являются противниками коммуны, злодеи тотчас волокли их на эшафот. Карательные органы должны расправиться примерно со ста тысячами красных злодеев, совершивших страшные преступления, потрясшие мир. Кровь сожженных Христовых невест требует отмщения!
– Мы требуем крови ста тысяч злодеев! – воскликнул в заключение оратор, протер монокль и, сопровождаемый громом аплодисментов, уселся на место.
В это время Дежё Каноца, помощника редактора „Рендкивюли уйшаг“, „Пешти кёзелет“ и ряда других периодических изданий, взял под руку его друг, бывший недолгое время репортером экономического отдела ежедневной газеты народно-католической партии под названием „Алкотмань“, и они уединились в небольшом зале, где собралось пятнадцать представителей прессы, среди которых присутствовала и настоящая знать, как, например, известный всей стране черноусый надменный редактор Милотаи и обладающий убийственным пером публицист Лехель Кадар. Какой-то прелат с лиловой опояской на выпирающем животе ратовал за необходимость срочного создания христианской прессы, однако речь свою он закончить не смог, так как с места вскочил худой белесый человек, распространявший легкий запах водки, и потребовал незамедлительных действий.
– Час пробил! – вскричал он, выхватил стихи и прочел их.
Это был поэт Иштван Лендваи, который до революции 1918 года выпустил томик стихов „Дым факела“, сделавший автора популярным главным образом в левых буржуазных кругах. Две основополагающие строки прочитанных стихов звучали так:
У крыс носы кровоточат,
удел их – голод и разврат.
Ему аплодировали, прелат недовольно ворчал, а кто-то заметил, что непонятно, где это Иштили в столь трудные времена, когда мы печальным образом оторваны от Верхней Венгрии, раздобыл можжевеловую водку.
Покамест никакого решения принято не было, обсуждение носило чисто информационный характер. Вожаки искоса поглядывали на Каноца – должно быть, виной тому был его грандиозный нос…
– Итак, мой редактор, – еле ворочая языком, спросил Зингер мечтательно настроенного Каноца, – какие же новости в прессе? За время, что мы провели в разлуке, в какой газете…
Каноц ввел в свой организм очередную порцию сливянки и откашлялся.
– За прошедшие месяцы, – начал он мрачно, даже ожесточенно, – у христиан-патриотов выбили перья из рук. Евр… – Он вдруг запнулся, взглянув на Зингера и вспомнив о подписном листе. – Ну ладно, – забормотал он, – то есть нет… Одним словом, старина, трудно было. Это все красные! Мы с тобой старые приятели, ты на поле брани побывал, а кто там был, тот знает, что нет разницы…
Затем он ловко замял разговор и перешел на разные интересные заграничные новости. Недавно он узнал о том, что в Голландии, в городишке Доорн, власти установили налог в миллион голландских форинтов, который должен выплачивать осевший там бывший германский император Вильгельм II; они исходили из его годового дохода, составлявшего двадцать четыре миллиона крон! Ничего себе сумма на год!
Ему и заботы мало, этой сухорукой развалине, что на днях начинается обсуждение вопроса о ратификации мирного договора с Германией. Он-то как-нибудь проживет!
– Такова жизнь, „such is life“, – повторил он по-английски и затем с „ошеломляющим юмором“ добавил: – И со дня на день все более „such“, все более „such“.
– Зато императору, в сущности… – подал голос Дубак.
– Слушай, Дубак! – предостерег его Зингер. – Сейчас не хватает, чтоб ты снова залепетал о печальной судьбе Кароя IV, как в Удине!
– Его величество – дело другое! – вдруг объявил Каноц, в душе которого вновь вступили в борьбу представитель прессы, и „пробуждающийся мадьяр“, и интересы издателя неподражаемого альбома „Доблесть венгерского солдата“; но он опять вывернулся, переведя разговор на болгар, которые, по имеющимся у него достоверным сведениям, передали Парижской мирной конференции обширный меморандум, касающийся разных спорных территорий (у Каноца память успешно конкурировала с громадным носом); говорят, что Македония, Фракия и Добруджа должны остаться под болгарским владычеством.
Затем Каноц преподнес своим слушателям сведения о базельской всеобщей забастовке, о кровопролитных столкновениях в Швейцарии, о стачке двухсот тысяч английских шахтеров и об угрозе стачки бельгийских железнодорожников.
– Теперь победители захлебнутся в крови! – сказал он наконец. – Они поймут, до чего довели мою бедную родину! Что-о? Классовая борьба? – проревел он.
Он едва не рыдал от возмущения и успокоился лишь после того, как пропустил очередную порцию сливянки.
– Турки! – провозгласил он зловеще и умолк.
Затем наступила продолжительная пауза, Каноц углубился в свои мысли и молчал; тогда расхрабрившийся Дубак задал ему вопрос относительно турок.