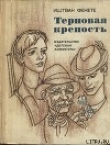Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Кровь отхлынула от лица Бики. На какой-то миг самообладание изменило ему. Господа – на то они и господа, но этот… Ведь этот когда-то тоже был рабочим. Не ответив заводчику, Бики тихо бросил мастеру:
– Собака.
Воцарилась мертвая тишина. Юноша уже овладел собой. Ах, как глупо он попался на удочку, зачем позволил спровоцировать себя? А в следующее мгновение поручик Штерц вскочил и, прежде чем его могли остановить, бросился к молодому рабочему.
– Красный… как там тебя! – рявкнул он, багровея от охватившей его бешеной злобы.
В порыве безудержной ярости он потянул саблю из ножен; мастер Мар моментально отпрянул, а управляющий Чёфалви почувствовал себя в безопасности, лишь укрывшись за спинку кресла шефа.
– Виктор! – крикнул Майр.
Но заклинившаяся было сабля вдруг вылетела из ножен, а вместе с ней какая-то бумага. Бики поднял руку, инстинктивно пытаясь защититься от удара, но сабля плашмя опустилась на его голову и острием задела лоб. Кровь залила лицо юноши. Прошла всего лишь какая-то доля секунды, и поручик Штерц, сбитый с ног, что было мочи вопил, лежа на полу; из носа его хлынула кровь, сабля с грохотом отлетела в угол, монокль же прочно держался в левом глазу. Подскочивший Юрко нанес Бики сзади удар по голове; Бики молниеносно обернулся и ответил Юрко апперкотом в желудок. Юрко лишь крякнул и взмахнул своими страшными кулачищами. Майра будто пригвоздили к креслу.
– Перестаньте же, господа! – безостановочно твердил он.
Чёфалви скрывался за его спиной, а Мар не осмеливался вмешиваться в драку; но сыщик и полицейский уже ворвались в кабинет, и теперь сразу четверо молотили по голове Бики, тот хрипел, но все еще не сдавался и угодил сыщику в ухо; во время потасовки из окон со звоном вылетели два стекла, стулья опрокинулись, а во дворе перед конторой останавливались рабочие, вслушиваясь в бессвязные крики. Эх, если б сейчас у них было оружие…
Увы!
Профсоюзное правительство расположилось в Буде, в полиции засели бывшие господа, а здесь, в Пеште, орудуют наемники румынской буржуазии…
Бики в конце концов повалили, крепко держали его вчетвером, сыщик надевал на него наручники. Юноша сидел на полу с разбитым, залитым кровью лицом; он тяжело дышал. Рывком его поставили на ноги, и полицейский пнул его ногой пониже спины.
– Собаки! – с безграничной ненавистью проговорил Бики.
Он стоял, закованный в наручники, и тут к нему подошел Чёфалви.
– Мерзавец! – бросил Чёфалви и ударил юношу по щеке.
Бики на какую-то долю секунды задержал на нем испепеляющий взгляд, он даже не плюнул ему в физиономию, а просто отвернулся; Мар был белый как полотно, к горлу у него подступала мучительная тошнота; поручику Штерцу помогли подняться с пола, лицо и нос его распухли от удара, нанесенного рабочим, он отыскал свою саблю и засунул ее в ножны; Чёфалви проводил его в туалет, чтобы он привел себя в порядок.
– Благодаффвую, – прошепелявил блестящий поручик.
«Ему выбили зуб», – подумал полицейский.
Но тут он нашел верхнюю искусственную челюсть поручика, закатившуюся под одно из кресел и сломанную пополам в пылу схватки.
Бики было приказано стереть с лица кровь, потом его увели.
– Пожалуйста, только без лишнего шума! – с тревогой напомнил Майр.
Сыщик утвердительно кивнул – дескать, положитесь на меня.
Майр явственно ощущал, что задуманная им «расправа в назидание другим» не удалась, получилось совсем не то, что он себе представлял: на полу алело пятно крови, один из стульев был опрокинут и сломан, а этот упрямый мошенник шагал в наручниках между полицейским и сыщиком с беспримерно наглым видом и уже в дверях не преминул отпустить колкость по адресу Штерца:
– Клозетную бумагу не кладут в ножны, господин поручик!
Пощечину за эти слова он получил тут же, на месте, ну а в полиции у него вообще отобьют охоту дерзить!
Старый служитель приводил кабинет в порядок. Поручика Штерца, насколько было возможно, тоже привели в порядок. Появились два сыщика, ранее дожидавшиеся у ворот в экипаже; теперь они останутся здесь.
– Прошу вас, господин Чёфалви, – сказал шеф, – нам пора пройти по цехам.
Управляющий поклонился. Мастер все еще был смертельно бледен.
– Вы будете сопровождать нас, – приказал Майр двум сыщикам.
Те щелкнули каблуками. Майр и его свита покинули контору: впереди шел владелец завода, за ним управляющий и мастер, шествие замыкали два сыщика.
Штерц во что бы то ни стало порывался пойти вместе с зятем.
– Мне бы тофе хотелофь, – беззубо шамкал он, ощупывая красный нос.
– Прошу тебя, Виктор, останься здесь, – весьма решительно отверг его просьбу Майр.
– Хуго прав, – поддержал заводчика Юрко.
Он прекрасно видел, что главной причиной недавней неудачи, постигшей заводчика в его попытке «расправы в назидание другим», явилась выходка этого дурня Виктора – разумеется, в придачу к наглому упрямству того рабочего.
– Хуго прав, – повторил он, – все свои дела Хуго уладит без нас. А мы пока выкурим по доброй сигаре. Все равно утро пропало!
Владелец завода и его эскорт удалились, а оба поручика удобно расположились в креслах, попыхивая сигарами.
– Фто ты делаеф фегодня днем? – спросил Штерц.
– Отправлюсь к Чиллери, в Буду, – ответил Юрко.
– Он тове дантифт? – спросил Штерц.
Юрко утвердительно кивнул.
– Будет организационное совещание. Жаль, что тебя еще не вовлекли.
– Органивафионное фовеффание! – задумчиво проговорил Штерц, пуская через беззубый рот роскошные кольца дыма. – Грявная фвинья! – добавил он, имея в виду Бики.
– О да! – поддакнул Юрко.
– Надо и мне пойти к дантифту… – все так же задумчиво прошамкал Штерц и послал в воздух великолепнейшее голубое колечко.
Тем временем владелец завода, возглавляющий карательный отряд, уже вошел в царство модельщиков, где в нос ударял смешанный запах клея, лака, опилок и стружки. Там работали восемь мастеров и трое подручных. Неподалеку от входа молодой подручный с помощью наждачной шкурки заканчивал отделку деревянной модели гладкого шкива, в углу булькал клей и стояли наготове серый, красный и черный лаки; второй подручный обтачивал какую-то деталь острым, как бритва, косым мезером; третий с реером в руках склонился над токарным станком, работающим с педальной ременной трансмиссией; мастер переносил на заготовленные липовые щиты цеховой чертеж; пятый что-то строгал; лишь один из подручных бил баклуши – новенький, никогда не видевший раньше Майра; погруженные в работу, не подымая головы, они пробормотали что-то вроде ответного приветствия, когда господин Хуго Майр громко и поразительно дружелюбно пожелал им доброго дня. В руках второго подручного слегка дрогнул мезер, и он, побелев как полотно, судорожно вцепился в него, пронзенный мыслью, что вдруг выдержка изменит ему, он ринется на человека с птичьей головкой и всадит резец в его грудь; уже всему заводу была известна судьба, постигшая Густава Бики, ибо двое рабочих, находившиеся во дворе, собственными глазами видели, как полицейский и сыщик вели парня к воротам; лицо его было в ссадинах, кровь заливала рубашку. Эти случайные очевидцы были столяры; они вдвоем тащили большое бревно, что-то такое сказали относительно полицейских ищеек и с бревном на плечах безотчетно приблизились к тем троим; тогда сыщик выхватил револьвер, подал знак полицейскому не спускать глаз с арестованного и без всяких церемоний направил дуло револьвера на двух столяров. Рабочие с тяжелым бревном на плечах не двинулись с места и угрюмо смотрели, как выводят за ворота их товарища.
– Дерьмо, вот кто мы, – проговорил тогда один из них.
Второй пожал плечами, и они, обливаясь потом, сгорая от стыда и терзаясь угрызениями совести, отправились дальше со своей нелегкой ношей – у обоих было такое ощущение, будто им наплевали в глаза.
Владелец завода, обменявшись несколькими словами с мастером цеха модельщиков, в конце разговора протянул ему руку – жест, который у этого надменного аристократа с птичьей головкой означал величайшую милость, – и при этом на лице его мелькнула тень какого-то подобия улыбки. Мастер даже крякнул, а когда Майр удалился в сопровождении свиты, он стал внимательнейшим образом рассматривать свою ладонь.
– Не мой ее теперь целых двадцать пять лет! – посоветовал ему подручный, работавший косым мезером.
– Я бы плюнул ему в ладонь, – сказал один щупленький человечек.
Ему никто не ответил.
– Товарищи… – раздался чей-то голос.
Господа перешли в литейный цех номер один. Впереди шагал владелец завода, рядом выступал с гнусной ухмылкой управляющий Чёфалви, в полушаге от них следовали два сыщика; замыкая шествие, плелся рыжеусый мастер Мар, которому всей душой хотелось сейчас находиться за тысячу километров отсюда. Владелец завода заглянул в цеховую контору; главный инженер, весь красный, бранился с крановщиком из-за каких-то блоков; крановщик лишь пожимал плечами, а главный инженер, увидев шефа, замолчал и поднялся с места. На лице его мелькнуло выражение растерянности.
– Позови мастера, – приказал он одному из учеников, затем предложил шефу стул. Майр отказался и высокомерно кивнул.
– Мы пройдем дальше, – сказал он Чефалви.
Они обошли огороженную часть стержневого отделения; оба сыщика смотрели во все глаза, так как впервые в жизни оказались на чугунолитейном заводе; из обрубщиков работали всего двое, да и те были только подручные – сейчас там стоял галтовочный барабан с разнообразными проволочными щетками.
В первой вагранке выплавка шла уже к концу; сыщики то и дело настороженно поглядывали назад; кто-то из формовщиков позади группы вновь прибывших потряс кулаком; первый сыщик пристально посмотрел на него, а второй пронзил его колючим взглядом.
– Никудышный ватерпас! – сказал тогда рабочий своему товарищу, зевнул и почесал обнаженную грудь. – Сколько ни трясу, все равно заклинивает! – В руке он действительно держал ватерпас.
Первый сыщик побагровел.
– Погоди ты у меня! – пробормотал он.
Майр со свитой подошел к вагранке. Сыщики, до сих пор то и дело поглядывавшие назад, вдруг попросту повернулись лицом к выходу, и на этот раз у них были для этого серьезные основания: в дверях литейного цеха показались оба поручика, они с надменным видом шагали среди куч литейного песка; у поручика, более щуплого на вид, в глазу торчал монокль, нос у него был распухший и красный. Поручики Штерц и Юрко страшно заскучали, сидя в томительном ожидании в кабинете, и решили присоединиться к карательному отряду.
– Мовет быть, неффафного Хуго уве убивают, – сказал Штерц встревоженно, – мовет быть, он фильно нувдаеффа в наф, а мы тут покуриваем фигары.
Они спустились во двор, обошли несколько цехов и встретили наконец бедного Хуго, которого чуть не хватил удар, когда он узрел шишкообразный нос Штерца. Владелец завода далеко не был слеп и прекрасно видел горящие от ненависти взгляды, которые рабочие метали в их сторону; не ускользнули от его внимания и хмурые лица людей, и то, как они с предельной лаконичностью отвечали на его вопросы, как мрачно поглядывали на двух сыщиков и особенно на мастера Мара, с каким упрямством склонялись они над работой.
«Именно сейчас обуяла их спешка! – думал он, захлестываемый желчью. – Бездельники… Десять крон почасовой оплаты!»
Однако он ничем не выказывал клокотавшей внутри его испепеляющей злобы. Пускай рабочие притворяются, будто не замечают его, пускай делают вид, что именно в этот момент им всем приспичило что-то наладить: переставить подальше опоку, сложить наверх болванки, подобрать шестерни, поправить цепь крана, покрасить вентиляционные трубы, просеять песок, – прекрасно, пускай они его не замечают!
«Все будет потом по-иному», – думал Майр.
Но тут, как на грех, у него за спиной раздался мощный голос его бестолкового шурина:
– Конеф владыфеффу крафных мервавфев! – Штерц выпятил грудь колесом, лихо лягнул ногой опоку и вдруг охнул. Кто-то засмеялся. Майр закусил губу.
«Он спятил! Наверняка хватил лишнего! – мелькнуло у Майра подозрение. – Ведь сегодня целое утро словно…»
Перед желобом первой вагранки стоял пожилой здоровяк и влажной тряпкой вытирал пот на груди и плечах. Его сомовьи усы слиплись и нависли над губами.
– Добрый день, – сказал Майр сдержанно, однако сопровождая приветствие кивком, не лишенным известной доли дружелюбия.
Этот человек в нужный момент умел отлично маскировать свое высокомерие, да и ненависть тоже. Литейщик кивнул ему в ответ. Майру кровь ударила в голову.
– Я сказал – добрый день! – отчеканил он.
– Ва-аш ни-ижа-айший слуга-а! – не своим голосом завопил вдруг старый рабочий.
Сзади послышался смешок.
– Я не-е слы-ышу! Мы от-ли-или, милостивый государь!.. – продолжал вопить старый Йеллен и приложил к уху ладонь.
Лицо его, освещенное ослепляющим сиянием расплавленного металла, от натужного крика сделалось пурпурным.
«Великолепный человечище», – подумал Штерц; он протолкался вперед и похлопал старого Йеллена по потному плечу.
– Вы молодчина! – похвалил он.
«Идиот», – пронеслось в голове Йеллена, и он отвернулся.
«Это наш человек!» – думал Штерц.
Майр был совершенно иного мнения. Он испытующе смотрел на старого литейщика, – ему показалось, что тот просто над ним насмехается.
Сзади вдруг кто-то громко чихнул – быть может, это чиханье тоже было насмешкой?
– Бе-ерегись! – зазвучал с высоты крик подручного крановщика.
Он уже был на кране. Напрягаясь, скрипели блоки, люди отодвинулись дальше, ковш с носком, наполненный жидким, добела раскаленным металлом, поднялся в воздух – в нем кипело несколько сот килограммов расплавленного литья; мост крана сделал едва заметный поворот, цепь заскрипела снова, огромный железный крюк с ковшом побежал назад, он уже был у середины кранового моста.
– Бе-ереги-ись! – вновь раздался надрывный крик подручного крановщика.
Поздно! О ужас!
Гигантский ковш накренился, послышался странно визжащий звук.
Майр в мгновение ока отпрыгнул назад, ковш грохнулся на бетонный пол, послышался чей-то истошный вопль, на поверхности разлившегося по полу белого металла мелькнули две дрыгающие ноги, вспыхнуло пламя, потом взметнулись клубы серого дыма, чудовищный жар обжигал лица, так что в ту сторону нельзя было смотреть, запахло смрадом костей и тряпья – вот и все, что осталось от человека: мастера Мара не было видно нигде, лишь медленно расплывался белый металл – несколько центнеров дорогостоящего литья; серый дым, стлавшийся над его поверхностью, уже рассеялся, но жара буквально валила с ног, и приходилось пятиться все дальше и дальше от раскаленной белой металлической лепешки.
Поручик Штерц стоял к ней ближе всех, на него обрушился каскад искр, он чувствовал, что задыхается, хотя находился от разлившегося металла на расстоянии нескольких метров; и он закричал что было сил, а старый Йеллен схватил ведро с водой и опрокинул его на голову Штерца; еще какой-то рабочий подбежал с ведром, вон и с третьим ведром мчится кто-то, но этого третьего Штерц остановил еще более страшным воплем. А тем временем белая металлическая лепешка медленно-медленно краснела.
Вся эта сцена разыгралась буквально в одно мгновение. Никто не получил ранений, лишь у нескольких человек болели глаза и кожа на лице нестерпимо горела.
Майр был бледен как смерть. В сопровождении свиты он тотчас покинул литейный цех номер один; поручик Штерц плелся за зятем, в его изящных лаковых офицерских ботинках хлюпала вода, элегантный мундир болтался, как тряпка, с мундира стекала грязная жидкость, две золотые звезды на высоком воротнике потускнели.
– Э-э-э… – тянул Штерц и кряхтел.
Его пришлось ударить по спине, так как лицо его приобрело уже лиловатый оттенок, легким не хватало воздуха – поручику грозил апоплексический удар.
Майр, не мешкая, позвонил в Главное управление полиции и попросил прислать подкрепление.
– Видишь ли, сделать это чрезвычайно трудно, – ответил ему главный инспектор полиции Б., – ты же знаешь, я в самом деле… У тебя и так четверо моих людей, а в настоящее время, когда наш аппарат еще не укомплектован… И по такому приватному делу…
В конце концов он все-таки пообещал прислать комиссию.
Майр приказал запереть заводские ворота; рядом с привратником сидел сыщик с довольно-таки неуверенным выражением лица и непрерывно ощупывал свой револьвер… Если бы рабочим вдруг вздумалось…
В литейном цехе номер один все были мрачны. Подручный крановщика спустился с крана.
– Я ничего не мог сделать, – оправдывался он, – ржавые цепи…
Главный инженер ругался. Словно град, сыпались проклятия. Посреди цеха разлитый металл уже остывал и сделался серым, но все еще курился, словно какая-то чудовищная коровья лепешка. Подручный крановщика был бледен, пожимал плечами и поминутно разглаживал усы. В полдень он навсегда исчез с завода, и никто никогда не узнал, что сталось с ним.
…Так в пятый день августа 1919 года, во вторник утром господин Хуго Майр вновь вступил во владение чугунолитейным и машиностроительным заводом Ш., расположенным на улице X.
Глава шестая
– Это самый скучный военный министр Венгрии со времен поражения под Мохачем! – заявил утром 5 августа толстенький Бела Зингер во дворе 16-го гарнизонного госпиталя, стоя перед последним свеженаклеенным воззванием Йожефа Хаубриха:
«В последние дни безответственные, потерявшие совесть элементы как из числа гражданских лиц, так и бывших политических комиссаров от имени рабочего класса ведут подрывную деятельность, используя напряженную обстановку, чтобы всевозможными жуткими россказнями посеять тревогу среди доверчивого населения. Такое коварство может дать повод к различным конфликтам…»
И т. д. и т. п.
– При чем тут поражение под Мохачем? – сказал капрал с повязкой красного креста на рукаве. – Послушайте! Вы, как я вижу, из Будапешта. Ну и не прикидывайтесь дурачком.
– Сегодня вторник, – жалобно промолвил Бела Зингер. – Сорок восемь часов назад я притопал домой из итальянского плена. С тех пор я непрерывно занят тем, что читаю полное собрание сочинений Хаубриха. От этого я чуть не ослеп. И вот что мне хотелось бы сказать…
– Ну? – выжидательно спросил капрал и с опаской огляделся.
К ним приближался какой-то офицер.
Зингер пожал плечами.
– Я молчу.
Офицер прошел мимо.
– Вы, наверно, редактор? – осторожно осведомился капрал.
Сам он был из Ференцвароша и служил официантом в кафе.
– С чего вы взяли? – польщенный, спросил Зингер.
– С виду вы похожи на еврея, – ответил капрал. – Знаете ли вы, что это за дурацкая трепотня?
Зингер вместо ответа ткнул пальцем в воззвание.
– Да, – подтвердил капрал. – Дубинкой и свинцом гладят таких, как мы.
Оба замолчали.
– Вот именно, – отозвался наконец Зингер.
– Как вы это понимаете? – спросил капрал.
– Да так, – ответил Зингер, – без нарушения субординации!
Капрал остолбенел.
– Ну-у? – протянул он.
– Вот если бы мы вздумали выразить мнение, что военный министр непроходимый болван, – это, насколько я понимаю, было бы нарушением субординации!
– Ух ты! – восхитился капрал. – А я-то подумал, что вы обыкновенный разиня.
Зингер снова пожал плечами.
По тротуару, выложенному керамитовыми плитами и пролегающему среди барачных построек, шел Лайош Дубак; он опять был в поношенной солдатской одежде, которую его мать тщательно залатала, вычистила и выгладила. Уже издалека он стал махать рукой и казался еще более истощенным и жалким, чем когда бы то ни было.
– Кто это? – спросил капрал.
– Мой боевой друг, – ответил Зингер.
Когда Дубак приблизился, они увидели, что к гимнастерке его аккуратно пришиты капральские знаки различия, грудь украшают малая серебряная медаль за отвагу и военный крестик Кароя – награды, которые мать накануне вечером с помощью пасты «Шидол» отполировала до блеска, когда узнала, что сын ее утром должен явиться в гарнизонный госпиталь на предмет определения инвалидности и урегулирования вопроса о демобилизации.
– Вот уж напрасно вы сюда явились! – сказал капрал, узнав о цели их визита.
– Почему? – удивился Дубак. – Разве здесь нет врачей?
Капрал махнул рукой.
– Врачи есть! – сказал он, меряя Дубака недоверчивым взглядом.
– При нем можете говорить спокойно, – заметил Зингер, – как при родной матери.
Дубак чуть приосанился.
– Есть врачи, мамаша родненькая! – сказал капрал. – Пятеро врачей осталось. Два будайских дантиста – эти быстро нашли офицерские различия, – да еще три штабных – эти тут со вчерашнего дня; всякий раз, как я приношу им кофе, они спорят о каком-то ВСВС[12]12
Всевенгерский союз вооруженных сил.
[Закрыть]. Одни кричат: опять учредить! А старик уговаривает: ждите, мальчики!
– Кто этот старик? – полюбопытствовал Дубак.
– Полковник. В субботу приехал. Говорит, меня военное министерство прислало, я принял командование госпиталем. Двух санитаров посадил за решетку. Мне влепил пощечину, чтоб руки у него отсохли! Вчера и сегодня двести двадцать больных сбежало.
– Почему?
– Красноармейцы. Пришло известие, что румыны заберут их и интернируют. Здесь остались одни умирающие да мы. Если б не жалость к этим беднягам, я бы тоже…
– Выходит, здесь нам делать нечего, – констатировал Зингер. – А мы-то разлетелись!
Капрал махнул рукой.
– Спирт будайские дантисты выпили, – сообщил он доверительно.
Зингер и Дубак молчали.
– Нас замучили ежедневными приказами и воззваниями, – продолжал капрал. – Вчера тут даже один из секретарей Хаубриха был, капитан по фамилии Фаркаш; он совещался с этими будайскими дантистами и штаб-офицерами. Врачей из евреев да тех, кого они называли большевиками, к примеру двух хирургов, просто выпроводили – говорят в отпуск. А больные пускай подыхают! Вчера устроили мордобой – один врач не хотел уходить, потому, мол, больные и всякое такое.
– Это правильно! – перебил его Дубак.
– Тогда один из будайских дантистов схватил прозекторский нож. «Никаких скандалов!» – предупредил капитан Фаркаш. Тридцать два тяжелобольных, двенадцать умирающих и человек восемьдесят душевнобольных. Такова обстановка. Скорей бы уж румыны взяли нас под свою опеку. С первого числа больше рапортов, чем перевязочных средств… Могу предложить аспирин.
– Пяти врачей нам за глаза хватит, – сказал Дубак. – Речь ведь только о том…
– При чем тут аспирин? – с досадой бросил Зингер. – Не дури, – обратился он затем к Дубаку. – Слышишь, какое положение!
– Я желаю вам добра, – сказал капрал. – Относительно инвалидности лучше всего, господа, пойти вам на улицу Тимот или в сто второй госпиталь на Фехерварошском шоссе. Там вам скажут. Жаль только, что руки у вас целы, с руками будет трудновато. А если насчет демобилизации – вообще не ходите. Демобилизация в Будапеште вышла из моды; кстати, в казармах Марии Терезии уже румыны… Еще раз спрашиваю: аспирин нужен?
– Благодарю за внимание, господин официант! – ответил Зингер. – Благослови вас бог. Кстати, мы знакомы по кафе «Палермо».
– Ну конечно же! – воскликнул капрал и хлопнул себя по лбу. – А я с первой минуты ломаю над этим голову… Какой же я осел! Сосиски с подливкой… Второй столик у окна.
Зингер кивнул. И они подмигнули друг другу.
– Я не большевик, – тихо сказал капрал, – но сейчас эти… Я скромный человек из Ференцвароша.
Зингер взял Дубака за руку и потянул за собой. По выложенным желтым керамитом дорожкам, пролегающим среди госпитальных бараков, фланировали несколько солдат; у некоторых были повязки Красного Креста на рукаве. Появились два санитара с носилками. Впрочем, это были не просто носилки, а госпитальный катафалк, так называемое «корыто» для переноски мертвецов; там лежало прикрытое грязной простыней неестественно короткое человеческое тело. Очевидно, покойник был без ног. Лучи солнца припекали простыню. Навстречу носилкам шел молодой парень в солдатской фуражке, с палкой и вытянутой левой рукой – он был слеп, и сколько ни кричали ему санитары, он, беспомощно нащупывая воздух, в конце концов наткнулся на носилки, ощупал прикрытое простыней тело и испуганно вскрикнул. Поводырю слепого парня, пожилому ополченцу, отставшему от него на два шага, чтобы сделать самокрутку, крепко досталось от санитаров; а у этого поводыря голова была забинтована и казалась неестественно большой.
– Уже год, как кончилась мировая война, – нахмурившись, сказал Лайош Дубак, когда слепой с поводырем прошли. – Выходит, эти пострадали напрасно?
Зингер не ответил.
К ним приближался какой-то майор; вся грудь его была увешана орденами. Дубак согласно уставу отдал честь. Майор посмотрел на него удивленно.
Госпиталь являл собой картину полнейшего развала. Перед корпусом душевнобольных сидели на земле человек двадцать. Одни были одеты в форму серого цвета бывшей австро-венгерской пехоты. Другие были полураздеты. Третьи прикрывали свою наготу полосатыми госпитальными халатами, грязными и провонявшими.
– Какая тут страшная нищета, брат! – заметил Зингер.
Один душевнобольной солдат уплетал мамалыгу, пятеро других сумасшедших глядели ему в рот. Кто-то истошно визжал. Двое сидели неподвижно и пустым взглядом смотрели перед собой. Какой-то румяный тирольский егерь, увидав Зингера, крикнул: – «Ублюдок!» – и осклабился. У него были желтые лопатообразные зубы.
Сидевший рядом с ним длинноусый венгерский крестьянин поднял глаза.
– Донесение – повиновение! – сказал он с тихим упорством при виде Дубака.
Он говорил это беспрерывно. Целый год. Он сидел не шевелясь, а из уголков его рта стекала по подбородку слюна.
Какой-то фельдфебель с бессмысленным лицом обливался слезами.
Эти больные не являлись общественно опасными.
Зингер тянул Дубака к воротам.
Точно так же он тянул его за собой от Удине до дома, чуть ли не за руку, в течение долгих недель через кусты и канавы, через все превратности судьбы. Не будь Зингера, этот щупленький человечек по сей день гнил бы на соломе в бараке какого-нибудь итальянского лагеря для военнопленных. Хотя они многие месяцы лежали рядом на животе в укрытии за скалами, рядовой Зингер – его дважды лишали звания – лишь после того, как их взяли в плен, проникся симпатией к беспомощному Дубаку.
Когда тирольские егери стали обстреливать их из пулемета и забрасывать гранатами, Дубак вскочил и с ужасающим немецким произношением завопил:
– Алле! Мы австро-венгры, свои, пожалуйста, не стреляйте!
Он принялся в отчаянии размахивать руками – за эту жестикуляцию его чуть было не прикончили итальянцы. Тогда Зингер, сам едва не напустив в штаны от страха, схватил его за руки; не сделай он этого, Дубак так и стоял бы, словно статуя или дерево, под огнем австрийского пулемета. Именно тогда от своей же гранаты он получил нервный шок. В Удине они узнали о крушении монархии.
– Если ты собираешься сидеть тут и канючить от жалости к королю Карою, я уйду один, без тебя! – пригрозил ему Зингер, видя, как Дубак с его трясущейся головой едва удерживается от слез.
Они пробирались домой, преодолевая тысячи препятствий. Зингер, который был далеко не храброго десятка, приходил в ужас от всего: от берсальеров, железнодорожных станций, военно-полевых жандармов, словенских пограничников.
– Лучше покончить с собой! – однажды заявил он.
Дубак– наоборот. С трясущейся головой он брел, погруженный в апатию, имея весьма смутное представление о подстерегающих их повсюду опасностях. Так они добрались до Любляны.
– Отчего ты плачешь, дурень? – спросил его Зингер.
– Лайбах. Ведь это уже территория империи! – ответил Дубак, которого от всего пережитого, а может быть, просто от нервного потрясения, охватило нечто вроде австро-венгерского шовинистического угара.
Зингер не мог разубедить его, и Дубак пошел в какое-то бывшее австрийское здание, на фронтоне которого он обнаружил высеченного из камня в 1820 году и каким-то образом сохранившегося двуглавого орла. Сперва словенцы хотели арестовать его, но потом отпустили из-за трясущейся головы, угостив на всякий случай двумя затрещинами и пинком под зад. Когда Дубак в конце дня вышел от них, он сделался гораздо тише, голова его тряслась меньше, и до самого дома он больше не поминал ни военный трибунал, ни военное начальство. Достигнув границы, он окончательно очухался, и Зингер даже уговорил его воровать на полях кукурузу.
Сейчас они стояли у ворот госпиталя.
– Какой же это госпиталь! – сказал с возмущением Дубак.
Зингер пожал плечами.
– Не видно ни одного красноармейца! – сказал он озадаченно. – Здесь одни…
– Теперь куда? – перебил его Дубак.
– Пойдем домой и подумаем, – вдруг предложил Зингер. – Кстати, я здорово проголодался.
Они пришли к Зингерам на улицу Лаудон.
– Вот он, мой самый дорогой друг, мамочка, о котором я тебе рассказывал! – так представил Зингер Дубака своей матери.
– Рада видеть вас, – сказала толстая женщина. – Вы не поэт? – спросила она тут же, с недоверием разглядывая его.
Дубак молчал.
– О каком поэте вы изволили… – спросил он наконец.
– Ну, тогда другое дело, – успокоившись, сказала мать Зингера, – а я уж подумала… Тебя искал господин Каноц! – обратилась она к сыну и затем пояснила Дубаку: —Вот тот действительно поэт!
У Дубака голова пошла кругом, из всего сказанного он не понял ни единого слова.
– Пойдем в комнату, – пригласил Зингер.
Там их встретил непомерно жирный, горбатый пес; он глухо зарычал при виде незнакомого человека, потом бросился на Дубака и пытался укусить его за тонкие ноги, обернутые в серые солдатские обмотки. Но у старого неприветливого животного был всего один зуб справа; пес в отчаянии прижимал свой единственный зуб к обмоткам, помусолил их, потом, удовлетворенный, заковылял на свое место, улегся на пол и смотрел на обоих друзей, моргая подслеповатыми глазами.
– Его зовут Доди, – объяснил Зингер, любовно глядя на эту отвратительную тварь. – Он раньше здорово кусался, но бедняжке уже тринадцать лет и у него всего один зуб. Верно, малютка? – засюсюкал он вдруг, приседая перед псом на корточки и почесывая у него за ушами.
Пес опрокинулся навзничь и задрал кверху все четыре лапы. Тут вошла мать Зингера с тарелкой в руках, на которой лежали четыре ломтя хлеба, намазанные жиром, и два стручка сладкого перца.
– Так, значит, вы не поэт, – сказал она. – Пожалуйста, поешьте. Не пугайтесь, это кошерный гусиный жир!
Дубак и Зингер принялись за еду.
– Мама не любит людей искусства, – со снисходительной усмешкой заметил Зингер, когда мать вышла.
О, это была святая правда! Мать сорокалетнего Белы Зингера, подозрительная торговка подержанным платьем с улицы Лаудон, в самом деле терпеть не могла людей искусства, их она обвиняла в неудавшейся судьбе своего сына, а иногда даже – и, надо сказать, не без причины – в неудовлетворительном состоянии торговли. Сын же ее увлекался всеми видами искусств и лишь половину души вкладывал в торговлю подержанным платьем; но, истинной его слабостью была поэзия. Когда ему было двадцать лет, газета «Рендкивюли уйшаг» напечатала его стихи, и это обстоятельство роковым образом сказалось на всей его дальнейшей судьбе и даже на торговле подержанным платьем. Страница «Рендкивюли уйшаг» висела на стене в позолоченной раме – сейчас ее Зингер снял. Стихи назывались «Мое сердце». Подпись: Бела Шугараш.