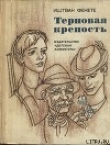Текст книги "Позорный столб (Белый август)
Роман"
Автор книги: Кальман Шандор
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
– А, турки! – весьма неодобрительно изрек Каноц. – Они здорово угрожают интересам иностранных держав в Малой Азии. С двадцать третьего июня в Париже сидит персидская делегация, а Антанта не желает слушать бедняг. Вот я и спрашиваю, почему не слушает?
Он обвел сотрапезников вопросительным взглядом, но ответа не получил. Тогда Каноц с внезапной решимостью вытащил из кармана и разложил на столе подписной лист, на котором сверху красовался венгерский герб с короной святого Иштвана, а с боков были прилеплены какие-то ангелы с распростертыми крыльями. Один бог знает, где он раздобыл такую нарядную бумагу.
– Как посмотришь, сердце радуется, – сказал Каноц, тыча указательным пальцем с грязным ногтем и кольцом с печаткой в святую корону.
Затем, призвав на помощь все свое красноречие, он расписал, насколько велико значение готовящегося издания, в котором особая глава будет посвящена доблести венгерских коммерсантов, сражавшихся на разных фронтах! При этом он в упор смотрел на Зингера.
– Подписать надо здесь! – неожиданно выпалил он.
– Но я… – начал было Зингер.
Каноц отмахнулся.
– Вероисповедание не имеет, значения! – великодушно сообщил он.
Зингер больше не возражал; на столе появились перо и чернила.
– Наименование фирмы» будь добр! – напомнил Каноц.
– Фирмы? удивился Зингер. – Ведь она, собственно говоря, стала общественной собственностью… а магазин совершенно пуст!
Он вопросительно смотрел на Каноца, но тот опять отмахнулся, подождал для большего эффекта несколько секунд, затем сказал:
– Был ли он общественной собственностью, просто ли был закрыт – это не важно. – Слушайте! – Он откашлялся и торжественно возвестил: – На вчерашнем заседании совета министров все банки, предприятия, заводы и фабрики, а также магазины, бывшие общественной собственностью, решено возвратить прежним владельцам; декреты Советской республики относительно этого мероприятия отменены законом. Милостивые государи! Все точно! Итак, конец твоему комиссариату портков, мой Зингер, – заключил он, и его чудовищный нос засиял от чувства собственного достоинства.
Дубак и Зингер замерли. Каноц, сощурившись, наблюдал за эффектом своих слов; возможно, он ждал, что последуют овации.
«Тогда и господин Берци…» – подумал Дубак.
И вдруг захлопали чьи-то невидимые крылья, но то были вовсе не крылья ангелов. В комнате ли раздался этот шуршащий звук или снаружи? Над городом или над страной пролетала какая-то большая темная птица? А может, сливянка явилась причиной, вызвавшей этот звук? Или просто скрипело перо, когда Бела Зингер старательно выводил на бумаге, украшенной ангелами, имя воскресшей фирмы Маркуша Зингера?
Получив, подпись, Каноц вновь приложился к стакану и взял лист.
– А вы? – обратился он к Дубаку. – Ведь вы тоже были героем, я вижу у вас малая серебряная медаль…
– Я не фирма, – обалдело ответил Дубак.
Каноц удовольствовался этим ответом, заботливо упрятал лист в карман, выпил на прощанье еще сливянки, затем с трудом поднялся и деревянной походкой удалился с неприступным видом в своих белых полотняных брюках, не достающих до лодыжек.
Друзья молча сидели за столом. Баранье рагу покрылось толстым слоем жира.
– Так это была пресса, – прищурившись, сказал Дубак.
Зингер опустил глаза и криво усмехнулся.
– Все-таки мы с тобой дома, старина. – И он положил руку на плечо друга.
– Застыл баран! – проговорил тогда Дубак и внезапно расплакался.
Слезы катились по его щекам и стекали на рыжеватые усики, а на кончике носа долго висела одна упрямая капля.
– Баран! – всхлипнул он, затем решительно схватил стакан и залпом выпил вино.
– Что с тобой? – спросил озадаченный Зингер, в упор глядя на своего друга.
– От меня ушла жена, – медленно произнес Дубак.
Лицо его было мокро от слез, но он уже больше не плакал, даже голова его сейчас не тряслась, и он смотрел другу прямо в глаза.
– Если баранину разогреть, она еще будет вкусной? – спросил он.
– Не важно! – сказал Зингер.
– Не важно? – не понял Дубак. – Ты о чем?
Зингер в замешательстве смотрел на скатерть.
– Беру свои слова назад, – спохватился он.
Оба замолчали. Зингер погладил Дубака по руке.
– Тяжело, – сказал он. – Потом…
– Мне стыдно, оттого что я нюни распустил, – сказал Дубак. – И место потерял. Господин Берци не примет меня обратно.
– Начхать на господина Берци! – заключил Зингер.
– Я пойду домой, – сказал Дубак, – уже больше двух часов, мой Лайчи дома один, мама, наверно, ушла стирать… Вот так! – Он смотрел на Зингера и в то же время краешком глаза поглядывал на остывшее рагу.
Зингер, не говоря ни слова, встал, вышел в кухню, послышалось звяканье посуды, потом он возвратился и поставил на стол синюю эмалированную двухлитровую кастрюлю. Дубак смотрел во все глаза, а Зингер тем временем снял крышку и принялся большим половником перекладывать остывшую баранину в принесенную кастрюлю, капая подливкой на белую скатерть.
– Галушки можно разогреть вместе с рагу, – сказал он.
– Что ты делаешь? – спросил Дубак.
– А ты не зазнавайся, – сказал Зингер. – Отнесем Лайчи и твоей матери – может, нас не выставят.
– С чего это мне зазнаваться? – сказал Дубак, и на душе его потеплело.
Зингер накрепко привязал толстым шпагатом крышку к ушкам кастрюли, затем увязал кастрюлю в пеструю салфетку, завернул в бумагу огурец и хлеб.
– Вот это да! – смущенно воскликнул Дубак.
Зингер отлил из бутыли сливянку в небольшую, поллитровую флягу.
– Ну, это уж… – начал было Дубак.
– Молчи! – прикрикнул на него Зингер. – Старухи любят иногда пропустить стаканчик сливянки, это всем известно.
Они уже собрались отправиться в путь, но тут заскулил старый пес и с такой тоской глядел на них, что у Зингера защемило сердце.
– Отведем его к твоему сынишке, – решил он вдруг. – Во всяком случае, забава верная! Додика, гоп! – скомандовал он, надевая на пса ошейник.
Он наклонился к нему, но пес, поморщившись, отвернул голову – ему определенно не понравился запах винного перегара.
– Какой же ты у нас привередливый! – с упреком заметил Зингер.
Пес завилял хвостом.
Поводок заменила толстая веревка, и они двинулись в путь. Впереди с гордым видом, потявкивая от радости, вышагивал на веревке пес Доди, за ним следовал Зингер, у которого из левого нагрудного кармана торчала фляга со сливянкой; Дубак нес кастрюлю с рагу, увязанную в пеструю салфетку; шли они медленно и не особенно уверенным шагом, виной чему отчасти был Доди, который плелся, едва переставляя лапы. У обоих друзей были краевые уши. Зингер что-то мурлыкал себе под нос. Наконец рви вышли на проспект Андраши. Там в этот послеполуденный час царило оживление. Правда, все магазины до единого были закрыты: бакалейная лавка, галантерейный магазин, бельевой, парфюмерный, табачный, магазин игрушек, перчаток, мужской галантереи, бюро рекламы, книжный магазин и даже кафе. Кое-где за спущенными железными шторами возрожденные частные владельцы производили инвентаризацию; они расположились в глубине магазинов, которые фактически самочинно вернули себе уже несколько дней назад, воспользовавшись хаосом, и которые благодаря декрету правительства Пейдла, состоявшего всего из нескольких строк, теперь «юридически» вернулись к своим прежним владельцам. Инвентаризация производилась и в галантерейном магазине Берци и Тота. Сердце Дубака заныло, когда он увидел, что на дверях магазина сняты засовы и нет висячего замка, а через щель в шторе пробивается слабый свет. И вдруг, словно видения, в глубине магазина мелькнули две фигуры без пиджаков. Это были господа Енё Берци и Тивадар Тот, его хозяева, с которыми теперь у него не было ничего общего. Он нес в руках холодное баранье рагу, на груди его висела малая серебряная медаль, на воротнике красовались поблекшие капральские звездочки, и у него болело сердце – ах как болело его бедное сердце! На дверях большинства магазинов висели огромные замки; прошло всего двадцать четыре часа, как чужеземные войска вступили в город.
Почему торговцы Будапешта в этот день держали магазины запертыми? Происходило это по многим причинам.
Во-первых, из-за отсутствия товаров. Во-вторых, оставалось невыясненным, чьей собственностью следует считать товар, имеющийся в магазине или лавке. Центральные торговые ведомства находились в стадии ликвидации, а большинство магазинов и лавок во время Советской республики являлись хранилищами товарных фондов этих ведомств и в то же время по отдельным отраслям в сети розничной торговли частично оставались собственностью владельцев. В-третьих, торговцы боялись разграбления магазинов и товарных складов. В-четвертых, нельзя было сбросить со счетов уличные манифестации, во время которых – так по крайней мере утверждали старые торговцы, в особенности торговцы шляпами и чулками, имевшие немалый опыт, – по издавна установившейся традиции в VI районе Будапешта народный гнев, вместо того чтобы, скажем, обрушиться на голову Йштвана Тисы, Шандора Векерле или председателя палаты магнатов барона Дюлы Влашича, с незапамятных времен в конечном итоге обрушивался на головы торговцев шляпами и чулками и пекарей. В результате вдребезги разбивались стеклянные витрины их магазинов. Согласно утверждению торговцев, кто бы в этом районе Будапешта ни вышел на улицы с манифестацией, будь то сторонники христианской народной партии во главе с Кароем Хусаром и Иштваном Халлером, или какого-нибудь избирательного блока, или демобилизованные таможенники, разъяренный народ с неизменным постоянством только таким образом расправлялся с зажиточными гражданами с тех давних пор, как он по повелению австрийского императора Евгения Савойского вновь отбил у турок Будайскую крепость. То была священная народная традиция вплоть до октябрьской революции 1918 года, когда на витринах появились широкие ленты из белой бумаги с надписью: «Под охраной национального совета», а с марта: «Всенародная собственность! Оберегайте!» – когда, к величайшему прискорбию торговцев, разом прекратилось битье окон и наконец-то вместо витрин их магазинов стало доставаться членам палаты магнатов. Но к тому времени бывшие владельцы уже не имели никакого права на свои магазины. Зато владельцы магазинов на проспекте Андраши, эти толстобрюхие лакействующие мелкие деспоты капиталистического общества, эти потирающие руки и заискивающие в присутствии покупателей крохотные идольчики – разумеется, за исключением тех времен, когда свершилась пролетарская революция и когда они, естественно, ненавидели государственную власть, – всегда становились на сторону конной полиции и даже раскормленных полицейских коней!
Пятой причиной, почему они держали магазины запертыми, была полная неопределенность в финансовых делах. Торговцы не желали продать ни единой коробки зубочисток за бумажные деньги!
Что же происходило в эти дни с деньгами? Согласно политической экономии классического либерализма, валюта обладает тремя превосходными свойствами: надежным мерилом стоимости, постоянным средством обмена, отличным средством накопления капитала. И вот три эти незыблемые свойства денег просто превратились в дым… То есть сделалась ненадежной даже сама возможность вообще говорить о каких бы то ни было деньгах в их рикардовском значении в Венгрии 5 августа 1919 года, ибо в качестве легального платежного средства в обращении находилось невероятное количество всевозможной дребедени – денежные знаки различной эмиссии: банкноты, кредитные билеты, ассигнации, боны, заменяющие деньги, разменная монета, – и никто не знал, кто за них отвечает, какова их реальная ценность и какая судьба их ждет. Главным образом в обращении, находились деньги синего цвета достоинством в десять, двадцать, пятьдесят, сто, тысячу и десять тысяч крон Австро-Венгерского банка, которые в обиходе назывались просто «синие деньги». Затем шли напечатанные только на одной стороне билеты в двадцать пять и двести крон, также выпущенные Австро-Венгерским банком; это. были так называемые «белые деньги», причем белые деньги были двух родов: напечатанные до и после 21 марта. Кроме того, имелись денежные знаки зеленого цвета почтовой сберегательной кассы в пять, десять и двадцать крон – «почтовые деньги». В качестве бумажных разменных денег в обращении находилась узенькая синеватая купюра в одну крону и красная – в две кроны; далее – боны, заменяющие пятьдесят филлеров и одну крону, которые выпускались разными городами и даже транспортными предприятиями, – так называемые «чрезвычайные деньги». В качестве разменной монеты обиходными сделались военные металлические двадцатифиллеровики, изготовленные из какого-то особенного сплава, и так называемые «кукурузные» десять филлеров; далее – правда, в редких случаях – поступали в обращение никелевые монеты в двадцать и десять филлеров. Металлические крейцеры были полностью обесценены, превращены в детскую игрушку, ибо покупательная способность их сделалась настолько ничтожной, что просто не принималась в расчет; бронзовые монеты в два и один филлер вообще исчезли из обращения, их якобы собирали сельские хозяева, главным образом хозяева виноградников, чтобы, растворив в серной кислоте, получать из них медный купорос.
Австрийские и венгерские экономисты в течение ряда десятилетий отрицали тот факт, что в монархии по существу наличествует «биметаллизм», то есть валюта, основанная совместно на двух металлах – на серебре и на золоте.
– Вздор! – заявил как-то в парламенте всегда сдержанный министр финансов Шандор Векерле, сверкая глазами, когда некое – в политической экономии совершенно не сведущее! – независимое лицо в связи с предписанным законом обращением серебряных денег установило, что австро-венгерская валюта, включая и разменную монету, в сущности является так называемой «хромой валютой», ибо обеспечивающее ее золото опирается на костыль из серебра. И Векерле был прав: из этих теоретических споров, которые десятилетиями вели верноподданные императора, убеленные сединами ученые мужи, с оппозиционно настроенными элементами, нередко по представлению министра рождались великолепные императорские и королевские награды, титулы и даже персональные пенсии для ревностных идеологических поборников белоснежного плаща австро-венгерской валюты! Этот спор австрийского капитализма, сросшегося с крупным венгерским помещичьим землевладением, продолжавшийся несколько десятилетий, теперь наконец был разрешен: серебряные монеты достоинством в одну, две и пять крон на протяжении ряда лет ни теоретически, ни практически не могли уже действовать ни в качестве второго металла, ни в качестве костыля, ни в качестве разменной монеты, так как большинство их притаилось в провинции, найдя убежище в кубышках и соломенных тюфяках, а в городе их продавали и покупали по номиналу, всем хорошо известному; пускай они были когда-то «вторым металлом», пускай «костылем» или только «разменной монетой», но из чеканных серебряных денег они давно превратились в товар! И было наконец нечто, что профессорами и плешивыми королевскими советниками считалось единственным денежным средством, – это было золото. Из этого благородного металла чеканили монеты в десять, двадцать и сто крон. Но за несколько недель, предшествовавших началу мировой войны, золотые монеты совершенно исчезли из обращения. В либеральной денежной теории и в капиталистическом хозяйстве царил полный хаос. Со времен мировой войны этот хаос в денежной системе – один из непременных спутников загнивающего капитализма – так и не исчезал. По этому поводу Дюла Гёмбёш, будущий премьер-министр Венгрии, отвечая на одну интерпелляцию в парламенте, заявил со свойственной ему солдатской прямотой:
– Пускай примут к сведению некоторые господа, что времена либерализма навсегда канули в вечность!
Итак, Гёмбёш оказался прав: система свободной торговли «мирного времени», регулируемая в мировом хозяйстве лишь кое-какими валютно-финансовыми ограничениями или таможенными барьерами, никогда больше не была восстановлена в Европе; по прошествии нескольких неустойчивых переходных лет эта система постепенно, но окончательно была вытеснена гораздо более жесткой формой торговли загнивающих и ожесточенно конкурирующих между собой национальных капиталистических монополий: государственными импортными ограничениями, системой связанного хозяйства и, наконец, фашистской «национальной» автаркией господствующих классов, ведущих подготовку к новой войне. Австро-венгерская крона со времени краха в 1918 году в Цюрихе официально не котировалась: по последнему курсу на 30 октября 1918 года за 100 крон давали 49,7 швейцарского франка, тогда как в 1913 году за те же 100 крон можно было получить 105,02 швейцарского франка.
В этот августовский день, когда пес Доди, Зингер и Дубак с бренными останками барана в кастрюле плелись по проспекту Андраши, самые отважные спекулянты в стране за 100 швейцарских франков давали 1123 кроны 60 филлеров в синих деньгах. Сделок они, однако, как правило, не совершали; безудержная спекуляция началась лишь тогда, когда волна контрреволюции целиком захлестнула страну и правительства Пейдла специальным декретом восстановило синие австро-венгерские банкноты как законное платежное средство.
Однако на проспекте Андраши, несмотря на то, что на дверях магазинов висели замки, было весьма оживленно; по мостовой курсировали румынские патрули, по тротуару прохаживались гуляющие штатские, матери толкали впереди себя детские коляски, время от времени проезжали легковые машины, в которых сидели румынские офицеры или члены миссии Антанты; изредка в машинах можно было увидеть и особ в гражданском платье, которые имели отношение к правительству или руководству активизировавшейся социал-демократической партии. В базилике непрерывно звонили колокола, на проспекте императора Вильгельма на буферах и даже на окнах трамваев висели пассажиры; на углу стояли двое молодых людей – на голове одного из них краснела окровавленная повязка и все лицо было в синяках. Этого юношу иудейского вероисповедания в то утро били в актовом зале члены Союза пробуждающихся мадьяр, когда он держал экзамен в политехнический институт; это было первое побоище в высшем учебном заведении Венгрии, которое явилось интродукцией к продолжавшейся затем в течение двадцати пяти лет драме, по ходу действия которой совершавшие из провинции вояж приказчики барских поместий, стажеры-нотариусы, молодые комитатские писцы, располагавшие членским билетом Союза пробуждающихся мадьяр, в сообществе со знакомыми студентами всегда могли преспокойно избивать в высших учебных заведениях евреев. Там они находились под надежной защитой университетской автономии, а полиция не смела переступить университетский порог даже в том случае, если бы она этого и пожелала; ректор же остерегался вызывать под своды «alma mater» неправомочных блюстителей порядка.
Пес Доди залаял на студента политехнического института с перевязанной головой – должно быть, вид крови вызвал у него сильное возбуждение.
Дубак в этот момент с некоторой тревогой думал о матери – хмель уже начал испаряться из его головы; у Зингера, наоборот, опьянение начало сказываться именно сейчас, и он, пуская заливистые трели, стал вместе с Доди переходить улицу Фюрдё у площади Йожефа, где их обоих едва не сбила серая легковая машина; взвизгнули тормоза, военный шофер помянул «большевистскую морду» Зингера и собирался разразиться отборной бранью, когда его пассажир, мужчина в капитанской форме с хищным выражением лица, секретарь военного министра Тивадар Фаркаш, приказал немедленно гнать дальше. Шофер нажал на клаксон, дал газ, и машина вновь понеслась, держа путь прямо на Алчут, – секретарь военного министра по поручению объединенных контрреволюционных партий должен был экстренно доставить в Будапешт эрцгерцога Иосифа Габсбургского. Лайош Дубак разглядел в машине у ног капитана даже ручной пулемет. В этот жаркий день на пути служебной машины военного министерства, находившегося под эгидой социал-демократов, действительно не было никаких преград, кроме кругленького Зингера, жирного пса Доди и натянутой между ними толстой веревки. Ни румыны, ни полиция, ни жандармерия не могли помешать выполнению подобной миссии. Зингер и пес смотрели вслед большой серой машине, стремительно несшейся по улице Надор. Утром следующего дня эта же машина доставила в Будапешт Иосифа Габсбургского, который остановился в отеле «Бристоль», буквально в двух шагах от Хаубриха, и тотчас изъявил готовность принять к сведению отставку правительства и заместить вакансию регента-правителя Венгрии.
Экспедиция по переноске бараньего рагу встретилась на улице Надор еще с одним видом транспорта; то была широкая грузовая подвода, запряженная двумя большими спокойными лошадями, груженная всевозможными мешками и ящиками, которая как раз отъезжала от дома номер восемь, куда один из сидящих на козлах людей только что внес большой мешок; мешок внес не здоровенный извозчик, а сидящий с ним рядом сутулый седой человечек.
– Я чувствую запах сливянки! – принюхиваясь, воскликнул возчик, когда мимо них прошествовали Зингер и Дубак.
– Послушайте, вы, болтун! – одернул его Штраус. – Не привлекайте к себе внимания.
У Штрауса имелись все основания быть недовольным возчиком, ибо в этот дом, к тетушке Йолан Фюшпёк, они привезли чемодан с пожитками Ференца Эгето. Хотя в кофейне в этот момент сидел сыщик по фамилии Ковач, все обошлось благополучно – подвода не привлекла ничьего внимания, так как перед кофейней стоял фургон, привезший сифоны с содовой водой, и из кухни кофейни как раз выносили в подворотню ящик с пустыми сифонами. А бывалый старик Штраус не просто вот так понес чемодан – он упрятал его в мешок.
– Привезли стиральный порошок, – объявил он во всеуслышание, и хотя в кухне, кроме тетушки Йолан и Маргит, не было никого, он все же предложил им для вида подписать какую-то накладную и тем временем шепнул: – Вечером он придет. – И тотчас распрощался.
Процессия, состоящая из Дубака и компании, шествовала по лестнице вверх, в то время как сын домовладельца поручик Штерц спускался по ней вниз; теперь он, правда, был в штатском костюме и в самом дурном расположении духа; нос у него превратился в пунцовую шишку. Утром у него, видно, случилась какая-то неприятность. Сейчас он направлялся к зубному врачу, и на этот раз с ним не было его зятя, господина Майра. Дубак козырнул, поручик благосклонно ответил, что-то проворчал по поводу пса, а может быть, по поводу того, что Зингер уставился ему прямо в лицо, совершенно не помышляя о том, что следует отдать честь этому штатскому хлыщу с распухшим носом.
– Это мы, мама, – сказал Дубак, когда они все трое эффектно переступили порог тесной кухни.
– Отец небесный! – воскликнула старуха, глядя на жирного пса и бессмысленно ухмыляющегося Зингера, одетого в солдатский китель, из левого нагрудного кармана которого торчала фляга со сливянкой. – Отец небесный! – повторила она, а пес Доди уставился на нее, выпучив глаза. – Чем это пахнет?
– Должно быть, бараньим рагу, – тут же нашелся Зингер, улыбаясь во весь рот и стараясь стоять как можно прямее; затем он отвесил поклон. – Зингер aus Будапешт, – изрек он и сделал нечеловеческое усилие, чтобы удержаться на ногах.
Последовала неловкая пауза.
– Мы принесли баранье рагу, мама, – примирительно сказал Дубак и протянул матери кастрюлю.
– Не кусается? – спросила старуха, глядя на пса.
– Об этом и речи быть не может! – ответил Зингер.
Пес тем временем ворчал, дергал веревку и пытался ухватить старуху за юбку.
– Куш! – прикрикнул на него Зингер.
Но старуха вдруг наклонилась к псу, почесала у него за ухом и проговорила:
– Да у этого бедняги всего один зуб!
Атмосфера сразу разрядилась.
– Это мой боевой товарищ Зингер, – сказал Дубак, – о котором я столько рассказывал вам, мама.
– Словом, вы привели домой моего сына, – констатировала старуха и погладила руку Зингера. – Вы поступили благородно!
Кругленький Зингер скромно улыбался.
– Да тут и толковать не о чем! – великодушно сказал он.
– Прошу вас, входите! – наконец спохватилась старуха.
Все вошли в комнату, предшествуемые жирным псом, который старательно обнюхивал предметы.
– Гарантирую полнейшую чистоплотность! – успокоил старуху Зингер.
– Как я вижу, у вас голова не трясется, – заметила старуха. – Но уши очень красные. Уж не обморожены ли они?
– Не-ет, – протянул Зингер, – это просто так…
– Я разогрею рагу, – предложила старуха.
– Отлично, – отозвался Дубак, – но мы уже сыты по горло, мама. Это для вас и для Лайчи.
– Мы пообедали, – сказала старуха. – Я поставлю его на холод. Лайчи гуляет; когда он придет, ему будет что поесть!
Она вынесла кастрюлю, и тут Зингер вспомнил о сливянке и вышел вслед за старухой; в комнате остались пес и Дубак.
– Как-нибудь приободрите его, – кивком головы указав на дверь и приложив к губам палец, шепнула Зингеру старуха, как только он вошел в кухню.
– Хорошо, – сказал Зингер и протянул ей флягу.
– Что это? – спросила старуха.
– Пожилые дамы, всем известно… – начал Зингер.
– Ага, красные уши! – догадалась старуха и погрозила Зингеру пальцем. – Не много ли будет?
Она взяла три стопки, и они прошли в комнату. Дубак сидел приунывший, устремив взгляд на свадебный портрет, висевший на стене, а пес устроился перед ним и грыз его повисшую руку, но Дубак даже не замечал этого.
– Ну, – с беспокойством проговорила старуха и поставила на стол стопки. Наполнив их, она первая подняла свою. – Как это говорится, – произнесла она, – за здоровье боевых друзей!
Она пригубила сливянку, прищелкнула языком, рот ее растянулся в улыбке, невеселой, искусственной улыбке, а беспокойный взгляд был устремлен на сына. Дубак встрепенулся, поднес ко рту стопку, затем снова поставил ее на стол и едва заметно вздрогнул. Зингер же опорожнил свою стопку залпом.
– Позвольте узнать, кто вы в гражданской жизни? – осведомилась старуха, и по виду ее нетрудно было догадаться, что она поддерживает разговор лишь для того, чтобы как-нибудь расшевелить сына.
– Кто я? – хмурясь, переспросил Зингер, у которого очередная стопка сливянки пробудила безудержное желание пофилософствовать. – В одном человеке заложено столько всего, что разве определишь, кто он! Это величайшая загадка! Даже сам Иммануил Кант не разгадал бы ее!
– Как же так, сударь? – спросила старуха, опять косясь с беспокойством на сына. – Как прикажете это понимать?
– Что понимать? Что именно вы имеете в виду? – спросил совершенно растерявшийся Зингер, пытаясь выиграть время. Он насупил брови. – Молчи! – рявкнул он на собаку, которая, кстати сказать, не издала ни единого звука. – Значит, кто я? – И он заговорил, сперва запинаясь, а потом слова хлынули из него потоком. – Вот, скажем… я. Кто я? Прежде всего рядовой солдат Адальберт Зингер, значит, фронтовой товарищ вашего сына.
– Верно, – подтвердила старуха.
– Это пустяки! – И Зингер махнул рукой. – Я долго был «второй столик у окна» в кафе «Палермо». – Он задумчиво сморщил лоб.
– Какое окно? – не поняла старуха.
– Такова жизнь, – изрек он. – Меня называли «член бильярдного клуба».
Старуха уставилась на него во все глаза. А Зингер, закусив удила, продолжал развивать свои философские концепции.
– Человек удивительно многогранен, – говорил он вдохновенно. – В своем ремесле я был «коллега», а в рамсе[13]13
Карточная игра.
[Закрыть] – «партнер». И это все я один! У меня на все хватало времени!
– Принести вам воды? – участливо осведомилась старуха, которой делалось все более не по себе.
– Мне? – переспросил Зингер. – Прошу вас, не хлопочите. Так вот… как его… Конечно, если бы я был дома, то стал бы уже «товарищ». Меня никто и не называл гражданином. Только когда Важоньи произносил речь в демократическом клубе, там мы все были гражданами.
Старухе страшно хотелось унять Зингера и развеселить сына.
– Выпьем еще по глоточку, – предложила она весело. Но, поглядев на сына, сразу сникла.
Зингер выпил.
– Господин редактор! – воскликнул он с идиотской ухмылкой и ударил себя в грудь. – Маэстро! Как поэт и человек, по природе своей склонный к беспечной жизни богемы…
Он умолк. А Дубак все так же сидел, согнувшись в три погибели.
– Значит, как его… – старалась поддержать разговор старуха.
– Единоверец! – вскричал Зингер и хватил по столу кулаком. – Ответчик во многих тяжбах! Вонючий иудей! Сынок мой Бела! Буржуй! – Выкрикивая очередные слова, он колотил по столу кулаком, и глаза его дико вращались. – Кандидат в женихи! Покупатель! Продавец! Сочинитель любовных писем! Пленный! Супругом я никогда не был и товарищем по работе тоже. Папой, насколько мне известно, меня никто еще не называл! Я адресат, которому посылают множество писем! Боже праведный, да кто же я в самом деле? Скажите хоть вы, сударыня! – взмолился он с неподдельным отчаянием.
– Верно, – глубокомысленно изрекла старуха.
Вдруг сделалось тихо, лишь раздавалось сопение Зингера, вызванное перегрузкой мозгового аппарата.
Старуха повернулась к сыну.
– Может, ты бы прилег? – с надеждой в голосе сказала она.
Дубак отмахнулся.
– Ты ведь был капралом, – сказал он тихо Зингеру, – только тебя разжаловали.
– Да, – отозвался Зингер и погрузился в забытье.
В это время в комнату вошел Лайош Дубак младший. Лайош Дубак старший заулыбался, вскочил со стула и поцеловал сына.
– Наконец-то! – вырвалось у старухи, словно камень свалился с ее души.
– Ох, как от тебя пахнет водкой, папа, – заметил мальчик.
Он покосился на пса, на Зингера, на флягу со сливянкой. Толстенький Зингер поднялся из-за стола.
– Привет, – сказал он. – Твой отец, ох, и много рассказывал о тебе, когда мы с ним томились у итальянцев. Теперь мы станем с тобой добрыми друзьями, не правда ли? Меня зовут Бела Зингер, а это мой однозубый пес. Будь добр, называй его Доди.
Мальчуган с недоверием протянул руку этому пьяному, глупо ухмыляющемуся дяденьке в солдатской одежде. Жирный пес вилял хвостом.
– Что у тебя под мышкой, Лайчи? – спросила старуха. – Что за хлеб?
– Ржаной хлебец, – ответил мальчик. – Мы стояли у отеля «Хунгария», смотрели на машины и на румын. Много было офицеров, а лошади у них какие! Тогда подошел к нам солдат, дал мне этот хлебец и как закричит: «Убирайтесь к чертям, вонючие венгры!»