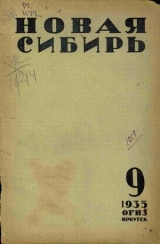
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
– Забастовка продолжается... – доносились до Емельянова слова Сергея Ивановича. – Она будет продолжаться вопреки усилиям и стараниям некоторых паникеров и прямых изменников. И вы, товарищи, должны поддерживать боевой дух на ваших предприятиях. Вы каждый должны наметить себе несколько товарищей, которых нужно поддерживать, не давать им падать духом и стремиться к окончанию забастовки. Сейчас забастовка – одно из сильнейших наших оружий. Но, товарищи! – Сергей Иванович поднял руку вверх и помахал ею над головой, – самым сильным оружием является вооруженное восстание. И тут надо быть сплоченными, стойкими и очень выдержанными. С оружием шутить нельзя! Уж если взялся за оружие, то это значит не шуточки! Не игра в революцию! Нет!..
Емельянову показалось, что Сергей Иванович глядит на него и про него говорит эти внушительные слова. Емельянов поежился и покраснел.
Сергей Иванович замолчал и устало опустился на стул. В комнате всплеснулся легкий говор. Кто-то кашлянул, кто-то встал с места и пошел к выходу. Старый рабочий приподнялся над столом, уперся жилистыми кулаками в столешницу и вопросительно оглядел собрание.
– Может быть, вопросы какие будут? Али кто желает говорить?
Разговаривать начали вяло и нерешительно. Но когда разговорились, в дверь просунулась голова женщины:
– Товарищи, тут по проулку подозрительный тип шляется. Пожалуй, стоит принять во внимание...
Сергей Иванович потрогал очки и нагнулся к старому рабочему:
– Надо расходиться.
Старик спокойно обвел глазами собравшихся и сказал:
– Ну, будем, товарищи, потихоньку и спокойненько расходиться. Да так, чтобы ежели там шпик стойку на нас делает, то ничего бы он не выиграл.
В комнате на многовенье стало шумно. Потом этот шум сразу же прекратился, и люди начали осторожно и отдельными небольшими группами выходить из дому. Они сначала попадали во двор, там они ныряли куда-то на зады и оттуда через маленькую калитку выходили на другую улицу, где уже дежурила женщина.
Емельянов, вышедший одним из последних, издали посмотрел на женщину, и в глазах его затеплилась нежность.
45
В Спасском предместье, в покосившихся избах, во флигельках, ушедших дряхло и дремотно в землю, томительными, подслеповатыми вечерами шли разговоры. Начались они, эти разговоры, и стали неотвязными после памятного дня, когда кой-кто из обитателей предместья побывал на манифестации, подебоширил и побуйствовал. В тот день эти участники манифестации вернулись к себе домой возбужденные и вдвойне пьяные от дармовой водки и от пережитых волнений. Сначала манифестанты пошли хвастать и похваляться по соседям, как прошлись они по улицам города, как пугали прохожих, как налетели на забастовщиков возле железнодорожного собрания и как, наконец, били этих забастовщиков. Иные рассказчики, вдохновленные жадным интересом, с каким их слушали, начинали врать и приписывали себе необыкновенные подвиги. Иные похвалялись, что они с полным удовольствием пойдут снова крошить жидов и забастовщиков, если начальство позовет. Их слушали по-разному: то с жадным любопытством и некоторой завистью, то с некоторым недоумением. Это недоумение, но мере того как рассказы перекатывались из избы в избу и из флигеля в флигель, становилось упорней и определенней. И вот кто-то нерешительно заметил:
– Ну, ладно, скажем, жидов побить дело понятное, а как же с забастовщиками, ведь они, чай, люди православные, христиане... И трудящие к тому. Наш брат, черная кость. Как же их-то бить? С какой стати и с какого резону?!
Это замечание пало горячей искрой в костер. Сразу же люди насторожились и стали ждать ответа. Ответ получился невразумительный и он мало кого убедил:
– А об этом, которые повыше понимают. Начальство. Раз сказано – бунтовщики, значит, и тово... истреблять!..
Упоминание о начальстве еще больше поддало жару.
– Начальство!.. А оно тебе что: кум или сват? Оно тебе какую помощь оказывает?! Да ежели надо будет, оно, начальство-то, и тебя и меня и кого хочет изничтожит. Только ему дайся!..
– От начальства мы все мало ли притеснения видели!
– Сказал тоже: начальство понимает! Оно понимает, как нашего брата по кутузкам морить да на каждом шагу за глотку брать!..
Рассказчики смущенно умолкли. У них внезапно пропала охота похваляться и хвастать своими подвигами возле железнодорожного собрания. А тут находились горячие спорщики, которые вспоминали о незаконных листках, расклеенных на заборах и пояснявших чего добиваются забастовщики и революционеры. Другие припоминали, что люди, которых зло и угрожающе начальство называет бунтовщиками, появлялись в Спасском предместье, вели беседы и по видимости, и по словам, и по поступкам на вредных и злонамеренных злодеев совсем не походили.
– Народ самый простой и безвредный. И даже может и польза от ихних поступков произойти!
И когда по избам и флигелям поползло совсем новое, вчерашних героев стали сторониться. Об их участии в погроме начали говорить осуждающе. Избитых и раненых забастовщиков принялись жалеть.
Огородников, у которого в Спасском предместье жил кум, пришел сюда уже тогда, когда эта жалость начала крепнуть и разрастаться. Он был растерян и смущен. Люди, с которыми он был связан и которые потянули его за собой в уличную борьбу, куда-то исчезли. Он остался оторванным от всего, ему некуда было податься. Сунулся он в железнодорожное собрание, но там были солдаты, стал разыскивать Емельянова и Потапова – не нашел. Хотел добиться сведений о Павле – и ни у кого и нигде не мог.
У кума, работавшего на небольшом кожевенном заводе, было сумрачное лицо, когда явился к нему Огородников. Кума томило похмелье, у него трещала голова, он тщетно искал полтинник на опохмелье. И встретил он Огородникова хмурым вопросом:
– Деньги, Силыч, есть?
– Какие! – махнул рукой Огородников. – Ребятишек голодными дома оставил... А ты как, Афанасий Иваныч, гулял, что ли?
Кум скривился, словно от зубной боли.
– Гулял... Будь оно проклято!
– Что так? – заинтересовался Огородников.
– Ввязался я в дело одно. А оно, выходит, вроде и зря, и совестно...
Огородников пригляделся к куму, заметил, что того томит не одно только похмелье, замолчал и не стал расспрашивать. Но кум сам заговорил и рассказал о юрком человечке, который неделю назад пришел в Спасское предместье, принес вина и принялся расписывать всякие чудеса. От этого юркого человечка кум перешел к появлению переодетого полицейского надзирателя, призывавшего расправиться с крамолой, которая мешает правительству устраивать получше жизнь рабочему люду. Затем – о торжественной архиерейской службе в соборе, откуда толпа пошла по городу...
Огородников, у которого по мере того, как кум рассказывал худое лицо наливалось кровью, не выдержал и сильно выругался.
– Ты за что же это? – удивился кум.
– За что?.. – освирепел Огородников. – Да ты вроде христопродавца, на своего брата рабочего человека пошел!.. Там кого били? Кровных трудящих людей!.. Нынче по всей Рассее переворот жизни происходит, окончательное очищение от тяготы и кабалы, а ты супротив!.. Тебя поманили полбутылкой, полицейский крючок залил тебе триста с листом, ты и поверил!.. Эх, ты!..
Кум молча слушал Огородникова. Глаза у кума были опущены и дышал он тяжело.
– Слышь... – нерешительно проговорил он, когда Огородников угрюмо замолчал и насупился. – Слышь... Тут не я один в это дело ввязался... Ну, теперь понемногу смекаем, что ошиблись... Занапрасно всю эту волынку затеяли. Ей-богу, смекаем!..
– Поздновато!.. – сердито заметил Огородников. – Поздновато, говорю, смекать начали. Без всякого понятия! Вот ты того не сообразил, что от начальства, какое оно ни на есть, всегда обман и каверза идет...
– Знаю! – досадливо перебил кум.
– Знаешь, а поступки у тебя какие?!. Вот рассказывают, что около железнодорожников-то немало людей покалечили, может и до смерти. Это как надо понимать?
– Убивать не убивали... – тихо возразил кум. – Бока намяли...
– Эх ты-ы!.. – горестно вздохнул Огородников. – На кого пошел? На самого себя ведь!.. А все твоя пьяная привычка. Зальешь глаза и ничего не понимаешь!..
Кум молчал. Замолчал и Огородников.
Когда, немного посидев в тягостном и суровом молчании, Огородников стал уходить, кум виновато сказал:
– Ошибся я, Силыч! Понятно мне, что зря я это все. А ты только то прими во вниманье, что не я один... И есть которые не сознают ошибки... Округом есть некоторые...
– А это самые может отъявленные пьяницы и шантрапа! Рабочий человек в такие дела соваться не станет. Совесть ему не дозволит!..
46
Не сознававших своей ошибки оказалось в Спасском предместье очень немного. Они еще продолжали бахвалиться и заноситься тем, что с ними запросто беседовал сам полицеймейстер и что они с удовольствием и впредь пойдут бить забастовщиков и жидов. Но однажды вечером одного такого бахвала подкараулили на улице молодые ребята, окружили его и стали чинить ему допрос:
– Забастовщиков ходил бить?
– Ну, ходил! – оглядываясь, как затравленный зверь, ответил допрашиваемый.
– От фараонов водку получал?
– А вам какое дело?
– С полицией снюхался? Печки-лавочки вас там с нею?
– Да пошли вы от меня к...
– Но, но! Легче! Мы тебе пошлем!..
Ребята обступили парня теснее, и вид у них был внушительный и грозный. Парень понял, что дело принимает скверный оборот, и попытался выкрутиться.
– Да вы что, ребята, да я разве что-нибудь?..
– Ладно, ладно! С полицией возжался, безвинных людей избивать ходил, а теперь расплачивайся!..
– Ребята!.. Ох!.. За что же?.. Ой!..
Ребята избили парня и напоследок пригрозили:
– Не вздумай жаловаться, а то и насовсем тебе нутро отшибем!..
Жаловаться избитый не стал. Но назавтра же по всему предместью стало известно об этом случае. И почти все с веселым злорадством хвалили ловких и догадливых ребят:
– Справедливо поступили! Так ему и надо!
– Вот еще бы других, которые шлялись с попами и крючками. Тех бы тоже поучить!
– Чтоб неповадно было!
К этому времени снова, несмотря на аресты, на кажущийся разгром бунтовщиков, появились на заборах свежие листки. И не только на заборах появились они: их подбрасывали в сени флигельков, во дворы, их клали неизвестные ловкие руки в самые неожиданные места. И их нельзя было не читать.
Перечитывая их, обитатели предместья начинали смутно чувствовать какую-то новую правду, которая обходила их до этого где-то стороной. И в жажде постичь и понять эту правду многие стали искать людей, которые знают ее, стремятся к ней и ведут за собой других.
Эти люди словно только и дожидались того, в нужную минуту появились.
В нужную минуту два-три рабочих самого большого кожевенного завода и несколько кузнецов-молотобойцев, пришедших из кузнечных рядов, собрались на квартире одного из своих товарищей, побеседовали, потолковали, перебрали всех известных им рабочих предместья и кузнечных рядов, выделили самых ненадежных и выбросили их, а об остальных порешили:
– Этих можно. Не засыпят!
Потом привели из города нового человека. И когда привели с великими предосторожностями на верную квартиру, почтительно и с некоторой хвастливостью говорили о нем:
– Комитетчик. Из комитета социал-демократической партии...
У комитетчика была солидная седая борода и узловатые мозолистые руки. Он приступил к делу сразу, без всяких подходов и обиняков. Всмотревшись острыми и чуть насмешливыми глазами в наполнивших комнату рабочих, он глухим и немного раздраженным голосом сказал:
– Обидное положение у вас, товарищи. Прямо сказать, никуда положение!.. Совестно подумать: рабочий народ, а в пакостном деле участвовали некоторые. Неужели никто не мог заранее образумить?..
Укоризненный взгляд старого рабочего обежал сгрудившихся поближе к столу, за которым он сидел, и обжег их.
– Ведь вот есть же у вас сознательность, а как же вы допустили, чтобы некоторые с наименованием и по положению рабочие в погроме прямое участие приняли? Как?
Старик оперся кулаками о стол и откинулся на спинку некрашеного соснового стула.
– Вот погромщики, известно нам, пользуясь тем, что кругом аресты и многих дружинников поарестовали, опять готовят кровопролитие. Что же, сызнова нам, стало быть, ожидать, что отсюда, от вас помощь им придет?..
– Нет!.. – сорвался с места черноглазый, черноволосый рабочий. – Нет, товарищ! Это безобразие больше не повторится!.. И к тому же напрасно обижаешь рабочих. Какие это отсюда рабочие на погром пошли? Никудышные, так, летучка всякая, шваль. Главным образом, пьяницы, которым на свете всего дороже водка. Он зальет глаза вином – и хоть на кого полезет с ножом, отца родного не пожалеет!..
Пристально взглянув на черноглазого, старик постучал кулаком по столу.
– Ладно. Допустим... Может быть, и самые отъявленные. Ну, а все-таки несознательность. И вина на тех, которые повыше и которые кое-чему уже подучились, то-есть на вас, товарищи. Да. И чтобы дальше так не повторилось, давайте займемся делом... Положение сейчас такое...
Просто и без всяких отступлений и прикрас старик рассказал о настроениях в городе, о силах, которые имеются у организации, и о том, что каждому сейчас надо делать. Его речь была ясным и вразумительным уроком хорошего, спокойного и многознающего учителя. И слова его воспринимались легко и укладывались в сознании людей прочно и надолго...
Уходя с этого собрания, старик что-то вспомнил, усмехнулся и покрутил головой.
– Да, вот еще что. Тут, я слышал, у вас некоторые ребята вроде самосуда устраивали. Так смотрите, чтобы какой-нибудь ошибки не вышло. Не распускайтесь! А то сгребете первого попавшего, поучите, а он, оказывается, невинный!..
Несколько голосов весело и уверенно ответили:
– Нет! У нас без ошибки!..
– У нас эти, которых учить надо, меченые!.. Не ошибемся!
47
В общественном собрании в люстрах и шандалах оплывали стеариновые свечи. За карточными столами было малолюдно. Игра шла вяло. Многих партнеров недоставало. Оставшиеся нервничали по всякому поводу. Во-первых, надоела неустроенная жизнь, вот то, что приходится сидеть при свечах, что газеты не выходят, что почта и телеграф бездействуют. Во-вторых, приостановилось поступление доходов: торговля захирела, заводишки остановились. Наконец, никуда нельзя было выехать и ничего неизвестно было, что делается на белом свете и что творится в центре, в Петербурге.
Суконников-младший, сдавая за своим столом карты, пытался шутить:
– А наши краснобаи теперь пулечку в тюремной камере составляют! Весело!
– Оставьте, Сергей Петрович, пулечка? В общем и Пал Палыча, и Скудельского, и Чепурного жалко. Люди солидные и вдруг вместе со всякими длинноволосыми и голодными социалистиками в тюрьму!..
– А вот редактору, так поделом! – подхватил другой. – Пусть ему прижмут хвост, может быть он поумнеет!
– Пожалуй, что и верно! Стоит.
– А чем же все-таки, господа, все это кончится? Ведь конца-краю не видать!
На спрашивавшего оглянулись с некоторым неудовольствием: все жили этим неразрешимым и беспокойным вопросом и молчали, а вот нашелся же такой неделикатный человек, который прямо брякнул то, о чем каждый спрашивал самого себя и то только тайком.
– Чем кончится? – нашелся находчивый. – А очень просто: заметут еще несколько главарей и всякую беспокойную публику, кончится забастовка, и все пойдет по-старому гладко и в полном порядке...
– Дал бы бог!..
– Господа, господа! карты сданы. Федор Никифорыч, вам объявлять.
– Пики.
– Трефы...
– Пасс!
Замелькали карты. Ненадолго все внимание игроков было сосредоточено на игре. Но где-то внутри у всех копошился надоедливый червячок, который мешал мирно и безмятежно продолжать игру.
– Что же все-таки предпринимается для того, чтобы связаться с центром? Может быть, там уже все спокойно и нормально, и только у нас этот кавардак?
– Ну, вряд ли.
– А что же вы думаете, возможно, что мы из-за телеграфа и ничего не знаем!
Откладывая на минуту карты в сторону, тот самый находчивый господин, который высказал успокоительное предположение, что все кончится благополучно, уверенно сообщил:
– В канцелярии губернатора предпринимаются меры. Телеграф будет работать. Самое большее два дня, и мы все узнаем!
– Ох, если бы так!
– Да уж поверьте! Во-первых, сильные меры, а во-вторых, и забастовщики не продержатся долго, сдадут!..
– Что-то не верится...
– Нельзя же быть таким недоверчивым! Говорят вам, что дело идет к концу!.. А кстати, слышали вы, господа, что товарищ прокурора Завьялов повышение получил?
– Это какой Завьялов, тот, у которого жена интересная?
– Он самый!.. Человек он твердый и решительный. Такие теперь нужны...
– Что же он теперь?
– Да вот по политическим делам. Он, говорят, в молодости, в университете сам грешил подпольными делишками, вот ему это теперь пригодится!
– Будем продолжать игру? Что это на самом деле, хоть карты бросай!
– Ладно, ладно! Продолжаем. Я пассую!..
48
В женском корпусе, отделенном от остальной тюрьмы пустынным двором, маленькую камеру отвели под новых политических арестанток. Камера была угловая, с одним окном, темная. Галя устроилась неудобно: недалеко от двери, от параши. Галю тошнило от густого, нестерпимого запаха, она отворачивалась к стенке, куталась с головою в платок, боялась дышать. Вокруг нее было шумно. Незнакомые женщины, с которыми она встретилась впервые, показались Гале неприятными, крикливыми и совсем чужими. Девушка с горечью почувствовала тоскливое одиночество.
Это одиночество томило ее недолго. К вечеру, когда в камере стало совсем темно, а лампы еще не заносили, Галя сжалась в комочек и глубоко вздохнула. И словно в ответ на этот, как ей казалось, неслышный вздох, Галя почувствовала, что кто-то ласково погладил ее по плечу. Она открыла глаза и различила в темноте склонившуюся над нею женщину.
– Тоскливо стало? – спросила женщина. – Взгрустилось?.. Ну, ничего. Это всегда, так вначале бывает, а потом проходит.
Галя подняла голову, села на койку, смутилась.
– Очень уж тут гадко пахнет... – как бы оправдываясь, ответила она.
Женщина засмеялась. Смех был мягкий, безобидный.
– Да, уж попахивает крепко!
Внесли коптящую керосиновую лампу. Стало немного светлее. Галя разглядела женщину. Гладко зачесанные волосы, в которых пробивалась седина, открывали высокий лоб. Серые глаза, немножко грустные, смотрели спокойно и приветливо. Но в уголках рта залегли скорбные морщинки. Женщине было лет сорок.
– Вы погодите, – успокоила она Галю, когда та пожаловалась, что кругом бестолково кричат и нет покою от шума, – вы погодите немного, завтра у нас уж будет и порядок и организованность. Это всегда так бывает. Публика разная, многие, вот как мы с вами, в первый раз друг дружку тут видят. А ночь переночуют, с утра все и наладится.
На утро, действительно, в камере стало спокойнее и наладился порядок. Утром же Галя лучше присмотрелась к своим сокамерницам и сообразила, что они вовсе не такие неприятные и чужие, какими она нашла их вчера. Преобладала молодежь, и только новая знакомая Гали и еще две пожилые женщины выделялись среди свежих, задорных, молодых девичьих лиц.
Новую знакомую Гали звали Варвара Прокопьевна. Оказалось, что ее знали многие из арестованных женщин, и к ней, как заметила Галя, все они относились с некоторым почтением и предупредительно. Словно была она выше их всех на целую голову и обладала какими-то особыми правами и преимуществами. С ней разговаривали, как со старшей и мудрой. А она, такая простая и сдержанно-ласковая, никого не выделяла, никому не отдавала предпочтения, со всеми была мягкой, внимательной, всех умела выслушать и всем находила нужное слово.
Галя целое утро внимательно наблюдала за Варварой Прокопьевной и, не выдержав, спросила у соседки по койке, молоденькой работницы:
– Вы не знаете, кто такая Варвара Прокопьевна?
Соседка изумленно вскинула глаза на Галю.
– А вы разве не знаете? Она политическая ссыльная. Очень видная революционерка. Такая досада, что ее забрали. Теперь, если настоящего переворота не случится, она здорово сядет... Не иначе, как каторгу ей дадут...
Галя обожглась огорчением, жалостью и нежностью к Варваре Прокопьевне. Ей захотелось приласкаться к ней, сказать ей что-нибудь теплое, сердечное.
Во время прогулки, когда всех выпустили на тесной дворик, обставленный каменными стенами, Галя улучила момент и пошла рядом с Варварой Прокопьевной. Та улыбнулась ей и спросила:
– Ну, что, лучше стало в камере? Не так тоскливо, как вчера?
– Лучше, – покраснела Галя. – Я вчера понервничала зря...
– Народ у нас в камере хороший, – раздумчиво продолжала Варвара Прокопьевна, – молодой...
– Вы лучше всех! – вырвалось у Гали, и она густо покраснела.
Варвара Прокопьевна заглянула ей в глаза и покачала головой.
– Ой, как вы по-институтски! Не нужно так. Вот вы меня видите только со вчерашнего дня впервые, а попробуй я расспрашивать вас, так вы мне, наверное, всю душу свою выложите! Как же, вы ведь уже, понятно, наслышались, что я политическая ссыльная и все такое. Не так ли?
Галя смущенно молчала. Ей было стыдно и немножко тяжело оттого, что ее порыв встречен так рассудочно и неожиданно.
– Не сердитесь, – тронула ее за рукав Варвара Прокопьевна. – Я не в обиду вам это сказала... Вы славная и сердечная. Это хорошо. Но... – Варвара Прокопьевна немного замялась. – Но вокруг нас совершается такое большое и небывалое, и тут распускать себя нельзя!.. Поэтому послушайте меня: будьте осторожны, не раскрывайте вашего сердца по первому настроению... Вот и все! Кстати, уж и прогулка кончается. Вон надзирательница вышла из корпуса. Пойдемте в камеру.
До самого вечера Галя была после этого короткого разговора в смятении. Она то негодовала на себя, за свой порыв нежности к незнакомой женщине, то досадовала на Варвару Прокопьевну, отчитывающую ее, как приготовишку. Вечером, когда в камере стихли разговоры и наступила тоскливая тишина, Варвара Прокопьевна снова подошла к ней и присела на ее койку.
– Лежите, – потребовала она, увидев, что Галя собирается встать, – лежите, я присяду возле вас. Я вижу, что огорчила вас. Ах, девушка, девушка! Давайте я порасскажу вам о том, что видела, что сама пережила... Вы поймете, что я не бессердечная...
Она примостилась в ногах у Гали, закуталась в легкую шаль, слегка наклонилась вперед, как будто всматриваясь в свое прошлое, и стала рассказывать...
В камере давно уже спали. Лампа чадила. За дверью, в коридоре, глухо отстукивали мерные шаги. Глухая ночь ворчала за толстыми стенами. А Варвара Прокопьевна, кутаясь в шаль, рассказывала. И Галя, соскользнув с подушки, подобралась к ней, прижалась доверчиво и нежно и слушала.
Перед ней проходила беспокойная, полная тревог и опасностей жизнь. Она узнавала, что значит революция, чего она требует от людей, борющихся за нее, и когда может раскрываться человеческое сердце...
– Ну, вот... – словно очнувшись, сказала Варвара Прокопьевна, обрывая свой рассказ. – Глядите, поздно-то как!.. Спать нужно... Ну, вот, девушка, утомила я вас своими разговорами... А вы молчите! Не нужно ничего говорить!.. Будем спать!
Галя протянула руки и ласково охватила плечи Варвары Прокопьевны.
– Ну, ну! – глуховатым голосом произнесла Варвара Прокопьевна, вставая. – Спокойной ночи!..
49
Осьмушин безнадежно выстукивал:
– Белореченская! Белореченская! Слышите, слышите?!
Он свирепел и порою начинал озорничать. Ключ аппарата плясал под его пальцами и слагал из отдельных знаков бранные слова:
– Сволочи! Черти! Да вы слышите, нет ли?!
Потом Осьмушин бросал бесполезное занятие и убредал по поселку в самые глухие углы.
Однажды, когда Осьмушин особенно озорно выстукивал самую отборную ругань, с аппаратом случилось небывалое: Белореченская проявила признаки жизни. Осьмушин привскочил, руки у него задрожали, и он жадно впился в медленно ползущую ленту. На ленте появились знакомые знаки. Он прочел долгожданный ответ:
– Мы слушаем!..
Потом лента стала что-то путать, знаки запрыгали бессмысленно и нелепо. И, наконец, отчетливо и властно:
– Сосновка, принимайте важные известия... Важные известия... Слушайте...
Лента раскручивалась, и по мере того как она раскручивалась, покрываясь привычными и понятными знаками, у Осьмушина то бледнели, то набивались кровью щеки, и мелкая испарина выступила на лбу. Осьмушин тяжело вздыхал, ерзал на табурете, теребил непокорный клок волос на голове, отдувался и громко сопел. Наконец, он не выдержал, вскочил, и, не сводя взгляда с раскручивавшейся ленты, дико заорал:
– Ура! Ура!.. Ура!..
Белореченская передала все, что могла. Осьмушин забрал ленту, оглянулся, торопливо натянул на себя тужурку, нахлобучил шапку и выбежал из аппаратной.
Он влетел в квартиру слесаря Нестерова, свалил скамейку, ушиб колено, подскочил на одной ноге не то от боли, не то от возбуждения и, как только что в аппаратной, дико закричал:
– Ура! Ура!.. Ура!..
Нестеров, вздрогнув от неожиданности, быстро оглядел телеграфиста и почти спокойно сказал:
– Ну, принес новости? Давай живей!..
– Новости прямо сногсшибательные! – похвастался Осьмушин. – Не новости, а прямо извержение вулкана Везувия и гибель Помпеи!..
– Давай, выкладывай! – нетерпеливо потребовал Нестеров.
Осьмушин стал выкладывать...
Слесарь слушал молча. Но в глазах его пылало волнение. Он не спускал глаз с непонятных знаков, бесстрастною дорожечкой испятнавших бесконечную ленту. Он подался немного вперед, и на лбу его сбежались тугие морщины. И дышал он учащенней, чем всегда. И рука, лежавшая на столе, вздрагивала. Мелко и неудержимо вздрагивала.
– Так... – хрипло произнес Нестеров, увидев, что телеграфист кончил и сматывает ленту. – Действительно, извержение... Можно тебе спасибо, пожалуй, сказать за новости... Ну, а скажи, в город это скоро достигнет?
– В город? – Осьмушин поднял глаза и поглядел на потолок. – В город вряд ли скоро. Связи нет...
– Связи нет... – раздумчиво повторил слесарь. – Так, так... Ну, еще раз спасибо тебе. Давай руку!
Он схватил руку телеграфиста и сжал ее. Осьмушин охнул.
– Стой! Искалечишь!.. Ну и лапа!..
Когда Осьмушин ушел от Нестерова, слесарь быстро оделся и сбегал к своим товарищам. Он пришел к одному, наскоро сообщил ему о полученных известиях, потом вместе с ним отправился к другому, затем к третьему. И так обошли они всех, кого надо было. А потом коротко и очень деловито посовещались и разошлись.
И на утро, когда еще не занималась заря, из поселка выехала резвая пара, везшая двух пассажиров. Пара эта лихо свернула на широкий тракт и понеслась в ту сторону, где в сотне верст отсюда спал ничего не знавший город.
50
Город просыпался медленно и угрюмо. Как тяжело больной, с трудом приходящий в себя, он вяло расправлял свои члены: скрипуче раскрывались ставни, из ворот выходили заспанные люди, оглядывали улицу, бесцельно и в нерешительности останавливались на мгновенье и вновь скрывались в воротах. С топотом проходили сменяющиеся караулы. Ленивой рысцой ехал казак.
Заспавшийся город ничего не знал, ничего не ведал.
Матвей проснулся раньше Елены. Он спал в передней комнате на полу: двухспальную кровать, которая должна была свидетельствовать о прочном и налаженном супружестве, занимала в соседней комнате Елена. Матвей быстро оделся, зажег лампу, сходил на улицу открыть ставни, вернулся, поставил самовар. Когда он позванивал трубой, на кухню вышла проснувшаяся и уже одетая Елена.
– Опять я проспала, – виновато сказала она.
– Нет, Елена, успокоил ее Матвей, – я сегодня поднялся пораньше. Вы бы еще поспали. Чуть-чуть рассветать только начинает.
В окнах синел тусклый рассвет. В квартире было холодновато. Елена подошла к железной печке и стала ее растапливать.
– Профершпилился я! – рассмеялся Матвей. – Надо было мне ее затопить раньше, а я самоваром занялся. Страсть как чаю хочется!
Они пили чай при лампе. Синева в окнах медленно линяла. Утро назревало с трудом, медленно преодолевая какие-то затруднения.
– Сегодня мы будем отдыхать, Елена, – сообщил Матвей. – С материалом придут завтра. Придется нам придумывать развлечение...
Елена улыбнулась, но, спрятав улыбку, быстро ответила:
– У меня дело есть, Матвей.
– А, дело. Ну, что ж, стало быть, мне одному надо что-нибудь соображать.
После чаю они разошлись по разным углам. Матвей вытащил из сундучка книги и стал читать. Елена прошла на кухню.
Немного позже Матвей зачем-то вышел на кухню и увидел, что Елена стирает что-то в тазу. Невольно заглядевшись на ее обнаженные руки, он вдруг вспыхнул и взволновался, он заметил в тазу свое белье.
– Елена! – шагнул он к девушке. – Вы опять за старое?! Это ни на что не похоже...
Елена повернула к нему покрасневшее лицо и, поблескивая глазами, в которых было и лукавство и смущение, протянула:
– Но как же, Матвей? Ведь у вас нет свежего белья...
– Принесут. Это же безобразие, что вы пачкаетесь!.. Бросьте!
Лукавство в глазах Елены зажглось ярче.
– Погодите, Матвей. Я это ради конспирации...
– Ради конспирации!? – широко раскрыл глаза Матвей.
– Ну, да. Чтоб сильнее походило на семейную жизнь.
Почуяв лукавство девушки, Матвей рассмеялся. Смех его был радостен, светел и непосредственен.
– Ах, какая вы, Елена! – вырвалось у него.
– Какая? – круто обернулась к нему Елена, вся сияя и светясь от внутреннего чувства. – Какая?
Матвей не успел ответить. В дверь кто-то постучался.
Оба встревоженно переглянулись. Матвей пошел открывать.
Вошел товарищ, державший связь с комитетом.
– Ну, дела! – вместо приветствия крикнул он. – Получился царский манифест! Вроде того, как будто, что всякие свободы и конституция!
– Откуда вести?
– Давайте, давайте сюда!
– Вести вчера поздно ночью нарочный из Сосновки привез. Сосновка телеграфную связь установила с западом.
Товарищ начал рассказывать подробности. Елена стряхнула с рук мыльную пену, вытерла их, подошла поближе. У нее вырвалось:
– А как же теперь?
И пришедший и Матвей поняли ее.
– Подождем! – сказал Матвей.
– А вот так, – пояснил пришедший и вытащил из кармана густо исписанный листок, – набирайте и печатайте скорее эту штуковину... Все здесь пока останется, как было... И хорошо бы к вечеру приготовить побольше!
– Хорошо! – тряхнул головой Матвеи. – Займемся ради такого случая днем! Ведь конституция, свободы и всякое такое!
Все трое весело рассмеялись. Елена сложила в сторону недостиранное белье:
– Вечером кончу.
Матвей быстро взглянул на нее, встретился с ее лукавым взглядом и опустил глаза.
51
К губернаторскому дому во весь аллюр прискакал казак. Он скатился с седла, перекинул повод через шею лошади и взбежал по широким ступеням подъезда. Часовой преградил ему дорогу. Казак, запыхавшись, что-то сказал, из дверей вышел пристав, переспросил у казака, пропустил его в переднюю и вызвал дежурного чиновника. Дежурный чиновник принял у казака запечатанный сургучными печатями пакет, размашисто расписался в книге и пошел по широкой, устланной ковровой дорожкой, лестнице вверх.







