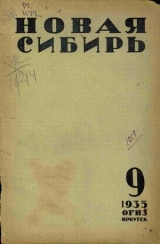
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
– Неужто сковырнем? – спросил он Потапова, указывая на плакат. – Неужель ему хана приходит?
– Самодержавию-то? – переспросил Потапов. – Видишь, действуем!.. – Если не сдадим, так, конечно, сковырнем!..
– Вот и ладно!.. А то податься было некуды. Полное затмление жизни... Наипаче в деревне, крестьянству...
– А рабочим, думаешь, слаще? – вмешался Емельянов.
– Я не говорю... Всем туго. Только крестьянству уже нет. Так сузило, что хоть помирай... Главное, земля...
– Революция возвратит землю трудящимся, – назидательно сказал Потапов. – Рабочим – фабрики, а крестьянам земля!
Из собрания все выходили и выходили. Улица пред трехэтажным домом заполнилась людьми. Над толпою, как невидимые клубы горячего пара, волновался шум. Этот шум мешался с колокольным трезвоном, который не умолкал и о чем-то предупреждал. Но толпа не прислушивалась к нему и была захвачена своим настроением, своим делом. Те, кто стояли поближе к знамени и к плакату, стали выстраиваться в широкую шеренгу. По толпе пробежало:
– Товарищи, постройтесь по восемь в ряд!.. По восемь!
Всколыхнувшись, толпа суетливо стала строиться в ряды.
Емельянов в раздумьи поглядел на красное знамя, на строющуюся, оживленную толпу и нехотя напомнил своим товарищам:
– Все-таки пошли, товарищи, к своей дружине. Время!..
– Придется, – согласились те. – Айда!
Они выбрались из толчеи и стали отходить.
Демонстранты весело строились в ряды по восемь человек.
16
Галя шла и с каждым шагом в голове у нее отдавалась острая боль. Но она превозмогала ее и торопилась продвигаться вперед. Мысль о Павле томила ее. Бегущая в панике толпа, а затем казаки, которые мчались оголтело и опьянев от скачки, от возможности безнаказанно хлестать всех встречных, пустеющие улицы, – все это умножало ее волнение, ее стремление поскорее добраться до брата и, наконец, узнать, что с ним.
Она шла, не оглядываясь, не всматриваясь в окружающее. Ей надо было пройти несколько боковых улиц, свернуть на главную, пересечь ее и там она уже скоро доберется до переулка, в котором забаррикадировалась дружина Павла. Но когда она подходила к главной улице, оттуда донесся до нее невнятный гул. Ее охватила тревога. Она почувствовала новую опасность и замедлила шаги. Чем ближе подходила она к главной улице, тем явственней становился шум. Наконец, она отчетливо различила нестройное пение. Узнала мотив песни, разобрала слова.
«Гимн!.. Поют «Боже царя храни»!.. Значит, черносотенцы вышли все-таки на улицу?»..
Галя вспомнила об угрозах, раздававшихся со стороны черной сотни по адресу забастовщиков, о целом ряде диких выходок черносотенцев, о работе, которая шла в полицейских участках, – и ей стало не по себе. Патриотическая, черносотенная манифестация – это, значит, на улицу выпущены все самые худшие элементы города, это значит озорство, буйство, погром, кровь... Девушка сжала губы и нахмурила брови. Эх, почему она не с дружинниками? Вот сейчас, вот теперь? Она пошла бы разгонять эту чернь, которая наделает чорт знает каких бед, которая мешает народной борьбе, которая ополчается на все светлое... Эх, почему она не там, у дружинников? Почему ей приходится теперь бессильно сжимать кулаки и смотреть на это безобразие?!.
Она прошла еще несколько шагов и остановилась на углу. Отсюда ей видна была главная улица. Вдалеке надвигалась густая толпа. Над толпой поблескивало золото. Толпа шумела. В шуме этом теперь уже терялось и пропадало пение.
Галя ждала, что толпа пройдет мимо нее, но голова манифестации с колыхающимися над нею хоругвями медленно завернулась в боковую улицу за два квартала от того угла, на котором стояла девушка. Галя сообразила: идут к железнодорожному собранию. Она дождалась пока не скрылся за углом последний участник процессии, на глаз подсчитала численность манифестации, огорчилась, что собралось так много народу («и откуда у них столько людей берется?») и пошла своей дорогой, туда, где что-то происходило с Павлом.
Но ей так и не пришлось дойти до места.
На пустынной улице появился прохожий. Он шел, трусливо оглядываясь и медленно продвигаясь вперед. Завидев девушку, он приостановился, как бы соображая, не бежать ли ему, но всмотрелся и быстро побежал ей навстречу.
– Куда вы, Воробьева? – запыхавшись спросил он. – Куда?
Галя узнала гимназического учителя математики, чудаковатого Андрея Федорыча. Низенький, рыжий, в больших выпуклых очках, за которыми испуганно и всегда недоуменно мигали близорукие глаза, он пользовался какой-то покровительственной любовью у гимназисток.
– Разве можно в такое время на улицу выходить? – с ужасом продолжал он. – Боже сохрани!.. Видите, что делается.
– А вы сами, Андрей Федорыч? – невольно улыбнулась Галя.
– У меня дела! – замахал руками Андрей Федорыч. – Обязательно в магазин надо. Обязательно!..
– Да ведь все магазины закрыты.
– Ну, авось, какой-нибудь торгует... Да пустяки!.. А вы-то зачем?.. Ступайте, ступайте домой!..
Галя покачала головой.
– У меня, Андрей Федорыч, серьезное дело. Я домой не пойду... Мне брата разыскать надо...
– Не пущу! – вдруг освирепел Андрей Федорыч, хватая Галю за рукав. – Безобразие какое!.. Тут казаки скачут, чорт знает что происходит, а она...
– Я с казаками уже повстречалась, – высвобождая рукав из слабых пальцев учителя, успокоила его девушка. – Даже нагайкой меня уж успели хлестнуть...
Андрей Федорыч еще сильнее ухватился за Галю.
– Не пущу!.. Пойдемте ко мне... Я вас к Гликерьи Степановне сведу. И никуда больше не отпущу!.. Никуда!
Маленький человечек смешно подпрыгивал перед девушкой и тянул ее за собою.
– Не пущу!
– Мне надо брата разыскать...
– И слушать не хочу!.. Где вы его разыскивать будете? Нет, нет!..
Было и смешно, и обидно, и тягостно. Андрей Федорыч был настойчив. На его добром, некрасивом лице блуждала растерянная улыбка и губы складывались в плаксивую гримасу. Но видно было, что он от своего не отступится.
– Ну, где вы его станете разыскивать? – повторил он, заметив на лице Гали нерешительность и колебание. – Везде в городе беспорядок, магазины не действуют, извощиков нет... Бесполезно... А у нас вы отдохнете. Безопасно... И Гликерья Степановна вам что-нибудь посоветует...
Он настоял на своем и увел девушку за собой. Безвольно, с усилившеюся болью в голове, Галя почти покорно пошла за ним.
17
Высокая рыхлая женщина в пестром капоте и со взбитой пышной прической, открывая дверь, басом спросила:
– Достал?.. – Потом, заметив Галю, переменила тон и подозрительно протянула: – Откуда это?..
Андрей Федорыч засуетился.
– Понимаешь, Гликерья Степановна, идет себе одна по улице... Такое безрассудство!..
– Кто это?
– Да понимаешь, Гликерья Степановна, Воробьева, Галочка... У меня кончила, замечательный математик... Заме-ча-ательный!..
– Здравствуйте, – не обращая внимания на мужа, поздоровалась женщина. – Проходите.
Галя сконфуженно потупила глаза.
– Я ведь шла по делу... А это Андрей Федорыч настоял, чтобы я зашла...
– Проходите! – повторила женщина и в голосе ее зазвучала настойчивость. – Андрей Федорыч хоть и непрактичный у меня, но поступил правильно: разве можно молодой барышне в такие дни по улицам одной ходить!
Она почти толкнула Галю из передней в комнату, которая служила, повидимому, одновременно столовой и кабинетом Андрея Федорыча, и сразу же не надолго оставила девушку.
– Не достал?! – грозно обернулась она к мужу. – Я так и знала! При твоей непрактичности...
– Гликерья Степановна! Бастуют...
– Это полное безобразие!.. Я понимаю, требования, свобода, коституция, но причем тут мирное население? Зачем же беспорядки?..
– Революция, Гликерия Степановна...
– Ах, оставьте меня, Андрей Федорыч, с этим словом!.. Революция! С нашим-то народом? Неграмотный, темный, дикий русский народ!..
– Гликерия Степановна!..
– Ну, ну, я знаю ваши убеждения, Андрей Федорыч! А вы, душечка, – снова перескочила она к Гале, – садитесь, сейчас чай пить будем. Только простите без малинового варенья. Я Андрея Федорыча за вареньем посылала, а вот, подите, магазины не торгуют!..
– Не торгуют, – виновато подтвердил Андрей Федорыч и смущенно поглядел на Галю вверх очков.
Гале было неудобно, она негодовала на себя, что послушалась математика и пришла сюда, но ее охватила непонятная слабость. Когда она присела на диван, голова у нее закружилась и она закрыла глаза. И вдруг все вокруг нее закружилось, исчезло. Сколько времени она так пробыла, она не знала, но очнулась она, почувствовав, что ей смачивают голову холодной водой и кто-то уверенно говорит:
– Нервишки. Такое время...
– Нет... – медленно проговорила Галя, пытаясь поднять голову с кем-то заботливо подложенной подушки, – это не нервы... Меня нагайкой... казак...
– Ну вот видите! – возмущенно вскричал незнакомый голос. Галя поглядела и увидела нового человека, который, очевидно, пришел во время ее обморока.
– Вот видите! – продолжал горячиться высокий, худощавый человек с гладко зачесанными назад черными с проседью волосами. – Обе стороны ведут себя возмутительно! Одни строют зачем-то баррикады, подражая, наверное, дурным образцам французской революции, а другие принимают это всерьез и увечат ни в чем неповинных людей!.. Надо протестовать!
– Я думаю, – неуверенно сунулся Андрей Федорыч, – городская дума могла бы.
– Оставь! – отстранила мужа Гликерия Степановна и ласково положила на лоб Гали большую теплую руку. – Ну, отошло? Ничего, милочка, у меня тоже бывает, от огорчений и от всяких дум.
Высокий человек, издали разглядывая Галю, откашлянулся:
– Казацкая нагайка, Гликерия Степановна, это будет почище всяких дум и огорчений.
– Не знаю, – сухо заметила Гликерия Степановна.
Андрей Федорыч, выходивший на кухню, появился и весело сообщил:
– А самоварчик-то вскипел. Можно и чай налаживать.
Хозяйка оставила Галю и занялась чаем.
За столом, куда Галю усадили с приветливой настойчивостью, пошли горячие разговоры. Высокий, отрекомендовавшийся Гале Натансоном, Брониславом Семеновичем, пианистом, учителем музыки, заспорил с Гликерией Степановной о происходящих событиях. Он был одинаково возмущен и забастовщиками и властями. Гликерия Степановна сердилась и считала, что хоть народ и темен и недорос до революции, но расправляться с ним пулями и нагайками не следует. Тем более, когда во время расправы страдают совершенно невинные. Особенно Гликерия Степановна негодовала на черносотенцев.
– Всякая там шваль и дрянь! Понабрали отбросов и те устраивают разные гадости.
Галя слушала с тоскою эти разговоры и думала о Павле, о товарищах. С трудом дождалась она, когда хозяева и гость напились чаю, и стала выходить из-за стола.
– Спасибо. Я пойду...
– Да куда вы? – удержала ее Гликерия Степановна. – Вам одной нельзя.
– А я вот провожу, – вызвался Натансон.
– Не ходите, – вмешался Андрей Федорыч. – Оставайтесь. А домой, на квартиру мы о вас сообщим. Вы ведь у чужих живете?
Но Галя решительно отказалась оставаться. Она пыталась отклонить и услуги музыканта, но Натансон уже брался за порыжелую шляпу и был настойчив.
Провожая девушку, Гликерия Степановна сказала:
– Ну вот вы теперь познакомились с нами. Заходите. Вы мне, милочка, очень понравились.
Андрей Федорыч радостно улыбался.
18
Солдаты скрылись за углом. Пред баррикадою было пусто. Дружинники перестали петь и стали обсуждать причину, заставившую офицера увести отряд в самый ответственный и критический момент.
– Одно из двух, – решил Павел, – или начальство спохватилось и решило не доходить до кровопролития или солдаты понадобились в другом месте. Пожалуй, последнее вернее...
Встал вопрос: что делать дальше? Дружинники с нетерпением ждали троих, которые ушли в разведку, для связи. Но те не появлялись.
– Неужто где-нибудь напоролись на патруль или полицию?
– Все может быть...
Павел собрал вокруг себя дружинников и стал совещаться с ними. Держаться на баррикаде имело смысл только затем, чтобы не пропускать полицию и войска в рабочие районы, там, где сосредоточен был стачечный комитет и партийные организации. Но теперь, когда солдаты повернули обратно и, повидимому, проследуют какие-то новые цели и предполагают может быть проходить по новому маршруту, стоило ли задерживаться здесь, не лучше ли соединиться с главной массой забастовавших и уже там определить, что делать дальше?
Угрюмый рябой печатник настаивал на том, чтобы оставаться на баррикаде.
– Она еще сгодиться! – говорил он убежденно. – А то уйдем мы, тут все растащут, испортят... И все труды наши даром сгинут!
Пимокатчики высказывались за присоединение к другим товарищам. Семинарист оглядывал близорукими глазами баррикаду и молчал. Но в молчании его было нежелание уходить. И еще у многих была нерешительность. Павел положил конец колебаниям.
– Пойдем...
Покидали баррикаду в неловком молчании. Словно стыдясь друг друга, дружинники шли молча. Они оглядывали напоследок нагромождение леса, дров, ящиков, вывесок. Они уходили от всего этого, как от родного, к чему привязались крепко и горячо. И они чувствовали какую-то невозвратимую утрату.
Словно подслушав эти чувства товарищей, Павел негромко обронил:
– Ничего, еще доведется поработать... Понастроим не таких...
Но дружинники молчали.
Свернув знамя, Павел сунул его подмышку и пошел впереди всех. На улице появлялись одинокие прохожие. Из полуоткрытых ворот боязливо выглядывали любопытные. Какой-то мальчишка выбежал на средину улицы, забежал вперед дружинников и радостно заорал:
– Забастовщики! Забастовщики!..
Откликаясь на звонкий мальчишеский крик, залаяла выкатившаяся из-под подворотни собака. Тяжелое напряжение, сковывавшее последние дни улицу, внезапно разрешилось. Улица стала обычной, повседневной. У дружинников посветлели лица. Семинарист, протиснувшись к Павлу и стараясь шагать с ним в ногу, сказал:
– Глядите, повылазил народ. Ожили!..
– Надолго-ли? – усмехнулся Павел. – События только начинают разворачиваться... Это обыватель с дуру храбрится.
Идти решили к железнодорожному собранию. Надо было пройти несколько улиц, выбраться к базарной площади и, пересекши ее, прямо подойти к цели. По мере того, как дружинники продвигались вперед, улицы становились оживленнее. Прохожие торопливо двигались все в одном направлении, туда же, куда и дружинники. Кто-то из последних обратил на это внимание. Гимназист все порывался что-то сказать, наконец, не выдержал и, отчаянно покраснев, высказал предположение:
– Это наверное наши... На митинг.
Печатник присмотрелся к прохожим и рассердился:
– Какие это наши?! Гляди, все больше смахивают на погромщиков... Наши! Тоже скажешь!
Павел хотел было придти на помощь сконфузившемуся гимназисту, но удержался. Он усмотрел среди прохожих знакомую фигуру. Сутулый человек с непомерно длинными руками, с бегающими глазами, бородатый, шел в кучке молчаливых людей, с виду смахивающих на переодетых полицейских. Человека этого Павел знал. Он часто проходил мимо его мелочной лавки на бойком углу, изредка покупая у него какую-нибудь мелочь. В его лавке Павла всегда поражал смешанный тяжелый запах лампадного масла и водки. Его глаза неизменно пристально оглядывали Павла и говорил он украдчиво, с подозрительной ласковостью, под которой скрывалось ненасытимое коварство.
– Это не наши, – тихо сказал Павел товарищам. – Подозрительный народ....
Лавочник и его спутники исподлобья рассматривали дружинников. Лавочник что-то сказал негромко и его слова вызвали невеселый приглушенный смех. После этого они ускорили шаг и далеко опередили дружинников.
Уже совсем вблизи базарной площади навстречу дружинникам попались те трое, разведчики. Увидев своих, Потапов радостно загудел:
– Вот хорошо! А мы задержались и к вам торопимся...
– Оставили? – односложно спросил Емельянов Павла.
– Приключение с нами было... – перебивая его, стал рассказывать Потапов. Гимназист, возбужденный встречей с возвратившимися товарищами и еще полный переживаниями от прихода солдат к баррикаде, не слушая Емельянова и Потапова, вмешался:
– А у нас что было!.. Замечательно!.. Солдаты... Стреляли вверх... И, понимаете, ушли!.. Замечательно!..
– Постойте! Будет вам! – всполошились дружинники. – Вы откуда? Что слышно?.. Какие вести?..
– Все пока идет расчудесно! – уверил Потапов.
– Кроме того только, – поправил его Емельянов, – что возле железнодорожного собрания собралось много народу, а в стороне скопились черносотенцы. Притаились и чего-то замышляют...
– Пошли туда живее! – единодушно решили дружинники.
И они прибавили шагу.
Вслед за ними, тоже ускорив ход, двинулись подозрительные прохожие с длинноруким во главе.
19
День по-немногу разыгрывался. Где-то за толстыми скучными сероватыми облаками намечалось солнце, которое порою прогрызало небольшое отверстие в них и проливало мягкий веселый, золотистый свет. Слегка розоватые лучи теплили крыши, выступы домов, верхушки деревьев. В окнах загоралось обманное, праздничное сияние.
Колокольный звон оборвался.
Тяжело колыхаясь, ворча и нестройно распевая торжественные песни, толпа повернула к железнодорожному собранию. Передние вышли прямо в упор демонстрантам, которые еще продолжали выстраиваться по восемь в ряд. Несшие икону и царский портрет приосанились. Сверкнуло золото оклада и рамы. Коннозаводчик Созонтов насмешливо поглядел на забастовщиков и хрипло крикнул:
– Шапки долой!.. Не видите: царский портрет и святость?!
– Шапки до-ло-ой! – дружно и торопливо подхватили в толпе. – До-ло-ой!..
Демонстранты молчали. Только в их рядах произошло какое-то движение. И впереди появились дружинники, которые заслонили густой цепью остальных. Над головами их развернулось красное знамя. В толпе, пришедшей из собора, взревели.
– Долой флаг!.. Сымайте шапки!.. Долой жидов!..
Высокий, широкоплечий дружинник отделился от цепи и прошел к голове манифестации. Он вплотную подошел к несшим икону и портрет, оглядел Созонтова и других и раздельно сказал:
– Проходите без скандалов.
– Мы не скандалим! – вспыхнул коннозаводчик. – Мы за веру, за царя и отечество! Это вот ваши жидки безобразничают. Непотребство учиняют. Красную тряпку выставили!..
– Проходите, – повторил дружинник. – Улица свободна. Нечего вам тут толпиться. Вы мешаете.
Созонтов обернулся к своим спутникам и что-то сказал им.
– Вы не командуйте нами! – вмешался несший хоругвь Суконников. – Мы за порядок. Не командуйте! Не берите себе воли...
Толпа, притихшая на мгновенье, заволновалась. Снова взревели крики:
– Долой!.. К черту флаг!.. Гоните жидов!..
А в задних рядах весело и озорно звенело:
– Бей жидов! Бей проклятых!
Царский портрет возвышался над головами. Его пристроили на особые носилки так, чтобы был он виден издалека. Внезапно со стороны демонстрантов хлопнул негромкий выстрел. Звук его был так слаб и незаметен, что сразу на него не обратили внимания. Но царский портрет колыхнулся и трещины лучами прошли по стеклу, мелкие осколки которого посыпались на землю.
Созонтов дико вытаращил глаза и завопил:
– Православные! Да что это!? В царский портрет стреляют!..
– Бей!.. Лупи забастовщиков!..
– Бей за царя!..
Толпа, как по сигналу, освирепела, завыла, надвинулась. Цепь дружинников на мгновенье была смята. Высокий дружинник, поведший переговоры с Созонтовым, покачнулся: коннозаводчик размахнулся и ударил его чем-то тяжелым по голове. Дружинник сунул руку в карман ватного пиджака, но был сшиблен с ног спутниками Созонтова. Радостный рев встретил его падение. Несколько человек нагнулись над ним и стали избивать его палками, кастетами, пинать тяжелыми сапогами, забрасывать камнями. Дружинники кинулись на помощь своему товарищу. Оправившись от первого замешательства, они быстро разогнали кучку погромщиков, бивших высокого. Тот поднялся окровавленный, его отвели в сторону. Манифестанты, обескураженные быстрыми и согласованными действиями дружинников, подались назад. Они кричали еще, они угрожали, но трусливо отступали. Созонтов и его компания нырнули в толпу, хоругви поникли, иконы и разбитый царский портрет, ныряя, поплыли над толпою куда-то назад.
Дружинники, ободренные успехом, весело пошли вперед, очищая пред собою широкий путь.
А в это время сзади, со стороны базара вероломно и дико понеслась новая толпа погромщиков. Эта толпа, возникшая внезапно, выросла, стеклась из разных закоулков базарной площади. Двери пономаревских корпусов распахнулись и оттуда хлынули люди. Они были вооружены. Они бежали с криком, с воем. Они наскочили на дружинников и стали бить. У некоторых из них были топоры, у других железные палки, у третьих револьверы. Налетая на дружинников, они били без разбору. И кричали. Дико, пьяно и угрожающе:
– Бей!.. Бей проклятых!..
Оттесненные дружинники пытались защищаться. Но толпа манифестантов, ободренная подоспевшей подмогой, повернулась, и дружинники оказались стиснутыми врагами с двух сторон. Созонтов и Суконников снова появились во главе манифестантов и стали командовать.
– Лупите жидов! – кричали они. – Жидов выбирайте!.. Попотчуйте, ребята, хорошенько некрещенных!
– Крушите христопродавцев!.. Не жалейте!..
Где-то над толпою снова всплыл высоко вместе с криками и ревом царский портрет.
20
В эти дни куда-то исчезли, куда-то скрылись жандармы. Вылощенный, душистый, всегда с иголочки одетый ротмистр Максимов, любивший показываться в общественных местах и часто выезжавший на прогулку в щегольской пролетке, которую лихо катил рыжий рысак, перестал появляться. Серебряный, вкрадчивый звон жандармских шпор не вплетался в уличный сложный шум. Усатые, уверенные в себе вахмистры не проходили по дощатым тротуарам и не тревожили своим видом прохожих. А унылое, выкрашенное в какой-то неопределенный серый цвет здание жандармского управления как бы замерло и выглядело нежилым и заброшенным.
Жандармы исчезли. В городе кипели страсти, полиция, не скрываясь, что-то предпринимала необычное, у губернатора происходили совещания, воинский начальник беспрестанно ездил от губернатора к себе и снова к губернатору. И только от жандармов как бы и следа не осталось.
И так же, как жандармское управление, нежилой и притихшей высилась над рекою губернская тюрьма. Здесь была тишина и пустынность. Заставленные решетками подслеповатые окна тускло выглядывали поверх остроконечных палей. Железная дверь, прятавшаяся в глубокой нише, открывалась редко. Большая запыленная и грязная икона с давно незажигавшеюся лампадой пред нею темнела над дверью и черное, неразличимое в тусклости и многодавней копоти лицо какого-то святого было бесстрастно.
Но неизменно и сторожко стояли на обычных местах часовые и в положенное время из караульного помещения выходила конвойная команда и происходила смена часовых. И регулярно отзванивал на тюремном дворе надтреснутый колокол часы.
За тюрьмой простирались пустыри и высились горы. Горы увенчивались темными покосившимися крестами: тюремное кладбище было неприглядно и заброшено. Над горами, над крестами, над тюрьмой плыли серые, скучные облака.
В эти дни в тюрьму и из тюрьмы никого не выводили. На какой-то короткий срок прекратились аресты и обыски. Полиция и войска действовали на улицах. Улицы зажили новой, небывалой жизнью. На улицах зареяли новые, неслыханные звуки. По-новому зазвучали старые слова. Мрачными пятнами запестрели на заборах и витринах приказы и распоряжения начальства. Жирными буквами кричали с белых листов обязательного постановления генерал-губернатора угрозы и предостережения.
«Ничтожная группа людей, явно ставших на сторону врагов правительства, призывает население к насилию и уличным беспорядкам. Распуская нелепые, заведомо ложные слухи, люди эти смущают мирных граждан, принуждая их примкнуть к преступным замыслам».
Жирные буквы с белых листов, густо налепленных на заборах и витринах, грозили:
«Если произойдет уличный беспорядок, он будет подавлен силою оружия, а поэтому предупреждаю всех мирных граждан не примыкать к толпе, дабы вместе с виновными не пострадали невинные»...
Мирные граждане косились на эти казенные объявления. И порою рядом с «обязательными постановлениями» находили небольшие листки, дерзко говорившие о другом. С этих листков необычно и звонко кричало еще непривычное, еще не ставшее обиходным простое, но волнующее слово:
– Товарищи!..
Мирные граждане по-разному воспринимали это слово. Иные задумчиво и пугливо вдумывались в него, крутили головами, о чем-то вспоминали и порою глубокомысленно произносили:
– Да-а... Конечно... Перемена режима и свободы... Давно пора. Давно...
И поспешно оглядывались.
Другие шипели:
– Тов-ва-арищи-и!.. Сброд всякий, жидовье!.. Крамола!.. Взгреть бы да и тово!..
Но не одно это слово будоражило людей. С прокламаций нагло и дерзновенно рвались совершенно неслыханные мысли.
«Долой самодержавие!» – печатными русскими буквами провозглашали неизвестно где напечатанные листки. И в этих словах были и призыв и угроза...
«Долой самодержавие!»
Благоразумные, солидные, степенные люди хмурились.
– Это значит что же? Нарушение основ? Полный переворот жизни? Куда же нас все это приведет?!
В общественном собрании, где еще кое-как теплилась жизнь и по вечерам вместо электричества, которого не было из-за забастовки, зажигались в люстрах и шандалах стеариновые свечи, в общественном собрании завсегдатаи волновались и бурлили. Адвокаты, врачи, молодые коммерсанты между двумя роберами винта обсуждали создавшееся положение.
– Речь идет о несомненном обновлении загнившего строя, – горячился присяжный поверенный Чепурной, славившийся в городе своими связями с шансонетками и успехом в гражданских делах. – Без конституции мы не обойдемся!..
Собеседники его вздрагивали, услышав опасное слово конституция, но придвигались поближе, чтобы лучше внимать словам признанного краснобая.
– Конечно, булыгинская дума, – продолжал он, – не является настоящим законодательным учреждением, конечно, это не английская конституция...
– О-о! Еще бы английская!.. – по разному вздыхали окружающие: одни с сожалением, другие облегченно.
– Но все-таки, – успокаивал себя и своих единомышленников Чепурной, – все-таки это большой шаг, громадный!..
– Громадный! – соглашались с ним партнеры. И тасовали карты ожесточенней и быстрее.
– Я в червах...
– Вистую...
– Пасс...
– Нельзя требовать всего сразу. Это горячие головы думают переделать Россию сразу. У нас свой собственный исторический путь развития...
– Разумеется, свой! – вмешивался Суконников-младший, сын крупного домовладельца и ярого монархиста. – И мне кажется, все эти крики о равноправии неосмотрительны. Я, конечно, не против там кой-какого облегчения и для евреев. Но нельзя же так сразу полное равенство.
– Ох, Сергей Петрович! – укоризненно останавливал его Чепурной. – Не отстаете вы все-таки от своего папаши!..
– Нет, почему же?! – оправдывался Суконников и зло думал о Чепурном: «Тебе хорошо за равноправие жидов распинаться! Ты какой куш с Вайнберга отхватил за его дело против наследников Синициных»?..
Иногда в эти необычайные вечера в общественное собрание на минутку забегал доктор Скудельский. Тогда споры разгорались живее. Скудельского все знали за «красного», на которого уже давно косо поглядывали жандармы. У Скудельского старались узнать последние новости.
– Как, Вячеслав Францевич, скоро вы нас арестовывать станете? – насмешливо спрашивали его. – Ведь вы наверное тут у нас президентом республики будете! Скоро?
– Господа, господа! – мягким баритоном ворковал Скудельский, пожимая руки знакомым. – Разве можно так шутить? Мы за свободу мнений. Мы за полную свободу мнений. За что же вас арестовывать?!..
– А свет нам ваши товарищи скоро дадут? Бастовать скоро кончат?
– А движение скоро восстановится?..
– Этого никто не может сказать, – заявлял Скудельский и рассказывал что-нибудь новое.
Однажды он пришел в общественное собрание взволнованный.
– Чорт знает что такое! – сообщил он. – Полиция обнаглела. В третьей полицейской части открыто собирают всяких подозрительных лиц, вербуют шпану из Спасского предместья, из кузнечных рядов и открыто готовят погром...
– Ну, это вы уж слишком! – запротестовали осторожные.
– Мне это достоверно известно! – утверждал Скудельский. – Погром будет. И погром не только еврейский, а будут бить интеллигенцию. Каждый из нас не гарантирован от того, что его не подшибет какой-нибудь наученный полицией босяк... И знаете, – он обратился к Суконникову-младшему, – в этом предприятии, в готовящемся погроме большую роль играет ваш отец.
Суконников-младший слегка покраснел и неуверенно возразил:
– Вряд-ли... Хотя папаша мой человек старых привычек... Взгляды у него отсталые...
– Какие уж тут взгляды! Просто зоологический национализм!..
Чепурной, насмешливо поглядывавший на Скудельского, поджал губы:
– Ведь вы же за полную свободу мнений!
– Всему есть предел! – возразил Скудельский. – У господина Суконникова, у родителя Сергея Петровича, не мнения, а страсть, пагубная и вредная страсть.
– Оставьте, Вячеслав Францевич, вы преувеличиваете! Никакого погрома не будет. Во-первых, начальство не допустит, а во-вторых, все эти разговоры о погромах, об избиении интеллигенции и евреев только на руку самым крайним элементам...
– У меня коронка до восьмерки была... Сходи бы вы под козыря...
– Нет, это был самый неразумный ход! Вы же лапти плетете, а не в карты играете!.. Это возмутительно!
– Господа, господа! Продолжаем! Кому сдавать?
– А газеты все еще не выходят... И почты нет. Скучно!..
21
Газеты не выходили. Редактор старой местной газеты тщетно старался уговорить типографских рабочих не бросать работу. Он даже пускал в ход свои прошлые революционные заслуги.
– Товарищи! – взывал он. – Вы знаете ведь, что я сам революционер и был связан когда-то с народовольцами. И газета моя никогда не опускала знамени... И вот в такие дни, когда общество нуждается в самой точной и проверенно честной информации, вы лишаете его этого законного желания... Ведь вы, простите меня за прямоту, этим играете на руку противникам народоправства!..
Но рабочие внимательно слушали редактора и бастовали.
Редактор, который был связан когда-то с народовольцами, затаил в груди обиду. Он наблюдал за тем, как рабочие и учащиеся и кой-кто из радикальной интеллигенции шли за агитаторами и повторяли их лозунги. Он считал, что агитаторы эти поступают легкомысленно, призывая массы к решительным действиям. Он был убежден, что знает русский народ, русских крестьян и русского фабричного рабочего. И это знание его подсказывало ему, что русские рабочие и крестьяне еще не доросли до революции.
– Неграмотный и невежественный народ не в состоянии делать революцию! – кипятился он в кругу своих единомышленников. – Он в силах может быть произвести бунт. А бунт это не революция...







