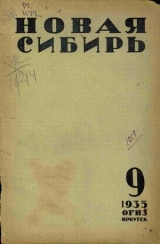
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
– Так... – раздумчиво протянул уголовный. Второй осмотрел Антонова внимательно, как бы запоминая его надолго, и проникновенно произнес:
– Улучшения жизни народ ждет... Вот и мы страдаем. Наверное, и нас коснется общий переворот жизни!.. Надеемся.
– Как на каменную стену! – подхватил старший. – Как на каменную стену надеемся на вас...
Антонов промолчал. Уголовные переглянулись.
– Значит, у вас заминка вышла, – осведомился младший. – Вот сколько ваших застукали! Неужели совсем задавили вас фараоны и жандармы?
– Ну, совсем-то не задавят! – вспыхнул Антонов.
– Вот, вот! Я об том же и толкую! – обрадованно подхватил старший.
Представители уголовных ушли и разнесли по тюрьме слухи о революционерах и о революции. В этих слухах было много невероятного и вымышленного, но их жадно хватали, обсуждали и разносили дальше. И из этих слухов родилась уверенность:
– Когда политические добьются своего, тюрьмы будут раскрыты, и все выйдут на волю!
39
Через уголовных новым политическим заключенным удалось связаться с группой товарищей, сидевших в тюрьме уже помногу месяцев.
Они сидели в отдельном корпусе, в одиночках, которые назывались «новой секретной». До них почти не доходили вести с воли, и они почти ничего не знали о том, что совершалось в стране. Уголовный староста изловчился переслать им записку и достать от них ответ. И когда этот ответ дошел до Антонова и староста политических прочитал его, он взволнованно сообщил о нем камере:
– В «новой секретке» невыносимый режим! Надо протестовать! – решило большинство.
Пал Палыч, Чепурной и Скудельский промолчали. Они уже потерпели поражение в одном вопросе. Камере удалось вызвать помощника прокурора и добиться перевода Павла в тюремную больницу. Добилась камера и того, что с Павлом в больницу перевелся в качестве брата милосердия один товарищ, и староста и Скудельский, как врач, получили возможность проходить в больницу в любое время дня.
И теперь, после этой первой победы, камера бурно заволновалась, узнав о том, что группа старых политических заключенных находится где-то на отшибе, отрезанная от всех, подвергнутая тюремным начальством особому, тяжелому режиму.
Антонов снова вызвал смотрителя. На этот раз смотритель пришел скоро. Он явился в камеру один, оставив по ту сторону открывшего ему двери надзирателя. Вид у него был слегка виноватый и держался он очень учтиво и предупредительно.
– Поймите меня, господа, – прижал он руки ко груди, выслушав требование старосты о том, чтобы всех политических перевели в этот корпус, – поймите, это не в моей власти... Да я бы сам рад был... но без разрешения прокурора и жандармского управления не могу!
– Мы предъявляем вам прямое требование, – повторил Антонов, – чтобы все наши товарищи, сидящие в этой тюрьме, были поставлены в одинаковые условия. Понимаете – мы требуем!
Смотритель поджал губы, мгновенье помолчал и неуверенно возразил:
– По закону вы, господа, требовать ничего не имеете права!.. Да я по закону даже не вправе выслушивать такие заявления!
– А вы все-таки выслушайте! – усмехнулся Антонов. – Мы настаиваем!
– Хорошо, – покорно согласился смотритель и повернулся к двери. И уже у дверей зачем-то снова повторил: – Я бы сам рад, да...
После ухода смотрителя в камере стало шумно. Антонова обступили со всех сторон.
– Чего это он лисой такой прикинулся?..
– Почему ты его не прижал и не пригрозил протестом?
– Товарищи, а ведь смотритель не зря, пожалуй, таким тихоней себя с нами вел! Что-то, видать, случилось!..
Пал Палыч со своих нар уверенно крикнул:
– Уверяю вас, товарищи, на воле, наверное, произошло что-то серьезное! Ручаюсь, что объявлена конституция!..
– О, о!..
– Держите карман шире!.. Английская конституция! Самая цивилизованная!
Выждав пока уляжется веселый шум, Вячеслав Францевич хмуро и неодобрительно покачал головой.
– Чего же вы смеетесь? – вспыхнул он, улучив минутку тишины. – Ведь в Петербурге подготовлялся вопрос о представительном образе правления... Нет ничего невероятного в том, если там, за этими стенами, опубликован какой-нибудь соответствующий документ... Правительство не могло не посчитаться с настроением народа...
Лебедев презрительно рассмеялся. Скудельский пристально посмотрел на него и отвернулся.
– Как бы то там ни было, но поведение смотрителя свидетельствует о каких-то новых настроениях... – закончил он и демонстративно растянулся на своей постели.
Камера постепенно затихла. В разных местах завязались мирные беседы. За дверями, позванивая ключами, осторожно, словно крадучись, проходил надзиратель. Его шаги отдавались гулко под каменными сводами коридора.
В углу, где примостилась самая зеленая молодежь, всплеснулась песня. Она прозвучала сначала неуверенно и глухо, но вот ее подхватили новые голоса, и она окрепла. Она ударилась в глухие стены тюрьмы, вспыхнула веселым задором, свежестью, удалью. Она перекатилась с нары на нару, всколыхнула одного, другого, увлекла их. К ней пристали в одном, в другом углу. С веселой назойливостью лезла она в уши и манила к себе. От нее нельзя было отвязаться. Вячеслав Францевич, поморщившийся при первых ее звуках, теперь приподнялся на постели, усмехнулся, откашлялся и попробовал запеть. Чепурной весело сверкнул глазами и, отмеривая такт рукою, подхватил знакомые слова. Пал Палыч, беспомощно раскрывший рот, так и застыл: у него не было слуха, и он никогда не пел, а петь сейчас очень хотелось...
Когда песня наполнила многоголосым хором низкую и душную камеру и вырвалась в коридор, дверь загремела, скрипнул отпираемый замок, и в камеру вошло несколько человек.
Вошедшие приостановились у самого входа. Песня оборвалась.
– В чем дело?
– Здравствуйте, товарищи!.. Нас арестовали сегодня утром...
Впереди всех в камеру спокойно и деловито вступил семинарист Самсонов. За ним Потапов.
Антонов хозяйственно пошел навстречу новым товарищам. В камере, в перемежку с приветствиями, понеслись насмешливые возгласы:
– Ну, вот вам и конституция!.. Самый верный признак!..
Пал Палыч и Скудельский переглянулись и спрятали глаза.
40
Человек, вышедший из флигелька, где жили и работали Матвей и Елена, украдкой оглянулся. Улица была пустынна. Все было спокойно и тихо на ней. У человека солидный вид: широкая шуба не скрывает пухлого живота, на голове меховая шапка. Походка у человека уверенная. Он идет по делу: может быть, где-нибудь на базаре расселась его торговая лавка и там нужен хозяйский глаз. Может быть, на приостановившейся по теперешним тяжелым временам постройке десятники ждут распоряжений подрядчика. Может быть... Человек сворачивает за угол, заворачивает полу шубы, вытаскивает платок, но неосторожным движением роняет его. Наклоняясь за упавшим платком, человек оборачивается и быстро схватывает проницательным и насторожившимся взглядом пройденный путь. Там попрежнему все спокойно. Тогда человек ускоряет шаги и идет своей дорогой еще уверенней, чем прежде.
А в квартирке Матвея и Елены после ухода человека исчезает запас свежих прокламаций, и Матвей долго жжет лампадное масло перед сияющей блестящим окладом иконой: он по опыту знает, что лампадный чад этот хорошо убивает запах типографской краски.
Елена устало улыбается и делает что-то по хозяйству. За эти два дня она бесконечно утомилась. Они с Матвеем проводят целые ночи за типографским станком. Они еле успевают набирать и отпечатывать листовки, которые расходятся по всему городу. А днем им приходится быть все время настороже, делать вид, что они очень заняты своим несложным хозяйством, переносить пустые разговоры соседей, наблюдать за тем, чтобы пристав не поймал их врасплох.
Матвей поглядывает украдкой на девушку. Не впервые ему приходится работать бок о бок с преданными делу товарищами, но Елена умиляет его. Он видит ее беззаветность, ее ясную простоту и бесхитростность. Он подмечает темные круги под ее глазами и нервный блеск ее глаз. Он знает: она устала, она очень устала! Но она ни жестом, ни вздохом не выдает своей усталости. Не жалуется. Не просит передыха. И, кроме всего, она не страшится опасности, которая подстерегает их на каждом шагу.
«Молодчина!» – с теплым чувством думает про девушку Матвей. Но скрывает это теплое чувство и порою с нарочитой суровостью и бесцеремонностью подстегивает ее энергию, торопит работать чище и скорее.
Елена принимает это отношение товарища, как должное, как неизбежное.
Елена знает, что работа, которую они исполняют, сейчас является наиболее ответственной. Она знает, что вот товарищ, унесший от них свежий запас литературы, передаст ее в комитет, а оттуда тысячи листовок разойдутся по рукам и появятся на стенах домов, на заборах. Она знает, что эти листовки наполнят уверенностью и бодростью товарищей и что не один десяток рабочих, поколебавшихся в дни разгрома и сумятицы, почерпнет из этих свежеотпечатанных прокламаций силу и крепость в борьбе.
Это сознание согревает Елену, множит ее энергию, не дает ей предаваться унынию и падать духом.
Как-то давно, в первые месяцы вхождения ее в подпольную работу, старая партийка, руководившая ее первыми шагами, проникновенно и просто сказала ей:
– Главное, Леночка, не воображать, что совершаешь какой-то подвиг. Все у нас просто и обыкновенно. Просто и понятно, как борьба и... смерть!
И Елена запомнила: подвига нет. Есть большая, правда, трудная, но необходимая и неизбежная работа. И эту работу надо выполнять хорошо и без всяких отговорок.
А сейчас такая уйма работы! За стенами их флигелька происходят небывалые события. И разве она, Елена, не является верной и непосредственной участницей этих событий?!
В маленьком флигельке – тишина. Лампада пред иконою чадит. На окнах плотные занавески, пол под ногами поскрипывает. За окном серый морозный день.
– А ведь скоро победа! – неожиданно говорит Елена, зябко кутаясь в мягкую шаль. – Скоро конец, Матвей!..
Матвей отходит от стола, на котором набивает папиросы, и, стряхивая с пальцев табачные крошки, смеется.
– Скоро, Елена... Только нужно быть готовыми к поражению.
– Вы думаете? – вспыхивает девушка.
– Думаю... Надо, Елена, стремиться и верить в победу, но ни на минуту не упускать возможности поражения!.. Ведь вот, – он указал через окно на передний дом, где жил пристав, – они еще очень хорошо вооружены!.. А впрочем, – он легко и заразительно улыбнулся, – давайте-ка, хозяюшка, чай пить!
Елена неохотно усмехнулась и пошла к шкафу с посудой.
– А мне кажется, что мы уже победили... – неуверенно сказала она.
– Угу... – промычал Матвей и вернулся к столу.
41
Гликерия Степановна узнала, что Натансона избили погромщики и что он лежит в больнице.
– Андрей Федорыч, – заявила она мужу, – надо сходить навестить Бронислава Семеновича. Ведь он, бедный, одинокий.
– Надо! – охотно согласился Андрей Федорыч. – Непременно!
Гликерия Степановна собрала кое-что из съестного и отправилась в больницу. Мужу она решительно приказала:
– Ты не ходи. Я одна.
В приемной больницы ей долго не удавалось добиться толку. Заспанный санитар упрямо и недружелюбно твердил ей на все расспросы:
– Посетителев никаких не допущаем! Воспрещено.
– Да мне к раненому надо! Где у вас главный врач? Проведите меня, я с ним переговорю!
Главного врача Гликерия Степановна поймала случайно. Он проходил мимо, озабоченный и торопливый, и замахал на Гликерию Степановну руками, когда она обратилась к нему со своей просьбой:
– Нет, нет! Нельзя, нельзя!
– Да как же нельзя?! – возмутилась Гликерия Степановна. – Это мой хороший знакомый! Музыкант! Он случайно попал в беду. Вы даже и не смеете меня не пропустить к нему!
У главного врача от удивления очки взметнулись на лоб.
– То-есть, как это не смею? – оторопел он. – Вы кто же такая?
– Женщина! – насела на него Гликерия Степановна, и вид у нее был внушительный и грозный. – Слабая женщина, которая пришла по долгу хорошего знакомого и друга оказать своему ближнему самое простое и обыкновенное внимание...
– Слабая женщина... – пробормотал главный врач и сбоку оглядел Гликерию Степановну. И внезапно побагровев, грозно крикнул:
– Остапов! Давайте халат! Проведите эту мадам в третью палату!..
Завязывая тесемочки на халате, Гликерия Степанова назидательно говорила санитару:
– Глупости вы мне, братец, говорили: воспрещено! Вот видали!..
Санитар насмешливо смотрел вслед быстро удалявшемуся в коридоре главному врачу.
Сразу разыскав среди однообразных коек койку Натансона, Гликерия Степановна быстро подошла к музыканту и, остановившись возле него, строго сказала:
– Вы что же это, Бронислав Семенович? Это на что похоже? Ах, какой неосторожный.
Натансон с трудом повернул голову и болезненно улыбнулся.
– Помяли... Хорошо, что руки целы... Спасибо, что зашли...
– Ну, глупости! Какое тут спасибо! Вот поправляйтесь скорее, я с вами разделаюсь! Сейчас не хочу ссориться... Очень у вас все болит?
– Порядочно... Гликерия Степановна, хочу я вас спросить...
– Чего еще? – присаживаясь на табурет и кладя на столик возле Натансона принесенный сверток, строго спросила Гликерия Степановна.
Натансон с трудом повернулся к ней и вздохнул.
– Вы ничего не знаете о той девушке... о Гале?..
Гликерия Степановна энергично потрясла головой.
– Вот не ожидала! – укоризненно воскликнула она, и в ее глазах вспыхнули веселые искорки. – Никак от вас, Бронислав Семенович, не ожидала! Вы такой скромный, уравновешенный и вдруг – влюбились!..
– Ах! – поморщился Натансон и густо покраснел. – О чем вы говорите, Гликерия Степановна! Дело-то такое... Я... она была рядом со мною, когда меня эти звери сшибли с ног... Не случилось ли с ней чего-нибудь? Вот о чем я...
– Понимаю, понимаю. Можете быть спокойны. Пока что с вашей Галей ничего не произошло особенно плохого...
– А что с ней? – вспыхнул Натансон и еще круче повернулся к Гликерии Степановне.
– Сидит. Арестована...
– Ах, боже мой! – заволновался Натансон.
– Чего вы «боже мой»? – накинулась на него Гликерия Степановна. – Ничего ей не сделается! Не она одна!.. Прямо вы все с ума посходили! Вот мой Андрей Федорович тоже охает и ахает о ней! Глупости!.. Вам поправляться надо. Я вам масла принесла, пирожков. Кушайте и набирайтесь сил... Выздоровеете, сразу к нам приходите.
Лицо у Натансона приняло виноватое выражение. Он неуверенно сказал:
– Видите ли... Я не знаю, что будет, когда я выздоровлю... Ведь меня тут вроде как под арестом держат...
У Гликерии Степановны в глазах отразилось беспредельное недоумение. Она ничего не понимала. Она переспросила Натансона несколько раз, потом оглянулась, оглядела внимательно палату, что-то проворчала про себя. Затем притихла и, придвинув Натансону поближе принесенную передачу, вздохнула.
– А вы ешьте. Ешьте, Бронислав Семенович, и копите здоровье!
Выйдя из больницы, она заметила у подъезда городового, который внимательно оглядел ее. Метнув в него сердитый взгляд, она прошла мимо, гордая, негодующая и независимая.
42
В ста верстах от города, в рабочем поселке Сосновке, телеграфисты время от времени ухитрялись связаться с отдаленными пунктами. Там провода были в исправности и там стачечный комитет не успевал уследить за всем.
Поэтому в поселке порою узнавали о происходящем в Петербурге, в Москве и в других крупных центрах.
В последние два-три дня и эта связь внезапно прервалась. И сколько ни бился телеграфист Осьмушин, ничего добиться он не мог. Приходили к нему товарищи, понукали его:
– Вызывай Белореченскую, может ответят!.
Он вызывал Белореченскую, но она молчала. Молчали и другие станции и в ту и в другую сторону.
Станционный жандарм, присмиревший и спрятавшийся в это смутное и опасное время, ловил где-нибудь без свидетелей Осьмушина и, заглядывая ему в глаза, заискивающе и почти робко шептал:
– Ну, как? Ничего отрадного?
Осьмушин злорадствовал и, чтобы помучить жандарма, долго медлил с ответом. Потом путано и пространно говорил:
– Отрадного, господин Павлов, много... Думаю, что на-деньках телеграфная связь окончательно установится... А в Петербурге все спокойно и благополучно: бастуют и всякое такое... Погода, передают, установилась расчудесная. Даже в демисезонах гуляют...
Жандарм вслушивался в болтовню телеграфиста, темнел, обижался и загадочно отмалчивался. Уходил он от Осьмушина обиженный и затаив злобу. Но приходило совсем немного времени, и он снова ловил телеграфиста и снова допытывался:
– Ну, как?
– А все так же... – огорашивал его телеграфист.
Небольшая железнодорожная станция, замеревшая и обезлюдевшая в эти дни, торчала в холодном и неприглядном поле одиноко и заброшенно. Избы и заборы поселка отбежали от нее в сторону, словно отгородились и настороженно что-то выжидали. По путям, по платформе, возле построек, беспокойно и хмуро бродил, томясь безделием и неизвестностью, начальник станции. Он уже давно не надевал своей красной фуражки. Он тоскливо поглядывал по сторонам. У него не было никаких служебных забот, но он тосковал, в ему все казалось, что вот-вот разразится на тихой его станции и в тихой его жизни что-то неведомое, неотвратимое и невыносимо неприятное. По нескольку раз в день он усаживался за телеграфный аппарат и выстукивал, вызывал соседей. Но аппарат работал впустую. И соседи не отвечали. Начальник станции ершил всклокоченные волосы, теребил плохо подстриженные усы и, возвращаясь в свою квартиру, хмуро и обиженно говорил жене:
– Ничего... Как будто передохли они все там!..
Порою начальник станции на платформе, на доске, где обычно он сам вывешивал сведения об опоздавших поездах, находил тщательно наклеенный листок, фиолетовые рукописные буквы на котором кричали дерзкие слова. Он внимательно прочитывал прокламацию, крутил головой и недоумевал: кто же это здесь этими беспокойными делами занимается. Для порядка он призывал сторожа, тыкал пальцем в листок и строго спрашивал:
– Это что? Чего ты смотришь?.. Без-зобразие!..
Сторож равнодушно выслушивал выговор, непочтительно усмехался и резонно объяснял:
– А кто их знает!.. И к тому же это дело не мое... Жандар на то. Его обязанность...
Начальник станции мгновенно умолкал. Он вспомнил, что время настало, по его мнению, сумасшедшее, что жандарм присмирел и что вот даже всегда услужливый и почтительный сторож Агапов осмелел и почти дерзит. Он отходил от дерзкого листка и махал рукой: а ну его! Пусть висит!
Осьмушин наведывался к начальнику станции и пытал его насчет железнодорожного телеграфа:
– Не удалось связаться?
Начальник станции безнадежно качал головой, но Осьмушин не верил ему и уходил на квартиру к заболевшему станционному телеграфисту, усаживался возле него, негодовал.
– Лежишь! А твой Перец Уксусович мудрит там возле аппаратов и ни чорта от него не узнаешь!.. И что ты вздумал в такое время пациентом деликатным сделаться!.. Теперь что происходит?! Ты подумай!.. Эх, попасть бы в большой город сейчас! Что только там ни происходит!.. Ты подумай!..
Когда Осьмушину становилось особенно тошно и тоскливо, он уходил на самую окраину поселка, стучался в калитку трехоконного домика и попадал в квартиру слесаря Нестерова. Хозяина он не всегда заставал дома, а когда и заставал, то у того бывал очень озабоченный вид, такой, словно он забежал домой только на перепутьи и надо ему снова куда-то бежать. Слесарь встречал Осьмушина неизменным вопросом:
– Принес новости?
– Какое! – безнадежно отмахивался телеграфист.
– Ну, тогда ты меня извини! – поспешно говорил Нестеров. – Я пошел. Дела.
– Дела! – усмехался Осьмушин. – Работа прекращена, жизнь, можно сказать, на точке замерзания, а ты: дела!
– Эх, ты! – укорял слесарь телеграфиста. – Как это на точке замерзания? События-то какие!.. И чему ты учился, если так рассуждаешь?
– События... – краснел Осьмушин. – Это я все понимаю. Так события-то в больших городах совершаются, а не в нашем мурье!.. У нас и людей-то подходящих для этого нет.
– Ерундишь! – сердился Нестеров. – Люди имеются...
Расставаясь с ним, Осьмушин с некоторой завистью думал о том, что вот слесарь, наверное, спешит к этим самым подходящим людям, которые не только участвуют в событиях, но сами делают их.
В порыве накатывающей на него суетливости Осьмушин убегал на телеграф, усаживался к аппарату и вызывал, выстукивал:
– Белореченская? Белореченская?.. Это я, Сосновка!.. Белореченская?..
Но Белореченская молчала.
Провода мертво гудели, колеблемые холодным ветром. По проводам не стремилась еще живая мысль. Провода не передавали желанной вести...
43
Стопки свежеотпечатанных листков лежали на столе и на двух стульях. В комнате было густо накурено. Люди, которые курили, только что горячо поспорили. У них поблескивали глаза, и они поглядывали один на другого вызывающе и почти неприязненно.
Черноволосый, опрятно и с некоторым щегольством одетый железнодорожник, примял недокуренную папироску и ткнул ее в груду окурков на краю стола.
– Самое время кончать!.. – продолжая только что притихший спор, заметил он. – Никакого смысла нет тянуть забастовку.
– Может быть, никакого смысла не было и начинать ее? – язвительно перебил его другой железнодорожник, высокий, с крупными следами оспы на худом лице. – Так по-твоему?
– Начинать, конечно, пришлось... Необходимо было. – Спокойно возразил черноволосый. – А теперь положение изменилось...
– Каким образом? Объясни, Васильев? – резко спросил третий железнодорожник. Коренастый, с большими узловатыми кулаками, с хитро и насмешливо выглядывающими из-под серых нависших бровей глазами, он с нескрываемым пренебрежением поглядывал на Васильева. – Объясни!
Васильев вытянул из пачки свежую папиросу, не закуривая, покрутил ее в пальцах и круто повернулся к спрашивавшему.
– А вот таким образом: войск в городе много да еще новые подтягиваются. Неравные силы у нас! Расколотят, как щенят!..
– Это еще посмотрим!.. Как сказать! – раздалось с разных сторон. – Войска уже отказывались стрелять в народ!.. На войска у правительства не очень крепкая надежда!.. Подведут!..
Оглядев возражавших и все еще покручивая незажженную папироску между пальцами, Васильев предупреждающе добавил:
– Помимо всего, часть членов забастовочного комитета за прекращение забастовки...
– Знаем!.. – вышел из-за стола человек в очках... – Очень прекрасно знаем, какая часть комитета срывает забастовку!.. Ну, вы, Васильев, что же, вполне согласны с этой частью?
Васильев смутился. Он почувствовал, что все смотрят на него неодобрительно.
– Вы согласны с ними? – повторил человек в очках.
– А если они правы?! – вспыхнул Васильев.
Человек в очках обернулся к товарищам и коротко кинул:
– Слыхали?
Несколько человек ответили:
– Слышим... Старая песня.
Коренастый железнодорожник любовно посмотрел на человека в очках:
– Мы от него, товарищ Сергей Иванович, еще и не этакое слыхали. Бьемся с ним, и никакого толку... Запутался парень!
– Запутался! – усмехнулся Сергей Иванович. – Видно, путаники сбили... Вот, – он взял со стола из пачки один листок и поднял его в протянутой руке, – вот мы зовем рабочих на борьбу. Разве мы шутим или в бирюльки играем? И разве мы не знали раньше, что у правительства имеются и войска, и полиция, и жандармерия? Мы все это прекрасно учитывали и учитываем. Но мы знаем и еще одно: стоит рабочему классу сплотиться и действовать дружно и организованно – и он победит!
– Конечно! – подхватил коренастый железнодорожник. – Яснее ясного!
У Васильева потемнели глаза. Упрямо наклонив голову, он перебил товарищей:
– С востока в любое время может прибыть сколько угодно войска. Можем ли мы устоять против них с нашими несчастными револьверишками и неумением даже путем обращаться с таким оружием?.. Надо быть благоразумными...
– Да, да! – усмехнулся Сергей Иванович, – вот вы это настоящее слово и сказали, которого я дожидался от вас: благоразумие!.. Скажите еще: постепенность, умеренность в требованиях, осторожность, и из вас выйдет самый патентованный, осторожный либерал!.. Проверьте себя, Васильев, по пути ли вам с революцией?
В комнате возникла тишина. Она была тягостной тем более, что только что здесь было шумно и оживленно. Сергей Иванович снял очки и, подышав на них, протер стекла смятым носовым платком. Васильев бросил незажженную папироску и вытащил из пачки новую. Голос у него был хриплым и глухим, когда он взволнованно сказал:
– Я в либералах не хожу... Не понимаю, почему товарищ Сергей Иванович сразу наклеивает ярлычки!.. Каждый имеет право высказывать свои соображения. По-моему, забастовка изжила себя, того и гляди, прекратится стихийно. А тогда хуже будет... Лучше прекратить ее в организованном порядке...
– Отступать в организованном порядке! – насмешливо подхватил рябой железнодорожник. – И трусить тоже в организованном порядке!
– Ты напрасно, Протасов, насмехаешься! – озлился Васильев. – Мы еще посмотрим, кто труса праздновать станет, когда придется туго!..
– Оставьте! – вмешался Сергей Иванович. – Дело не в личной отваге или трусости. Можно не сомневаться в том, что Васильев при нужде не струсит, но платформочка у него с гнильцой... С гнильцой, Васильев!.. А что касается части стачечного комитета, настаивающей на прекращении забастовки, то мы еще посмотрим, что массы скажут! Посмотрим!..
В дверь постучались. Сергей Иванович примолк. Все настороженно прислушались. Вошла женщина. Она прошла прямо к Сергею Ивановичу и тихо сказала ему:
– Вас ждут, товарищ Сергей Иванович. Пришли.
Сергей Иванович обернулся к собравшимся.
– Мне надо уходить. Разбирайте литературу. Собираемся послезавтра. Ну, а если надо будет, Протасов знает, как оповестить меня.
Он вышел из комнаты вслед за женщиной. Спор без него вспыхнул с новой силой.
44
– Ну, вот, пошли, – сказал Емельянов, когда женщина подвела к нему Сергея Ивановича. – Ребята собрались, остановка за вами.
Они вышли на улицу. Женщина пошла быстро вперед. Емельянов весело сверкнул зубами:
– Вроде разведки Варвара у нас. Ловкая. Можно без опаски итти.
Итти пришлось недалеко. Женщина, скрывавшаяся впереди, вернулась и деловито сообщила, что можно проходить спокойно. Они завернули за угол и вошли в полуоткрытую калитку.
В большой комнате, куда они попали из полутемных сеней, было много народу. Но было тихо и со стороны нельзя было догадаться, что в этом доме многолюдное собрание. Сергей Иванович прошел через комнату к стене, где стоял стол. У стола Сергея Ивановича встретил старый рабочий, приветливо кивнувший ему головой:
– Начинаем?
– Давайте.
Сергей Иванович поправил очки и оглядел собравшихся. Сквозь плотные занавески на окнах в комнату проникал неяркий свет. По углам копились тени. Но Сергей Иванович смог разглядеть устремленные на него сосредоточенные лица. Он увидел много молодежи, несколько женщин, несколько стариков. Он различил кое-кого, с кем он уже не раз встречался. Он понял, что его окружают свои. И, слегка волнуясь, он стал говорить.
Должны были здесь собраться рабочие разных предприятий. Пришли кожевники, мыловары, с электрической станции, из депо. Пришли те, кто почти никогда не пропускал массовок, кто связан был с организацией, кому можно было доверять, на кого можно было положиться.
Сергей Иванович, старый профессионал-революционер, умел выступать перед всякой аудиторией. Не раз он резался на массовках с самыми сильными противниками. Не раз ему удавалось побить своих оппонентов, которые обрушивались на него целым арсеналом цифр, цитат, ссылок, авторитетов. Он умел ловко и зло высмеять противника, найти его слабую сторону и ударить по ней. Он умел, зажечь слушателей силой своей убежденности и уверенности в правоте и правильности пути, по которому шла его партия. Но лучше и охотнее всего он говорил с рабочими. Здесь чувствовал он себя среди своих, в родной среде. И здесь находил он самые простые и самые убедительные слова.
Эти простые и убедительные слова он нашел и сейчас в густо набитой слушателями комнате, когда за стенами неслышно крепчали октябрьские морозы и улицы притихли в ожидании небывалого и долгожданного. Его простые и убедительные слова были об одном – о борьбе. Он знал, что собравшихся не нужно очень усиленно уговаривать, чтобы они продолжали начатую борьбу. Но за последние дни внутри стачечного комитета пошли упорные разговоры о необходимости прекращения забастовки, а кой-кто из рабочих поддавался этим разговорам, прислушивался к ним, задумывался над ними. Только что Сергею Ивановичу пришлось принять участие в горячем споре среди активных участников забастовки и там он почувствовал, что колеблющихся и неуверенных не так уже мало. И появившись здесь, среди самых простых и рядовых рабочих, он стал рассказывать об этих колеблющихся и неуверенных.
– Наши противники, – говорил он, – в лучшем случае ставят перед собой одну задачу – свержение самодержавия. Они думают, что этим рабочий класс достигнет всего. Они не задумываются над тем, что будет завтра, и их мало трогает то, что на смену самодержавию придет другой хозяин – буржуазия, который станет по-европейски эксплоатировать и угнетать рабочих... Они мечтают о парламенте, о конституции и если на их знаменах написан социализм, то это только затем, чтобы скрыть буржуазную сущность их политики...
В комнате задвигались, заволновались. Кто-то вполголоса выругался, кто-то несдержанно вскрикнул:
– Шпана!
Сергей Иванович на секунду задержался и обвел глазами собравшихся. Удовлетворенная улыбка на мгновенье оживила его лицо. Живые нити протянулись к нему от всех этих, внимательно слушающих его товарищей. Он почувствовал их, и слова его стали еще более горячими и убедительными.
Старик рабочий, сидевший рядом с ним за столом, забрал в кулак седую бороду и нахмурил брови. Он вслушивался в слова Сергея Ивановича, вбирал их в себя и отцеживал в них то, что приходилось ему по душе. Изредка он, не разглаживая глубоких морщин на лбу, легонько кивал головой, одобряя то, о чем говорил докладчик.
Емельянов стоял у самых дверей, курил и поглядывал на Сергея Ивановича. Этого товарища он узнал недавно. Но с первого же раза он пришелся ему по душе. Было что-то в Сергее Ивановиче крепкое, непреклонное и прочное. Скажет – и уже не отступится и не изменит своего решения. И еще, что подкупило в нем Емельянова, это то, что он по-прежнему оставался законспирированным и зря не вылезал на глаза полиции и жандармов.
– Подполье пока что остается подпольем... – говорил он неосторожным товарищам. – Напрасно многие вылезают на самое видное место и мозолят глаза шпикам.
Прислушиваясь к его словам, Емельянов перебирал в уме события, в которых сам участвовал. Ах, пожалуй, многое было зря. Горячая кровь что ли забурлила, – стали расходовать силы без всякого учета. Вот Сергей Иванович призывает к величайшей продуманности всяких выступлений. А было ли это? Кажется, не было. Павел – хороший, боевой парень, а увлекся баррикадами, уличными боями. Может быть, и не нужно было этих баррикад? Не преждевременно ли? Вот теперь дружины наполовину обессилены, головка арестована, остались плохо организованные дружинники. Что если полиция повторит попытку погрома? Кто выступит против монархистов и всей швали, которую они подняли с самого дна жизни? Какие силы?.. Как хорошо, что вот такие, как Сергей Иванович, почти все учли, все предусмотрели!..







