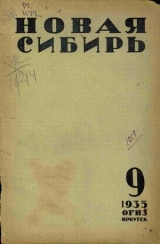
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Ничего, товарищ! Будущее за нами!.. Идите домой и будьте, на всякий случай, конспиративны...
Что может знать обо всем этом человек, тяжело шагающий рядом?
Самсонов высвобождает шею из башлыка.
– Ничего! – говорит он чужие слова. – Ничего!.. Будущее за нами!..
26
Утром город не узнал станцию, вокзал и прилегающие к нему улицы.
Небольшая площадь пред вокзалом превратилась в военный лагерь. Здесь сновали солдаты в длинных шинелях, выставлены были какие-то военные возки, горели костры. На вокзал, на станцию никого не пропускали. Никого не пропускали и в железнодорожное депо.
Утром в городе возникло смятение. Оно было сложным и необычным. Тут были и страх, и радость, и ожидание, и настороженность.
Пал Палыч был разбужен раньше обыкновенного. Солдат с пакетом вломился бесцеремонно в его спальню. На пакете были печати с орлами. Руки Пал Палыча тряслись, когда он расписывался в получении пакета.
Пришлось быстро одеться, не позавтракать и бежать в типографию: в пакете были приказы, которые требовалось поместить непременно в очередном номере. Приказы грозили, предупреждали, требовали. Под приказами стояла подпись генерала Сидорова.
Пал Палыч прибежал в типографию запыхавшийся. Секретарь был уже там. Он вопросительно поглядел на редактора. Пал Палыч, оглянувшись по сторонам, возмущенно сказал:
– Смотрите, какая гадость!
Секретарь почитал приказы, повертел их в руках, сбоку взглянул на Пал Палыча:
– Ну?
– Что «ну»? – вышел из себя Пал Палыч. – Разумеется, придется помещать!.. Ничего не поделаешь... Но, скажите на милость, почему генерал Сидоров? Ведь командирован Петербургом сюда Келлер-Загорянский! Ничего не пойму!..
Не один Пал Палыч ничего не мог понять. Действительно, должен был, усмирив забастовщиков и революционеров и наведя порядок в городе, взять в свои руки высшую власть именно Келлер-Загорянский. Но неожиданно подвернулся с востока генерал Сидоров и опередил графа.
Сидоров высадился на станции на несколько часов раньше Келлера-Загорянского. Высадился, выставил на пригорке, господствующем над городом, над вокзалом, над депо и железнодорожным поселком, артиллерию, и послал навстречу графу своего адъютанта. Граф гневно выслушал заявление посланца, побагровел, выругался и пригрозил:
– Буду жаловаться в Петербург!..
Адъютант почтительно звякнул, щелкнул шпорами и доложил, что генерал уже принял меры к тому, чтобы незамедлительно поставить о случившемся в известность военного министра.
Отряд Келлера-Загорянского подошел к городу без всякого шума. Графский эшелон занял западные пути. На восточных расположился властно, как хозяин, генерал Сидоров.
Мастерские железнодорожного депо стояли безлюдные, и вокруг них было тихо. Но и у Келлера-Загорянского, и у генерала были сведения, что в мастерских засели революционеры и что оттуда можно ждать вооруженных вылазок. Генерал приказал направить жерла своей батареи на мастерские.
– Разнесу по кирпичу, если будет сделана хоть малейшая попытка оказать мне сопротивление! – заявил он во всеуслышанье и расклеил всюду приказ с этой же угрозой.
Келлер-Загорянский, не отставая от него, пригрозил населению, что если на него или на лиц, его сопровождающих, будет произведено покушение, то будут повешены каждый десятый из тех, кто захвачен им на попутных станциях и содержится в поезде, в красных вагонах...
Созонтов нарядился в праздничную, тонкого сукна поддевку, велел заложить лучшую тройку своей конюшни – серых орловцев – и покатил на станцию, как только в городе известно стало, что, слава богу, появилась твердая рука, которая наведет долгожданный порядок.
Тройку серых пропустили на площадь, там остановили ее, а Созонтова провели к генералу.
– Ваше сиятельство! – прижал руки ко груди Созонтов, принимая Сидорова за Келлера-Загорянского. – Ваше сиятельство, позвольте предложить вам в пользование для поездок по нашему городу троечку. Настоящая русская тройка, ну, между прочим, на сибирский манер, кошева, значит...
Сидоров оглядел Созонтова сверху вниз и обратно, остановил на нем тяжелый взгляд и жестко сказал:
– Во-первых, я не ваше сиятельство... И нечего финьтить! Во-вторых, тройку передать вестовым... А, в третьих, зря здесь не путаться!..
Как обожженный, выскочил Созонтов из генеральского вагона. На морозе пришел в себя, передохнул и покрутил головой.
Через полчаса, рассказывая Суконникову о встрече с генералом, Созонтов сиял:
– Вот это, видать, сила! Настоящая власть, не как-нибудь!.. Раз, два и обрезал!.. Люблю таких!.. Орлом налетел! Даже приятно, что графа этого самого обставил!
– Власть! – сурово поднял толстый палец, украшенный тяжелым с печаткой перстнем, Суконников-старший. – Власть она завсегда должна быстроту и строгость иметь!.. И ежели генерал этакую быстроту и строгость в себе имеет, то, слава тебе, господи!.. Сожмет он безобразников!..
– Сожмет! – восторженно подхватил Созонтов, и глаза его зажглись радостной злобой.
– Слава тебе, господи! – повторила, прислушиваясь к разговору мужчин, Аксинья Анисимовна.
И сквозь заиндивевшие стекла просочился густой, торжественный звук: снова в неурочное время зазвенел большой праздничный соборный колокол.
27
В половине второго у губернатора назначен был прием. В час ротмистр Максимов впервые за полторы недели показался у себя в охранном. С утра там хлопотал уже Гайдук. Вахмистр щеголевато вытянулся и обласкал преданным взглядом своего начальника, когда тот появился на пороге.
– Ну-с, все в порядке? – осведомился Максимов.
– Так точно! – отрубил Гайдук.
Максимов прошел в свой служебный кабинет, оглядел привычную обстановку, присел к большому письменному столу, протянул ноги, осторожно погладил нафиксатуаренные усы и усмехнулся. Ну, вот, кажется, действительно, все в порядке!..
У губернатора съехались все высшие чины. Позже других прибыл архиерей. А еще позже Келлер-Загорянский и Сидоров. Генерал подкатил к губернаторскому подъезду на созонтовской тройке, гремя наборной сбруей и бубенцами.
Собравшиеся побыли у его превосходительства недолго. Все, кроме графа и Сидорова, чувствовали себя неловко. Губернатор мямлил и с кислой улыбкой благодарил приезжих за своевременную и быструю помощь. Келлер-Загорянский смотрел косо, и холеное лицо его не улыбалось. Не улыбался и Сидоров. Его хитрые глаза ощупывали собравшихся, и от его взгляда многим было не по себе.
Поймав этот взгляд, ротмистр почтительно и многозначительно усмехнулся и стал пробираться ближе к генералу.
– Ваше превосходительство! – почтительно, но так, словно они одни двое по-настоящему только могли тут друг друга понять, произнес он, – я попрошу у вас сегодня же полчаса частной беседы!
– Хорошо! – согласился генерал, почти не глядя на собеседника, – в четыре часа...
Разъезжались от губернатора суетливо и с нескрываемым облегчением: словно в высокой двухсветной губернаторской гостиной зазябли и затомились от скуки и неловкости.
Сидоров промчался по главной улице, гремя сияющим набором сбруи и бубенцами. Созонтовские лошади неслись, как звери. Прохожие оглядывались, рассматривали чужого генерала и торопились свернуть в сторону.
Келлер-Загорянский поехал следом за генералом. Везли Келлера-Загорянского губернаторские лошади. Адъютант графа посмотрел на лихую тройку, увозившую генерала, ухмыльнулся и фамильярно поделился с графом:
– А генерал-то, ваше сиятельство, видно, с местным купечеством в сердечный контакт вступил!
– Мужик... – брезгливо отозвался Келлер-Загорянский. – Вкусы грубые...
– Ваше сиятельство, – продолжал адъютант, – а ведь местные власти невероятно перетрусили! Заметили вы, как его превосходительство жался? Задали им забастовщики страху!
Граф промолчал. Потом насупился и, дотронувшись до кучерского кушака, властно приказал:
– Обгоняй!
Губернаторские лошади рванулись, поровнялись с созонтовской тройкой и стали ее обходить. Сидоров насмешливо посмотрел на Келлера-Загорянского и ткнул кулаком в спину своего кучера. Тот гикнул, из-под копыт созонтовских лошадей взметнулась снежная пыль, тройка легко и словно с озорством выскочила вперед и оставила сзади Келлера-Загорянского. Граф пожевал губами и досадливо закутался в меховую николаевскую шинель.
И совсем как бы некстати, адъютант, не глядя на графа, произнес:
– Можно еще сегодня, ваше сиятельство, разобраться в материалах части задержанных... Там есть кое-что интересное.
– Да, да! – ожил граф. – Сколько, кстати, у нас их там?
– Сто шестьдесят восемь человек, ваше сиятельство. Из них четыре женщины.
– Терпеть не могу, когда бабы эти стриженые путаются!
– Они все, ваше сиятельство, – снисходительно улыбнулся адъютант, – не стриженые... Две даже с прическами и миловидные.
Тройка скрылась за утлом. Граф удобнее откинулся на спинку саней и приказал ехать тише.
28
У карательных отрядов была большая осведомленность о приготовлениях, которые делались рабочими дружинами. Оба генерала в первые минуты с опаской отнеслись к железнодорожному депо. Сидоров выкатил небольшое полевое орудие и поставил его на горку так, что жерло его направлено было на главный корпус. А потом солдаты оцепили мастерские и стали выжидать. Но в мастерских было пусто. Никто не оказывал сопротивления, никто не показывался из широких дверей депо. Тогда солдаты ворвались внутрь, обшарили все уголки, обыскали все мастерские, никого не обнаружили и пошли по рабочим квартирам.
Солдат вели и показывали дома, где надо искать, станционные жандармы, которые в последнее время где-то прятались. Солдаты искали по квартирам оружие. Они не находили его и свирепели. У них были сведения, что рабочие хорошо вооружены, а никаких следов этого оружия нигде не было. Рабочие встречали солдат хмуро и молчаливо. Отвечали на вопросы кратко и нехотя. Жандармы вглядывались в хмурые и встревоженные лица рабочих, находили знакомых и шептали что-то солдатам. Те, ругаясь и свирепея, толкали указанных рабочих в грудь и заставляли идти за собой.
Число задержанных и арестованных росло.
Сидоров и Келлер-Загорянский соревновались: кто захватит больше арестованных. И в первый день и у того и у другого их числилось несколько сот человек. У Келлера-Загорянского они находились в теплушках, в духоте, сырости, смраде. Сидоров устроил тюрьму в станционном помещении.
К арестованным никого не подпускали, им не позволяли приносить передачи, их плохо кормили. Никто не мог добиться каких-либо сведений о их судьбе. Людей хватали, уводили в теплушки или на станцию – и они исчезали.
В первый день ни Сидоров, ни Келлер-Загорянский не распространяли своего влияния на город. В городе была тревога, но никого еще не арестовывали, ни за кем не охотились. Город, не поддаваясь этой тревоге, праздновал «святки». Кой-где появлялись на улицах пьяные. Во многих домах было по-праздничному прибрано и по-праздничному же слонялись без дела люди. Беспечные жители собирались встречать новый год. Даже в затихшем было на некоторое время общественном собрании шла суетня, готовили закуски и вина, расставляли в большом зале буфета теснее столики, украшали их цветами. В «Метрополе» тоже кипела предпраздничная работа. У метрдотеля Ивана Ильича снова было полно радостных и привычных забот. Он знал своих клиентов, знал, что вечером в зале не хватит столиков для гостей. Встреча нового года и для него была ответственным делом: нельзя было ударить лицом в грязь.
Гликерия Степановна, не дождавшись знакомых и особенно Бронислава Семеновича, в сочельник несколько раз забегала к нему на квартиру и оставила ему записку с наказом непременно быть вечером тридцать первого. Но тридцатого Натансон появился сам у Гликерии Степановны. Появился растерянный, пришибленный.
– Что же теперь будет? – спросила Гликерия Степановна, уже знавшая о том, что дружинники были распущены, а на станции стоят два поезда, наполненные вооруженными карателями.
– Не знаю... – пробормотал Бронислав Семенович. – Вы не можете себе представить, Гликерия Степановна, что было!.. Как уходили!
– Хорошо и сделали, что догадались заблаговременно бросить оружие. Ведь костей бы вы все не собрали, если бы оставались там!.. И я все удивляюсь вам, Бронислав Семенович, ну, какой вы вояка? Вот – тоже если бы мой Андрей Федорыч за оружие взялся! Оба вы хороши!..
Натансон поежился, потер руки, промолчал.
– Если б вы видели, – тихо повторил он после недолгого молчания, – если б вы видели, как уходили!..
– Ну, как же?! Что там особенного? – энергично воскликнула Гликерия Степановна. – Уходили, наверное, так, как должны были благоразумные люди уходить... Только бы теперь вас не арестовали, Бронислав Семенович!.. Вот нажили вы себе хлопот!
– Не в этом дело... – тихо сказал Натансон и отвернулся.
– Как не в этом дело? Надо быть осторожным. Хорошо, что вы не впутались в историю. А дальше вам надо поостеречься... Может быть, даже скрыться куда-нибудь.
– Не в этом дело... – повторил Бронислав Семенович, вздыхая.
– А как Галочка Воробьева? – спохватилась Гликерия Степановна.
– Не знаю, – растерянно признался Бронислав Семенович, – не знаю.
– Ну, она не пропадет! – успокоила Гликерия Степановна. – А вы, самое лучшее, не ходите домой. Побудьте у нас. Отдохните. Завтра новый год встретим. Я и вина легкого припасла. Не ходите!
– Много рабочих железнодорожников арестовано, – уронил Натансон. – Сидят они в теплушках. И неизвестно, что с ними будет... Солдаты злые. Пьяные. Нехорошо...
– Оставьте, Бронислав Семенович! Не скулите! – рассердилась Гликерия Степановна. – Прямо вы панихиду тут разводите!..
– Нет, ничего... – пробормотал Натансон. – Ах, если бы видели!..
29
То, что поразило Натансона, было внешне простым и неярким.
В переполненном до-отказу большом корпусе депо стало тихо, когда появился Сергей Иванович, вскарабкался на верстак и сказал несколько слов.
Потом, когда Сергей Иванович ушел, разорвалась тишина. И тут-то произошло то, что напоило Бронислава Семеновича потрясающим изумлением.
Дружинники разбились на группы. В каждой группе по-своему и вместе с тем одинаково говорили о том, что только что произошло. Возле Натансона двое – молодой и старый – рабочих громко и почти враз сказали:
– Как же это?! Оружия бросать не надо!..
И этот двойной громкий возглас долетел до многих, и в сторону говоривших повернулись десятки голов.
– Оружие!.. – вспыхнуло в разных местах. – Не бросать, товарищи!
– Не расставаться с оружием!..
– Нельзя!..
– Вот! – выскочил вперед, на средину мастерской, высокий рабочий. Из-под низко надвинутой на лоб шапки горели остро и возбужденно потемневшие глаза. В поднятой руке он держал винтовку и, потрясая ею в полумгле мастерской, он с отчаяньем, с упорством и с каким-то упоением кричал: – Вот! Я не выпущу ее из рук! Не выпущу!
За ним, бессознательно подражая его движениям, протиснулись двое, трое, десять, и еще, и еще... И все они подымали вверх оружие. И все они, как клятву, как ненарушимое обещание, кричали...
– Не отдадим!.. Не отдадим!.. Не отдадим!..
Натансона оттиснули к стенке. Он вытянул шею, приподнялся на носках, уперся о чью-то спину. Он увидел поднятые вверх винтовки, горящие глаза, услышал короткие, как удар, как взрыв, возгласы. Он почувствовал необычайное волнение. Ему стало жарко. Его губы внезапно пересохли. Волнение стоящих рядом с ним передалось ему. Ему тоже захотелось что-то крикнуть, поднять руку, потрясти ею в воздухе. Что-то сделать, как-нибудь действенно слиться со всеми этими волнующимися, горящими в необыкновенной тоске людьми.
– Товарищи! Товарищи!.. – услыхал он рядом с собою утонувший в крике возглас. – Товарищи! Не волнуйтесь! Спокойствие!..
Бронислав Семенович метнулся на звук этого голоса. Он увидел старого рабочего, который неоднократно выступал раньше на собраниях дружины. Его всегда слушали внимательно и сосредоточенно. Теперь он старался привлечь к себе, к своим словам внимание товарищей. Но его не слушали.
– Товарищи! Спокойствие и дисциплина!.. – кричал он. И голос его был слегка надломлен. И звук этого голоса дошел каким-то необычным путем до сердца Натансона. Бронислав Семенович протиснулся ближе к старику, взглянул в его лицо и увидел блеск его глаз. Это сверкали сдерживаемые слезы.
– Черти!.. – поднял старик сжатый кулак. – Черти! Да слушайте же! Чего вы шумите?! Кто сказал, что надо бросать оружие?! Выходит маленькое отступление... Военные обстоятельства... А насчет борьбы – так она не кончилась! Нет! Она, ребята, только еще, может, начинается!..
Окрепший голос старика звучал громко в установившейся тишине.
– Мне, что ли, не обидно, как и вам, сматываться?! Об этом и говорить не стоит... Обидно. А надо. Ради общего дела. Ради предбудущего! Вот мы тут все вроде одной семьи, рабочей... Может, и головы бы вместе сложили. Ну, не пришлось теперь... Так вы, ребята, думаете, это от нас уйдет? Нет, ребята, не уйдет!.. И подчиняйтесь... Расходись, ребята, по-боевому! Не хнычь и не ной!.. Ну!
Бронислав Семенович, приоткрыв рот, слушал старика. Бронислав Семенович ощутил в своей груди внезапную теплоту. Он почувствовал сладостное волнение. Он заметил, что этим волнением охвачены многие. Он передохнул. И вместе с ним передохнули стоящие рядом с ним. И вот, окружив старика, дружинники сгрудились тесно и единодушно. И вот сдержанно и горячо заговорили. И вот говор пресекся: уверенный голос внезапно запел:
Вихри враждебные воют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...
Уверенный голос легкой птицей взметнулся под закопченные своды мастерской, всколыхнул, возбудил, повел за собою. К голосу этому пристали двое, трое, десятки, и еще, и еще...
Бронислав Семенович вздохнул глубоко и прерывисто. Глаза его стали влажными. Он полуоткрыл рот. Кашлянул. И пристал к поющим.
И когда все повернули к выходу и, тесно прижавшись один к другому, не переставая петь, пошли в распахнувшиеся двери на улицу, на холод, Бронислав Семенович в толпе приметил Галю. Она пела. Ее глаза блестели, как у всех, как и у Натансона. Она не видела его. И она показалась ему небывало прекрасной...
30
– Не отдадим! Не отдадим!.. – У Павла этот возглас нашел горячий отклик в душе. Павел потемнел, когда услыхал о решении комитета не оказывать сопротивления двум карательным отрядам. Это решение показалось ему диким. Он вознегодовал. Разве это революционная борьба? Разве так поступают?! Нужно было оставаться на месте, не складывать оружия, биться. Если потребовалось бы, нужно было даже и погибнуть! Вот как следовало бы поступить настоящим революционерам!..
Павел вскипел, хотел ввязаться в спор, хотел протестовать, но сдержался. Он понял, что никто из партийцев не станет на его сторону, что ни у кого он не встретит поддержки. Он с тоскою почувствовал одиночество. К тоске примешалась обида, затем злоба. Павел сам не отдавал себе отчета в том – против кого эта злоба подымается в нем. Не отдавал и не хотел отдавать себе отчета.
Хмурым взглядом следил он за тем, как расходились дружинники, как некоторые из них несли с собою оружие, а другие уходили с пустыми руками. С некоторым злорадством подмечал он смущение и грусть на лицах дружинников. И когда замечал знакомого, то старался глядеть ему прямо в глаза, надеясь своим взглядом смутить и расстроить. Но никто не смущался от его взгляда. Люди несли в себе собственную свою боль, и до них не доходил укоризненный взгляд Павла. Они встречали его, этот взгляд, бестрепетно, с некоторым недоумением, равнодушно. Их кажущееся бесстрастие еще больше возмущало Павла. Ему было бы легче, если бы под его взглядом товарищи опускали свои глаза, краснели и торопились скорее уйти. Тогда он почувствовал бы окончательно полно и уверенно свою правоту.
Ему было непонятно, как это люди, которые всего четверть часа назад не хотели складывать оружия и волновались от одной мысли, что оружие, в конце концов, сложить придется, – как эти люди скоро и легко согласились с решением комитета и штаба! Неужели в каждом из этих дружинников ожил трус? Не может этого быть! При всем своем раздражении Павел не допускал такой мысли. Дружинники не были трусами. Он это хорошо знал. Может быть, единицы потрухивали, мучительно скрывая свою робость, но подавляющее большинство шло навстречу опасности безбоязненно и смело.
Павел ушел из штаба, не сказав никому ни слова. Снег похрустывал под его ногами, когда он ступал по тротуару. Мороз крепчал. Улицы были по-обычному пустынны. В том настроении, в котором он находился, Павлу некуда было идти. Товарищей видеть не хотелось, близких и крепких друзей не было. Павел побродил бесцельно и в тоске по улицам, почувствовал нарастающее смятение в городе, вспомнил о доме и поспешил туда.
Уже подходя близко к дому, он издали заметил фигуру, показавшуюся ему знакомой. Он ускорил шаги. Да, впереди, не замечая его, шел переодетый в штатское пристав Мишин. Павел вспыхнул. А, гадина! Вот этот еще ползает, этот, может быть, завтра выползет, торжествующий, наглый, как победитель! Рука потянулась в карман за браунингом. Все равно! Пусть говорят товарищи потом, что им угодно, но он раздавит эту гадину!.. Мишин услыхал за собою поспешные шаги, оглянулся, увидел Павла и метнулся в сторону. Испуг прилил к щекам пристава внезапной бледностью. Павла это подстрекнуло. Павел почти побежал к приставу. Но с противоположной стороны улицы сорвался какой-то, до того момента невидимый, прохожий и пошел наперерез Павлу. Все это произошло быстро и безмолвно. Павел понял, что ему приходится иметь дело с двумя противниками. Но и это не остановило бы его. Но все кончилось ничем: Мишин воспользовался появлением третьего, быстро дошел до каких-то ворот и скрылся в них. А третий посторонился и пропустил мимо себя взволнованного, яростного Павла. Пропустил, настороженно засунув руки в карманы и тщательно пряча свое лицо...
Домой Павел пришел опустошенный, вялый, бледный. Дома застал он сестру. Взглянул на нее, облизнул пересохшие губы, вцепился скрюченными пальцами в свою кудрявую шевелюру и неожиданно попросил:
– Устрой, Галя, чаю... Пожалуйста!
Галя быстро взглянула на брата: давно он так не разговаривал с ней, и к тому же было что-то необычное в его голосе. Она быстро схватила чайник и пошла на хозяйскую половину.
– Я сию минуту, Павел! – сказала она, на мгновенье задерживаясь в дверях. – Не успеешь оглянуться...
Очень скоро она подала чай. Налив по чашке брату и себе, она снова вгляделась в Павла.
– Паша, – дрогнувшим голосом произнесла она, не прикасаясь к своему чаю, – это что же значит: начало конца?..
Павел ответил не сразу. Галя уже подумала, что он не хочет отвечать, но он, наконец, раздумчиво и глухо произнес:
– Не знаю... Может быть...
Потом встал из-за стола, подошел к своей постели, прилег на нее, не раздеваясь, закинул руки за голову, потянулся и повторил:
– Может быть...
Галя вздохнула и недоверчиво покачала головой.
– Что же делать? – встревоженно спросила она. – Как ты думаешь?
– Не знаю... – угрюмо ответил Павел и отвернулся лицом к стене.
– А другие знают... – заключила Галя, что-то вспомнив. – Знают.
И упрямая складка легла между ее тонких бровей...
31
В редакции рабочего «Знамени» была закончена работа для очередного номера. Варвара Прокопьевна просмотрела материал, деловито и спокойно исправила кой-какие недостатки и ошибки и, оглядев товарищей, с неуловимой грустной улыбкой сказала:
– Вам понятно, конечно, товарищи, что мы, пожалуй, выпускаем сегодня последний номер легальной газеты?
Ей ответили не сразу. Антонов собирал какие-то рукописи и тщательно откладывал их в сторону ровной стопкой. Лебедев и еще какой-то товарищ переглянулись и не прекратили рыться в выдвинутых ящиках стола. Самсонов оглянул всех и не посмел сказать ни слова.
– Да... – за всех отозвался Антонов. – Того и гляди, что нагрянут... Удивительно, как это они еще мешкают и орудуют только по линии и на станции?
– Часа два назад, – сообщил Лебедев, – сидоровские солдаты заняли белые казармы. Наши солдаты то ли перетрусили, то ли растерялись, но факт тот, что их взяли в крепкий кулак... Теперь по городу хозяйничать начнут сидоровские молодцы...
– Келлер-Загорянский тоже так города не оставит... – присоединился к разговору Емельянов. – Слышно было, что оба генерала сперва немного поспорили, а потом помирились и теперь зачнут действовать сообща.
Варвара Прокопьевна снова оглядела товарищей. В эти немногие дни она очень хорошо узнала их, и ей теперь было грустно при мысли, что придется расставаться, и с некоторыми вряд ли уже доведется когда-нибудь еще встретиться. В городе вот-вот начнет властвовать военщина, выползут жандармы, вернутся беспокойные дни. Ей надо будет скрываться, переходить на нелегальное положение. Сейчас вот последний номер газеты сделан. Как горько бросать налаженное, хорошее, боевое дело!.. Варвара Прокопьевна подавила в себе готовое прорваться волнение и наклонилась над бумагами.
– Организация готова к нелегальной работе, – спокойно сказала она. – Кой-кому придется поехать в другое место. Работы, товарищи, предстоит очень много... И работы тяжелой!
Самсонов открыл и снова закрыл рот. Он хотел сказать, что никто не боится тяжелой работы, что вот он, Самсонов, готов выполнять самые ответственные и опасные поручения, что, конечно, обидно, что вышло все так, но ничего! Пусть не радуются генералы! Он все это хотел сказать этой милой, такой близкой женщине и этим товарищам, но не сказал. Его охватила робость. Он сжался и промолчал.
Антонов увязал в пачку отобранные бумаги и спрятал их под меховой пиджак. Лебедев с товарищем нагребли целую кучу писем, рукописей, исписанных от руки листков и сунули все это в топящуюся печку. Перемешивая кочергой хрупкий пепел, Лебедев сумрачно произнес:
– У меня, кажется, все. А ты как, Антоныч, отобрал?
– Отобрал то, что нужно было. Вот тут оно! – хлопнул себя по груди Антонов.
Варвара Прокопьевна встала, отошла от стола к вешалке, где висела ее шубка. Одевшись, она оглянула тесную комнатку, в которой еще вчера было так привольно и радостно работать.
– Я ухожу, – не скрывая грусти, заявила она. – В типографии уже все предупреждены... Расходитесь, товарищи, не задерживайтесь зря...
– Мне можно вас проводить, Варвара Прокопьевна? – сунулся Самсонов.
– Пойдем, – кивнула головой Варвара Прокопьевна. – Ну, – обратилась она к остальным, – не мешкайте... Прощайте! Может быть, не придется... долго еще... собираться вместе. Вы не глядите на меня, старуху, что я немножечко кисну! Это годы мои, а не обстановка!.. Прощайте!..
Антонов схватил ее руку и больно сжал. Варвара Прокопьевна поморщилась от боли и рассмеялась:
– Изувечишь!..
Лебедев взял руку женщины бережно и, не выпуская тонких, костлявых пальцев из своей руки, бодро пообещал:
– Встретимся! Непременно!.. Еще так события развернутся, что любо-дорого!..
– Конечно! – улыбнулась Варвара Прокопьевна и вышла из комнаты. Самсонов проскользнул следом за ней.
В комнате в жарко топившейся печке догорали бумаги. Лебедев снова пошуровал пепел кочергой...
32
Когда Матвей вернулся домой и сказал Елене, что решено не выступать против отрядов, которые в несколько раз сильнее дружины, девушка обожглась двойным чувством. Ее огорчило, что события поворачиваются против революции и революционеров, и одновременно обрадовало возвращение Матвея.
Матвей был мрачен. Встретив встревоженный взгляд Елены, он тепло ей улыбнулся и объяснил:
– Паршиво!.. Мешали нам со всех сторон, Елена. Про эсеров я уже не говорю! Но вносили разложение и меньшевики!..
Матвей приостановился. Лицо его стало суровым.
– Меньшевики!.. – повторил он, сдвигая гневно брови. – К чорту!.. Они носились всюду и болтали о неподготовленности и вреде вооруженного восстания. Не надо браться за оружие! – кричали они и тянули кой-кого в свою сторону... Они гнули свою линию, антипролетарскую, возмутительную линию...
Замолчав, Матвей отошел к окну. Он задумался.
– Ничего! – встрепенулся он. – Опять подполье... А все-таки победим!..
– Значит, все, как раньше? – спросила Елена. – Будем сидеть в технике, вместе работать?
– Будем... – неуверенно сказал Матвей. Елена встревоженно прислушалась к его голосу.
– Конечно, будем! – поправился Матвей. – Только, пожалуй, придется уезжать отсюда... И, кто знает, может быть, нам, Елена, выпадет устраиваться в разных городах...
Вздрогнув и пряча свой взгляд, Елена глухо проговорила:
– Что ж... Пусть...
В этот вечер у них в квартире было тихо и тоскливо. На завтра было тридцать первое декабря. Послезавтра наступал новый год. Никто не знал, что несет с собою этот новый неведомый год. Не знали этого и Елена с Матвеем.
Железная печка гудела привычно и весело. В квартире было тепло. Там, за стенами дома, потрескивал стужею закатывающийся декабрь, там посвистывал острый морозный ветер. Там что-то готовилось, что-то происходило. А Елена с Матвеем опять были отрезаны от других, опять обрекали себя на добровольное отшельничество.
– Должны были принести листовку... – прервал молчание Матвей. – Успели набрать и отпечатать в типографии несколько летучек. Но надо выпустить на новом материале... Чего-то долго не несут...
Елена прислушалась к звукам, доносящимся снаружи. Ей показалось, что кто-то скребется в наружную дверь.
– Кажется, пришли?! – вопросительно сказала она.
– Я схожу, посмотрю.
Матвей вышел в сени и прислушался. Сначала все было тихо. Он, чтобы проверить, открыл и снова закрыл дверь в квартиру, а сам остался в сенях. Несколько минут все было тихо, но потом послышались осторожные шаги, кто-то остановился у входа, постоял мгновенье, потом тихо пошел возле стены. Затем шаги затихли. Матвей напряг слух и догадался, что неизвестный остановился под окном.
«Слежка!» – вспыхнула тревожная догадка. – «Неужели уже напали на след?»
Подождав некоторое время, Матвей потихоньку вошел в дом. Елена встретила его испуганным взглядом. Он знаком попросил ее молчать и указал на окно. Оба подошли к столу и уселись на обычные свои места. Матвей тихо сказал:
– Если это слежка, то товарищ, который должен принести оригинал листовки, будет раскрыт... А потом раскроют окончательно и нас... Скоро же жандармы оправились!..
Елена взглянула на окно, прикрытое ставней, слегка наклонила набок голову. Прислушалась. Снаружи стояла тугая нерушимая тишина.
– Я выйду, Матвей! – предложила Елена. – Я пройду в дровяник за дровами. Они, – она кивнула головой на окно, – не догадаются, что мы слышали... Я посмотрю...
Матвей согласился. Елена набросила на себя шубейку, закуталась теплым платком и вышла.
Над крышами домов выкатывался холодный сверкающий месяц. Снег отливал светлой голубизною. Тени лежали густые, глубокие. Во дворе было тихо. Елена пробежала в угол, где у забора приютился дровяник, открыла дверцу и стала перебрасывать поленья, а сама украдкой поглядывала через полуоткрытую дверь во двор. Сначала все попрежнему было тихо. Но затем Елена уловила осторожный скрип шагов. Потом из-за флигеля показался человек. Он на мгновенье приостановился, вытянулся, прислушиваясь и присматриваясь в сторону дровяника, и опять скрылся. Но Елена успела узнать пристава, соседа. Тогда она набрала охапку дров и медленно пошла по двору обратно домой.







