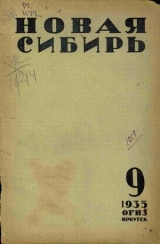
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
– Сами знаете... В участке выдавали револьверы. Да боже мой, неужто мы на забастовщиков проклятых похожи?! Я ж, можно сказать, вроде духовного звания. На клиросе пою...
Пристав внимательно разглядывал Потапова, переводил взгляд на его спутников и что-то соображал. Видно было, что Потапов поколебал его уверенность. Городовой проявлял большое недоверие. Оба солдата стояли безучастные, отставив небрежно ружья к ноге.
– Не помню... – протянул пристав, припоминая. – В моем участке...
– Да боже-ж мой! Мы же в третьем получали! У господина Мишина!
Емельянов сообразил маневр товарища и подхватил:
– У Мишина, третьего дня. Мы в седьмом десятке.
– Та-ак... – протянул пристав. – Куда же вы шли?
Опережая товарищей, Потапов весело объяснил:
– К железнодорожному собранию... Там знаете...
– Мм... – промычал пристав. – Шелопаи вы. Там уже давно надо было на месте быть, а вы...
– Немного ошиблись, ваше благородие! – уже совсем уверенно вел свою игру Потапов. – Не той дорогой сунулись, а по пути преграды всякие.
Прислушивавшийся к этому разговору городовой поднял руку к папахе, козыряя своему начальству, как полагается:
– Дозвольте ваш благородие... Надо бы в участок увести. Сумнительно...
– Чего сумнительно! – передразнил его Потапов. – Вот их благородие не глупее тебя, понимают людей! Какой может быть разговор! Разве господин Мишин нам бы доверие оказал бы, если бы мы не те, скажем?
У пристава побагровели и без того красные щеки. Он неодобрительно посмотрел маленькими тусклыми глазками на городового и решился:
– Ладно! Вижу. Без советчиков... Ступайте вы, нечего прохлаждаться!
Емельянов глубоко передохнул. А Потапов заискивающе улыбнулся и уже чуточку нагло напомнил:
– А револьверики? А оружие-то? Куда мы без него?!
– Оружие конфискую, – отрезал пристав. – Пусть вас Петр Ефимович взгреет за утерю!
На этом дело и кончилось. Патруль прошел своей дорогой, а дружинники, повернув для большей убедительности, что они те самые, за кого выдавали себя приставу, в улицу, которая могла вывести к железнодорожному собранию, – в безопасном месте на мгновенье остановились.
– Ффу, чорт! – облегченно выругался Потапов. – Вроде как будто чуть не влипли! Хорошо, что на дурака напали!..
– Ну и молодчага ты, товарищ! – восхищенно одобрил Емельянов. – И как это ты сообразил?!
– Башка! – покрутил головой худой мужик, любовно вглядываясь в Потапова... – Я уже думал, застукали нас, а он...
– Эх, жалко револьверов!..
Вдали тянулся грохот удаляющейся артиллерии. Над вымершей улицей глухо хлопали выстрелы.
10
В железнодорожном собрании назначен был в этот день митинг. К трехэтажному, выкрашенному в веселый розовый цвет зданию со всех сторон стекались люди. Они пробирались через оцепленные войсками кварталы, они просачивались неудержимо и безостановочно к широкому подъезду, возле которого толпились вооруженные дружинники.
На митинге должны были решаться вопросы, связанные с дальнейшим проведением всеобщей забастовки. Кроме того, рабочие и революционные организации здесь должны были принять меры против сколачивавшейся при помощи полиции и властей черной сотни. Со стороны черносотенцев ожидалось вооруженное нападение. Где-то собирался темный люд, где-то шла торопливая работа: раздавали оружие, поили вином, произносили патриотические речи. В воздухе носилось мутное и зловещее слово: погром. В полицейских участках появились новые люди, суетливые, непоседливые. Они шныряли из одного участка в другой, они часто переодевались и появлялись в самых неожиданных костюмах. Переодевались в штатское и городовые. Поговаривали о большой патриотической манифестации, о шествии по улицам города с трехцветными флагами, с иконами и с портретом царя. Были сведения, что вслед за этой манифестацией начнется погром.
Рабочие дружины копили силы. Подступы к рабочим районам были преграждены баррикадами. Но главные улицы находились в руках властей и черной сотни. И здесь-то подготовлялся удар против забастовщиков, против рабочих.
Трехэтажное здание железнодорожного собрания боковым фасадом выходило на базарную площадь. Здесь в обычное время было всегда шумно и многолюдно. Базар обычно жил своей особенной жизнью. Гудел многоголосный говор, раздавались выкрики торговцев, орали бабы, перекликались озорно и неугомонно мальчишки. На базаре в обычное время пищали дудки и свистульки, поскрипывала шарманка и пели гнусаво и настойчиво слепцы. Но в эти дни базар пустовал. Лавки и лабазы были закрыты. И возле опустевшей важни[2]2
Помещение для взвешивания товаров (от старинного слова «вага», означавшего «весы»).
[Закрыть] с громадными весами разочарованно и недовольно попрыгивали голодные воробьи и невесело ворковали нахохлившиеся голуби. Сухая поземка лениво переносила с места на место базарный сор и бродили возле запертых на несокрушимые висячие замки мясных лавок осмелевшие базарные псы. В эти дни не толпились завсегдатаи у пивных и харчевен, расположенных вокруг базара, и не вспыхивали веселые драки, и не ловили вора, и никого не били: базар был пустынен.
Но в те часы, когда люди тянулись на митинг, на базаре тоже начал неожиданно скапливаться народ. Он скапливался как-то нерешительно и торопливо. Какие-то юркие фигуры проскальзывали в пустынные ряды, шмыгали под навесы, ныряли в темные, укромные уголки. Базар постепенно наполнялся народом, но нигде не видно было толпы. И оттого, что люди где-то хоронились и чего-то выжидали и оттого, что появлявшиеся ненадолго торопливые фигуры не разговаривали между собой, оттого, что базар при этом скрытом многолюдии был по-прежнему пустынен и тих, – было жутко. И эта жуть порою доходила до тех, кто взглядывал на базарную площадь от железнодорожного собрания.
Порою кто-нибудь из пришедших на митинг оглядывался на площадь, замечал безмолвно проскальзывавших людей то одиночками, то небольшими группами, внезапно исчезавших меж базарными постройками, и встревоженно делился своими опасениями с соседом:
– Не погромщики ли там? Что-то уж очень подозрительно...
Не все разделяли эти опасения. Иные смеялись и доказывали, что погромщики не посмеют собираться в виду такого большого стечения народа. Иные бахвалились:
– А пусть только сунутся, мы им покажем!..
В штабе дружины давно заметили это подозрительное стягивание людей на базарной площади. Туда послали несколько дружинников разведать настроения и намерения собравшихся. Дружинники вернулись ни с чем. Они не смогли определить ни количества, ни настроения тех, кто собирался зачем-то на базаре. Они вообще нигде не нашли большого стечения народа. И это было самое странное и самое тревожное. Потому что народ все прибывал на базарную площадь и прибывал, а куда он оттуда девался – нельзя было понять.
Долго бы недоумевали по этому поводу, если бы не служащий городской управы, дружинник, не надоумил:
– Так они, наверное, в пономаревских корпусах скрываются. Того, который обанкрутился.
Пономаревские корпуса – длинный, грузно ушедший в землю ряд старых каменных лавок. Кирпичные с облупленной штукатуркой столбы поддерживали широкий навес, под которым в хорошие дни раскладывалось обилие и разнообразие купеческих товаров. Теперь лавки пустуют и пыльные засовы охраняют их широкие двери. Когда дружинники, пошедшие вторично на разведку, приблизились к пономаревским корпусам, то за толстыми, плотно прикрытыми железными дверями, они услышали сдержанный говор. Говор этот затих как только спрятавшиеся внутри лавок различили шаги дружинников. Возможно, что за дружинниками наблюдали через какие-нибудь щели или через запыленные слуховые окна. Разведчики вернулись и сообщили свои соображения:
– Там люди. Притаились. Сколько их, неизвестно. Пожалуй, много...
В штабе, где уже были сведения о планах черной сотни расправляться с забастовщиками, учли сообщение дружинников.
Меж тем время подходило к началу митинга.
11
Главная улица тянулась от реки до реки. По главной улице в праздничные дни, в послеобеденное время, красуясь щегольскими выездами, прокатывались купцы. Холеные рысаки, кося налитыми кровью глазами и обмыливая белою пеной мундштуки, лихо неслись по булыжной мостовой, и прохожие торопливо жались по тротуарам, любуясь тысячными полукровками. Одним концом главная улица упиралась в быстроводную студеную реку с широкой набережной, поросшей летом густою травой. По набережной, где даже в самые знойные дни река веяла освежающей прохладой, устраивались гонки и тут скапливалось много прохожих и зевак. Другим концом главная улица упирались в мост через суматошную речку, летом почти пересыхавшую до самого дна, а осенью и весной выходившую из берегов и затопляющую домишки Спасского предместья. В Спасском предместьи ютились десятки мыловаренных и кожевенных заводов и заводиков. По эту сторону речки, глядясь окнами на Спасское предместье, расселись кузнечные ряды. Здесь гнездились отчаянные ребята, некогда ходившие стенка на стенку на жителей Спасского предместья. Кузнецы славились дебошами и строптивостью. В кузнечные ряды постороннему без прямого дела ходить было опасно, могли ни за что ни про что осрамить, даже избить. Нельзя было безнаказанно появляться городскому жителю и в Спасском предместьи, где озорством и буйным нравом отличались рабочие бойни. Боенцы и кузнецы охочи были на всякую свалку, на любой скандал. Их не любили и боялись в полиции. Когда кто-нибудь из них попадал в полицейскую кутузку, то били его там с оглядкой, воровски и так, чтобы избиваемый не приметил бьющего. У кузнецов и боенских ребят была всегда глухая и жаркая неприязнь к городовым. Было когда-то время, что ни один полицейский не смел появиться на территории бойни и у кузнечных рядов. Время это прошло, но и теперь полиция неохотно приходила к отчаянным жителям опасных мест.
Но в эти дни возле кривых и ушедших в землю хибарок, заполненных кузнецами, и вокруг прибоенского квартала зашныряли безбоязненно люди из полиции. Они заявились впервые сюда как только протянулось над городом тревожное слово забастовка. Они вели беседы, они приносили тючки и корзины, в которых заманчиво позванивали бутылки. Они потом горланили дикие песни вместе с кузнецами, вместе с бойщиками. И позже кой-кто из жителей Спасского предместья и кузнечных рядов уходил с этими тароватыми и щедрыми людьми в город, где-то там пропадал и возвращался озабоченный, в приподнятом, в возбужденном состоянии. И из избы в избу бегали соседки и в каждой избе шли торопливые совещания и озабоченные приготовления.
Когда на заборах Спасского предместья и в кузнечных рядах однажды появились первые прокламации, рассказывавшие о забастовке, о борьбе, о революции, они были сразу же сорваны. Но вслед за тем кто-то наклеил другие и их снова содрали, соскоблили начисто. А вместо них неуверенная рука вывела мелом кривыми буквами жирно и вызывающе: «Бей жидов!.. Бей забастовщиков!»
В городе знали о настроениях в Спасском предместьи и в кузнечных рядах. Однажды из города пришли молодые ребята. Веселые и беззаботные, они разыскали кого-то знакомого и с ним недолго, но крепко потолковали. После этого в двух-трех избах стали собираться небольшими группками соседи и крепко и горячо спорить и что-то обсуждать. Потом кой-кто из Спасского предместья и из кузнечных рядов начал часто уходить в город. И после этого чаще и гуще стали появляться на заборах и на стенах домов свежие прокламации.
В день большого митинга, который собирался в железнодорожном собрании, кузнечные ряды и Спасское предместье с утра были в большом возбуждении. Отсюда тянулись в город по главной улице группы молчаливых, но что-то затаивших в себе, что-то знающих и что-то надумавших людей. С главной улицы часть отправлялась к площади, где расселся серый многоглавый собор, а часть двинулась к базару.
День был будничный, однако в соборе назначена была по какому-то случаю торжественная служба, которую должен был отправлять сам архиерей. Густой соборный колокол гулко ударил к поздней обедне и насыщенный рокочущий звук медленно прокатился над улицами. На соборной площади замелькали люди. К широкой паперти устремились непрерывной лентой молящиеся.
Соборный колокол гудел властно и торжественно. Он колебал сухой морозный воздух и покрывал все другие звуки. Только изредка его прерывали резкие разрывы выстрелов.
Город как бы раскололся на две части: здесь, в центре, еще пытались жить по-обычному и даже шли в собор, как будто кругом все было тихо и спокойно. А между тем подальше от центра уже громоздились баррикады, передвигались войска и поднималась трескотня винтовок. Но и служба в соборе не была обычной. Когда архиерей ехал из своего дома, находившегося в двух шагах от собора, за каретой владыки скакали казаки. И поднимался по паперти старый владыка торопливо, без присущей ему важности и медлительности. И богомольцы встретили его без всякого благоговения: разношерстная и подозрительная толпа расступилась перед ним, с жадным и немного назойливым любопытством разглядывая его одежду, его посох и то, как два священника бережно и важно подхватили его под руки. И только немногие из этих богомольцев сунулись протолкнуться под благословение архиерея.
Колокола на широкой с фигурчатыми окнами колокольне заливались веселым звоном: звонарь знал, что в собор шествует владыка.
12
Трое, благополучно отделавшись от патруля, от солдат и от пристава, прошли, сворачивая с улицы на улицу, до главной. Отсюда они могли податься в сторону и пойти прямиком к оставленным возле баррикады товарищам. Но Емельянов о чем-то посоображал и предложил:
– Давайте взглянем, что делается около железнодорожного.
И они пошли туда.
И когда они пошли, над ними, вздрагивая и колыхаясь, пророкотал первый удар большого соборного колокола.
Худой мужик вздернул вверх всклокоченную бороду и прислушался.
– Ишь ты! – заметил он удивленно. – С чего бы это благовест!? Вроде, как будто и праздника никакого нет!
– У попов всегда праздники найдутся! На то у них и святцы! – определил Емельянов.
Потапов покрутил головой:
– Неспроста набрякивают! Неспроста!..
– Конечно неспроста, – согласились остальные двое. Прислушиваясь к колокольному звону, изредка разрываемому выстрелами, они медленно пошли дальше.
– Неспроста, – повторил на-ходу Емельянов. – Тут, видно, так распланировано: бога против нас вместе с полицией и со штыками настропалить... Попы с ладаном да с кадилом, а полиция да солдаты штыки и пули. Вот оно и ладно будет!
– Пройдем до железнодорожников, – прислушиваясь к звону, сказал, как бы отвечая на свои мысли, Потапов. – А оттуда назад, к товарищам...
Чем ближе подходили они к железнодорожному собранию, тем оживленней становились улицы. И, как бы отражая это оживление, разгорался, усиливался и наполнял весь воздух медным гуденьем колокольный звон.
На митинг собралось очень много народу. Коридоры, фойэ и большой зал собрания были переполнены рабочими, учащимися, служащими. В накуренном воздухе раздавались восклицанья, смех. В углах начинали разноголосо петь, прекращали, снова пели. Из комнаты в комнату, проталкиваясь сквозь толпу, проходили озабоченно и возбужденно комитетчики и руководители дружин. Где-то назойливо трещала пишущая машинка. Где-то в другом конце с грохотом и топотом тащили какие-то тяжелые ящики и чей-то веселый голос ободряюще кричал:
– Легче! Дружно!.. Так! Легче...
Митинг начался часов в одиннадцать. Когда толпа, призванная к молчанию серебряным звоном колокольчика, притихла и настроилась слушать, на сцену уверенно вышел высокий курчавый человек. Он поправил пенснэ, сунул левую руку в карман помятого пиджака и неожиданно густым и звучным голосом уверенно сказал:
– Товарищи!..
Емельянов, вытянув шею, присмотрелся к оратору и удовлетворенно пояснил стоявшим рядом с ним товарищам:
– Лебедев. Боевой парень.
Лебедев говорил о событиях, которые разрастаются и требуют организованности, бдительности и тщательной подготовки. Он предостерегал собравшихся от увлечения легкостью победы... На митинге должны были решать – идти ли на демонстрацию вооруженными или проводить ее без оружия. Лебедев резко обрушивался на тех, кто предлагает выйти на улицы с пустыми руками.
– На улицах уже кипит борьба! – гремел негодующе его голос. – Вы слышите треск оружейной пальбы? Вы чувствуете, как многие из наших товарищей уже строят баррикады и готовят отпор самодержавию?! Разве можно выходить на улицы, где завязывается кровавая борьба, безоружными?.. К оружию, товарищи!
В зале грохнули одобрительные крики:
– К оружию!.. К оружию!..
Но из разных концов понеслись протестующие возгласы. Они были слабыми, их пока еще заглушали сочувствующие и разделяющие с Лебедевым его настроения, но они становились все напористей и крепче:
– Долой! Это демагогия!..
– Нельзя выходить с оружием!..
– Не поддавайтесь, товарищи, легкомысленным призывам!..
Лебедев поднял руку и призвал к порядку. Шум в зале немного утих.
Емельянов, возмущенно шипевший на тех, кто возражал Лебедеву, оглянулся на своих спутников.
– Вот олухи-то! – сказал он зло. – Слюни предлагают распустить!.. Без оружия!.. Да нас всех перешлепают, если мы с пустыми руками!..
– Либералишки!.. – пророкотал Потапов.
– Не пойму я... – недоуменно проговорил третий, – там мы с вооружением и антирерия против нас... А тут насчет голых рук... Не пойму...
В зале снова взорвался шум. Лебедев резко громил тех, кто призывает к мирным средствам борьбы и называл их ханжами и лицемерами. В ответ на это в разных местах раздался резкий свист. На свист большинство ответило яростным грохотом. Несколько мгновений ничего нельзя было разобрать. Не слышно было председательского звонка: человек за столом президиума изо всех сил потрясал колокольчиком, но звук последнего пропадал в общем хаосе.
Шум в зале продолжался и тогда, когда к председателю подбежал кокой-то рабочий и стал ему горячо и взволнованно что-то рассказывать. Волнение рабочего передалось председателю. Он подошел к самой рампе, сложил рупором ладони и неистово закричал:
– Вни-ма-ние!.. Товари-щи!.. К порядку!.. Важные известия!.. К порядку!..
Не сразу успокоились в зале. Наконец, вид взволнованного председателя и то, что в президиуме все вскочили на ноги, и то, что Лебедев подошел к председателю и внимательно слушает его, – все это привлекло внимание собравшихся, в зале стало тихо. Тогда председатель коротко сообщил:
– В соборе идет торжественное богослужение, после которого состоится патриотическая манифестация. Полиция и жандармы собрали чернь из Спасского предместья и из кузнечных рядов и этот сброд намеревается идти сюда... А здесь напротив нас, на базаре, скопились другие черносотенцы, которые собираются для каких-то целей... Предлагается спокойно и дисциплинированно обсудить положение...
Потапов подтолкнул Емельянова и коротко предложил:
– Пробьемся поближе... Там, я вижу, ребята свои и надо насчет оружия... Чуешь, товарищ, какая штука?.. Пошли...
Они стали проталкиваться поближе к сцене.
13
Колокольный перезвон стал учащаться. Колокола перекликались, перезванивались, соревновались. Из собора хлынул народ. На мгновенье у паперти произошел беспорядок, образовалась толчея. Но подоспели городовые и быстро успокоили нарушителей порядка. Потом из широких, кованых медью дверей вынесли большую, сияющую золотом икону, расшитые шелками и золотом хоругви и царский портрет. Иконы и царский портрет несли почетные люди: молодой коннозаводчик Созонтов, чиновник казенной палаты Трапезников, учитель гимназии Васильев и крупный домовладелец Суконников. Они выступили вперед, приосанились, за ними колыхнулись хоругви, затем потекла густая толпа. Толпа эта нестройно запела «Боже царя храни». Под веселый, как на пасхе, колокольный звон процессия тронулась по площади и направилась к главной улице. На улицах стало шумно. По улицам вместе с пением патриотического гимна поползла тревога. Из ворот и из подъездов выглядывали испуганные люди, кой-где наглухо, с лязгом железных запоров, закрывались ворота.
Сначала толпа двигалась за хоругвеносцами чинно и благопристойно. Потом по ней, как волны, прокатился рокот, загудели переклики, зашумело. Еще впереди, поближе к иконе, к царскому портрету и к хоругвям, старательно выпевали тусклые и тягучие слова, а сзади шла перебранка, вспыхивали короткие ссоры.
Еще впереди с нарочитой торжественностью и истово гремело:
– Си-иль-ный... дер-жа-авный...
А сзади кто-то кричал кому-то:
– Чего ране время нализался?! Храп!..
И пьяный голос, разрывая истовое и торжественное пение, отвечал:
– Зам-молчь!.. За ради дела пью!.. За-ммолчь!..
Витринные окна магазинов были закрыты. Золотые буквы мутно сияли на вывесках. Деревянные модные ботинки обреченно висели на кронштейнах над обувным магазином. Стекла громадных пенснэ тускло поблескивали над дверями оптика. Таращили глаза модники и модницы с вывесок у пассажа. Обилием яств и разнообразных вин безмолвно орали плакаты гастрономических магазинов. За закрытыми дверями, за глухо задернутыми гофрированными железными жалюзи окнами скрывались товары, скрывалось богатство. Толпа жадно разглядывала магазины, толпа проникала алчными глазами за глухо закрытые двери, за плотные и крепкие жалюзи. Толпа читала на вывесках фамилии владельцев магазинов. И не однажды взрывалась глухим и еще сдержанным пока нетерпеливым ревом, улавливая нерусские имена:
– О-го-го!.. Жиды!.. Ух!..
– Бей...
Но впереди шло начальство и у этого начальства везде были глаза и уши, и быстро возникал предостерегающий окрик:
– Эй, вы!.. Тут не безобразь!.. Эй!..
На главной улице толпа была сдержанной и смирной. Кузнецы и люди из Спасского предместья, шедшие в хвосте манифестации, еще слушались распорядителей. Они еще были податливы и добродушны. Они были веселы. Их веселье чуточку отдавало озорством, когда, обгоняя толпу, почти по самой панели проехала серояблочная пара и вытянувшийся в коляске, придерживаясь за малиновый кушак кучера, тучный полицеймейстер обнажил лысеющую голову и мелко закрестил широкую грудь. Тогда из толпы, в которой были издавние и закоренелые враги полиции и полицейских, взметнулся острый улюлюкающий свист. Но взметнулся и трусливо и виновато оборвался. Полицеймейстер обогнал процессию, оглядел ее, остался доволен и покатил дальше.
С главной улицы голова процессии свернула на боковую. На углу, сторожа и подстерегая прохожих, высилась каменная часовня с какой-то чтимой иконой. Здесь всегда толпились богомольцы, опускались на колени, стукались лбами о холодные плиты и тратили медяки на свечки. Передние остановились подле часовни. Густой бас затянул «Спаси господи...» Кой-кто взбежал по широким плитам к дверям часовни. Монах, собиравший деньги за свечи, истово поклонился хоругвям, портрету царя, иконе и стал деловито рассовывать тоненькие восковые свечки, тщательно проверяя плату за них. Разглядывая участников процессии, считая деньги и привычно хватая из ящика желтые восковые свечечки, он нараспев приговаривал:
– С господом богом, православные... Потрудитесь!.. С господом богом!..
Хоругви колыхнулись и поплыли дальше. Бушуя и ворча, толпа стала сзади напирать на идущих впереди. У часовни образовался затор. Люди заполнили широкие плиты лестницы, полезли к дверям, толкнули монаха. Монах озлился и, теряя елейную ласковость, по-мужичьи, зло и несдержанно зашипел:
– Куды прете?! Ну, ослепли, что-ли!?
Свирепый вид монаха подзадорил озорников. Посыпались колкие шуточки и непочтительные остроты. Кой-кто с нескрываемой злобой огрызнулся на рассердившегося старика.
Но прошли часовню, потекли дальше. Потянулось длинное шествие по улицам медленно и угрожающе. Медленно и угрожающе оглядывали участники манифестации попутные дома. Замечали неприкрытые ворота, бесцельно и проказливо раскрывали их, дразнили взволнованных собак, швыряли в них камнями, уличной пылью.
Впереди же надсадно и хрипло лилось нестройное пение: то «Боже царя храни», то «Спаси господи люди твоя»...
14
Грохот барабана был угрожающ и зловещ.
Офицер обернулся к первой шеренге солдат. Люди стояли как будто безучастные и равнодушные ко всему, что возле них происходило. Люди выглядывали такими, какими были каждый день в казарме и на плацу. Офицер успокоенно передохнул, выпятил грудь и решил скомандовать, как полагается, размеренно, раздельно и по всем правилам. Но голос его сорвался и вместо полагающихся слов команды он закричал, и была испуганная торопливость и неуверенность в его крике:
– Целься!.. Рота, приготовьсь!..
Солдаты медленно, словно нехотя, взяли ружья на прицел. Черная щетина штыков дрогнула и направилась на баррикаду. Легкий холодный ветер колыхнул укрепленный Павлом над баррикадой красный флаг. Небольшое полотнище развернулось, мгновенье простерлось в воздухе и снова опало. Солдаты взглянули поверх ружей. Рядом с флагом появилась голова человека. Человек возбужденно крикнул:
– Товарищи! Не стреляйте!.. В кого стреляете?.. свои же!
Ружья дрогнули. Щетина штыков колыхнулась вверх. Офицер, как ужаленный, обернулся на возглас, покраснел и завизжал:
– Стреляйте!.. Пли!..
Штыки поднялись еще выше. Щелкнули затворы. Серые тени поползли по лицам солдат, таким одинаковым в серых однообразных шинелях. Павел замахал правой рукой.
– Не стреляйте! – звенел его голос. – Не слушайтесь его!..
– Пли-и!.. – исступленно взвизгнул офицер.
Еще чуть-чуть выше дрогнули штыки. Нестройный залп грохнул нежданно и нелепо. Павел возвышался над баррикадой невредимый и улыбающийся. Только древко флага немного качнулось: по самому кончику его скользнула случайная пуля.
– Ура-а, солдаты! – полной грудью прокричал Павел.
– Ура-а-а!.. – подхватили дружинники, карабкаясь вверх и появляясь на виду. – Да здравствуют товарищи солдаты!
Побагровев, офицер выхватил шашку и задохнулся в крике. Дробный топот скачущей во весь мах лошади заглушил его крик. Всадник круто осадил лошадь, мешком скатился с седла и, взяв под козырек, стал что-то быстро докладывать офицеру. Тот всунул шашку в ножны, угрюмо взглянул на баррикаду и неуверенно скомандовал:
– Налево кру-угом арш!..
Рота грузно повернулась. С баррикады увидели спины солдат. Потом лес штыков закачался мерно и плавно, и грохнули тяжелые шаги и гул удаляющихся солдат взъярил неожиданной радостью Павла и его товарищей.
Дружинники кричали вслед солдатам:
– Ура! Да здравствует единение армии с народом!..
Дружинники карабкались по ящикам, по дровам, по поваленной вывеске «Майзель и сын», по всему хламу, что был наворочен на баррикаде. Они возбужденно махали руками, они кричали. Они запели. Семинарист схватил красное знамя, взмахнул им и срывающимся голосом, весело и самозабвенно запел:
Отрече-емся от ста-арого ми-ра-а-а.
Отряхне-ем его пра-ах с наших но-ог...
Остальные подхватили слова. И вот песня полетела следом за солдатами. И солдаты украдкой оглядывались и, слушая эту песню, усмехались, замедляли шаг, приноравливая его к вздымающему, влекущему гимну...
15
Стачечный комитет и рабочие организации, руководившие митингом в железнодорожном собрании, вынесли решение: идти на улицу; у кого есть оружие, может захватить его с собою, но зря в ход не пускать.
Емельянов, успевший раздобыть револьверы себе и товарищам, стал выбираться сквозь толпу на улицу.
– Надо теперь возвращаться к своим. Как там у них... – сказал он. – Ждут, поди.
– Надо, – согласились остальные. Худой мужик неуверенно возразил:
– А с чем мы... Значит, какие вести? Для этого ведь пошли...
– Вести определенные, – уверенно успокоил его Емельянов. – Стягиваться всем в одно место нужно. По кучкам-то перещелкают, мое поживай.
– Пожалуй, правильно! – пророкотал Потапов. – Только послушается ли товарищ Павел?
– Послушается. Он дисциплину знает.
– Стало быть, отказ... – разочарованно сказал худой мужик. – Набуровили, набуровили, а теперь бросать всю ту работу?..
– Жалко тебе баррикады? – засмеялись Потапов и Емельянов. – Ничего, не скучай, дела будут горячие!
Разговаривая, они проталкивались к выходу. Но у самых дверей образовался затор и выйти на улицу нельзя было. У входа стояли дружинники и пропускали всех медленно, оглядывая проходящих, всматриваясь в лица, кого-то, очевидно, отыскивая. Емельянов узнал знакомого и спросил:
– Контролируешь? Прощупку делаешь?
– Да! – коротко кивнул тот головой. – Смотрим, нет ли чужих.
– А что?
– А то, что у неизвестных, коли оружие оказывается, отымаем... Дня предупреждения провокации... Стой, стой! – встрепенулся дружинник и задержал низенького человека, из-под короткого полушубка которого выглядывали синие, заправленные в голенища сапог штаны. Низенький остановился, оглянулся и с деланным возмущением запротестовал:
– Да ты что, товарищ? Я ж дружинник! Что на самом деле!
– Ладно! – отрывисто кинул дружинник. – Потом скажешь. Пройди-ка вот назад. Товарищи, отведите его наверх!
Задержанного повели вверх. Дружинник посмотрел ему вслед, прищурил глаза и зло сказал:
– Тоже храп! Даже штанов форменных не переодел!..
– Городаш?
– Он самый.
Несколько человек кинулись по лестнице за переодетым полицейским. Но их задержали:
– Не глупите! В комитете разберут.
Потапов засмеялся.
– Выходит, – обратился он к своим спутникам, – наши умнее полиции. Мы-то его благородию очки сумели втереть...
– Наш фарт.
Наконец, они выбрались на улицу. Там выстраивались широкой колонной демонстранты. Базар напротив казался пустынным и безлюдным.
Вынесли знамя и широкое красное полотнище с белыми буквами. Белые буквы дерзко кричали:
– Долой самодержавие!..
Этот безмолвный, но дерзкий крик плаката веселил и радовал. Запретные слова, которые еще совсем недавно появлялись только в напечатанных в подпольных типографиях прокламациях и произносились крадучись и с опаской, теперь вырвались открыто на улицу и громко звучат и их ничем не заглушишь. Так же, как ничем не заглушишь яркие песни, которые стали вспыхивать то здесь, то там в толпе демонстрантов. Песни звучали молодо и свежо, как молодо и свежо было все кругом: и необыкновенная взволнованность, и чувство опасности, и небывалая товарищеская связь совсем чужих друг другу, еще полчаса назад незнакомых людей. Серый октябрьский день светился скупо и буднично, но праздничны были лица и почти беспечны. Не было солнца, но в глазах сиял радостный свет и казалось, что день ярок и солнечнен, что на дворе не хмурая и студеная пора, заковавшая землю морозами, а сияющая, бодрящая весна.
Спутник Емельянова и Потапова разглядывал толпу, читал дерзкую надпись на полотнище, усмехался. В его усмешке были и удивление, и радость, и некоторое недоумение. В эти дни многое волновало и изумляло его. В эти дни раскололась его жизнь: где-то остались позади безнадежность, беспросветное существование и тупая покорность действительности.







