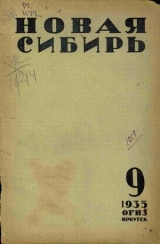
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Но когда грянули события, когда прокатилась волна забастовок и город оказался оторванным от центра, а в центре, повидимому, происходило что-то исключительно серьезное, редактор засуетился. Он понял, что бездействовать нельзя. Но действовать без газеты ему было трудно. И он негодовал.
– Да поймите вы, что сейчас газета – это огромная сила! А тут вот тебе на! Бастуют!.. Нет, не доросли у нас до революции!.. Не доросли!
Действовать редактору все-таки пришлось. Он просто обрадовался, когда к нему на квартиру заявилась целая делегация еврейских коммерсантов.
– Пал Палыч, – сказали ему, – мы за вашим содействием... В городе неспокойно. А мы по опыту знаем, что всякие волнения непременно выльются в еврейский погром. Нужно принять меры. Вы бы помогли нам... Не плохо попытаться переговорить с губернатором...
– Если бы уважаемые в городе лица пошли к господину губернатору, – вкрадчиво объяснил Вайнберг, – и попросили бы его принять меры... Вот мы и решили, чтобы вы, Пал Палыч, сходили... Конечно, с другими. И из нас кой-кто. Ну, вы сами знаете, как это нужно устраивать...
Пал Палыч был против всяких беспорядков и всегда резко и с негодованием осуждал еврейские погромы. Поэтому он охотно принял предложение еврейских коммерсантов. Он умело подобрал состав делегации, которая должна была пойти к губернатору. Тут были люди уважаемые и известные в городе, было и несколько еврейских купцов – из тех, кто был тесно связан с городской знатью. В делегацию попали Чепурной и Скудельский. Последний сначала отказывался: – Я могу не сдержаться и наговорить неприятных вещей помпадуру! – но потом согласился.
Делегация пришла к губернатору.
В холодной, казенно обставленной приемной с царскими портретами, с чинно и неуютно расставленными стульями делегацию долго проморил правитель дел, ходивший докладывать его превосходительству с подчеркнутой медлительностью. Губернатор принял пришедших челобитчиков недружелюбно.
– Мм-да... – пожевал он губами, прослушав гладкую и немного взволнованную речь Пал Палыча, говорившего от лица делегации. – Так... Вы, господа, взяли на себя непосильную задачу... Да... Что ж я могу поделать? Вы говорите, беспорядки, погром? Хорошо. Уговорите ваших левых друзей... этих красных, чтоб они не безобразничали, не оскорбляли национальных, патриотических чувств... Тогда... мм-да... и беспорядков никаких не будет... Что же касается господ евреев... – губернатор остановился и строго посмотрел на Вайнберга, – то разве я волен останавливать справедливое негодование народа... мм-да.., нашего верующего и оскорбленного в своих лучших чувствах народа?!... Господа евреи сами не должны давать поводов к... мм-да... эксцессам... Прощайте, господа!...
Делегация вышла от губернатора сконфуженная и подавленная. Пал Палыч хмуро оглянулся на захлопнувшиеся за ними двери и едко сказал:
– Итак, они сами толкают себя в пропасть...
Спутники его не поняли смысла этих слов, но расспрашивать Пал Палыча не стали. Кроме того, они не могли еще придти в себя от приема у губернатора.
– Что же это будет? – вздохнул Вайнберг. – Значит, надо ждать несчастья... И никакой защиты?!
– Демократия не допустит! – вспыхнул Пал Палыч. – Если они, – он кивнул на губернаторский дом, – не понимают, то мы сами возьмемся!..
– Разумеется, – подхватил Чепурной. – Надо действовать более решительно.
– Там наша еврейская молодежь... – неохотно сообщил Вайнберг, – суетится что-то на-счет самообороны... Но я и другие члены общины сомневаемся. Не озлобило бы это еще сильнее...
– Нет, почему же! – глубокомысленно заметил Пал Палыч. – Самооборона – вещь хорошая. Ее надо поощрять.
– Да?! – оживился Вайнберг. – Вы думаете? Некоторые наши тоже так понимают... А эти молодые люди настаивают. Требуют средств. На оружие там и вообще.
– Надо дать! – решительно посоветовал Пал Палыч.
Чепурной поддержал его.
22
О самообороне среди еврейской молодежи разговоры шли уже давно. Задолго до событий была в городе тревога. В весенний погожий день на улице возле полицейского участка истошно закричала женщина. Она рвала на себе волосы, простирала к прохожим руки и вопила:
– Ой, деточку мою!.. Ой, православные, унесли, замучили!..
Женщину окружили. Вокруг нее быстро скопилась большая толпа. Женщину стали расспрашивать и после двух-трех вопросов выяснилось:
Она шла в лавку за покупками и несла грудного годовалого ребенка. В дверях лавки она столкнулась с женщиной («жидовка такая черномазая!») и дернула ее нелегкая на минутку сдать ребенка этой еврейке («несподручно было с дитем в лавку втискиваться!..»). А когда вышла обратно, то не нашла возле лавки ни еврейки, ни ребенка. Только корзинка с покупками, впопыхах забытая еврейкой, стояла у дверей.
– Унесла!.. Господи, господи! унесла и замучат теперь младенчика моего, проклятые!.. О, горюшко!..
Рассказ женщины вызвал возмущение. Сразу нашлись знающие люди, которые легко растолковали смысл исчезновения еврейки с христианским ребенком.
– А это для них, для нехристей, самое разлюбезное дело христианских невинных младенчиков губить! По их поганой вере кровь-то невинного православного ребенка самое сладкое!..
– На паску на ихнюю в мацу они, троюпроклятые, кровь-то невинную употребляют!..
Толпа накалялась возбуждением. За женщиной двинулись в участок. В участке выслушали и женщину и добровольных свидетелей. В участке разобрали содержимое корзинки с провизией, которую женщина выдавала за якобы оставленную еврейкой. Среди луковиц, полдесятка яиц и еще какой-то хозяйственной кухонной мелочи торжественно были извлечены две скотские ноги.
– Ага! – обрадовались в полиции. – Самая настоящая улика!.. Скотские ноги – для еврейского субботнего кушанья. А сегодня пятница, канун субботы...
Дело об исчезновении христианского младенца закрутилось. Оно взбудоражило умы. Оно кой для кого явилось очень кстати. Как раз этой весною здешний монастырь готовился праздновать столетие открытия мощей местного святого. К этому торжеству очень готовились. Ожидался большой наплыв богомольцев. Ожидалось паломничество издалека. И такое событие, как похищение евреями христианского невинного младенца, как нельзя лучше могло послужить к вящшему прославлению православной веры...
Евреи находились в тревоге. О погроме все говорили открыто. Евреям грозили на каждом шагу расправой.
– Погодите, сволочи! – стращали их на базарах, на людных улицах. – Вот мы вам зададим вашу паску!..
К начальству посылали делегацию. Начальство уклончиво обещало выяснить дело. Но в этой уклончивости сквозила неприкрытая угроза. И еврейская молодежь стала сколачивать дружину самообороны. Это была слабая и плохо вооруженная самооборона. На нее была бы плохая надежда, если бы разразился погром. Но самый факт существования ее вселял бодрость в еврейское население и не позволял ему предаваться безысходной панике.
Дело с потерянным ребенком разрешилось очень просто. Раньше всего авторитеты по еврейским делам принуждены были признать, что скотские ноги, обнаруженные в корзинке скрывшейся с ребенком еврейки, трефные и евреями, правоверными евреями, в пищу не могли бы быть употреблены. Что-то в этих ногах по еврейскому каширному ритуалу не было проделано: какая-то часть копыт не была обрублена. И как только это обнаружилось, то евреи воспрянули духом и потребовали настоящего строгого расследования всего дела. Губернатору пришлось нажать на полицию, вмешался прокурор. Женщину потянули на настоящий допрос. Установили, что она жена полицейского. И еще установили, что в злополучный день она не брала с собою ребенка. А дальше и сам ребенок был найден у родственников городовихи...
Еврейское население вздохнуло с облегчением.
Но самооборона на всякий случай осталась...
И вот теперь, когда наступили новые события и снова в воздухе повисла угроза погрома, остатки еврейской самообороны начинали по-немногу обрастать новыми силами. И так как дело теперь уже шло не только о простом еврейском погроме, а предстояло нечто по-серьезнее, то задумались об оружии, о хорошем, дорого стоющем оружии.
Деньги были у буржуазии, у купцов. Буржуазии, купцам в достаточной степени грозили предстоящие события: чернь любила взламывать магазины, грабить и растаскивать товары. Представители самообороны стали обходить еврейских богачей.
У Вайнберга в городе было несколько магазинов. Ему было чего бояться в случае погрома и беспорядков. От него ждали большой денежной поддержки.
– Деньги? – удивился он. – За что? Почему?.. Я должен кому-нибудь? Я кому-нибудь обещал?.. Я никому не должен и никому ничего не обещал. Деньги легко не достаются... Ну пятьдесят, сто рублей я еще, пожалуй, дам. Но больше нет, больше не могу!..
– Вы шутите, господин Вайнберг. Сто рублей не деньги. Нам нужны хорошие револьверы. Имеется случай приобрести их... Ведь мы будем защищать ваше же имущество!
– Оставьте! Что могут поделать несколько десятков еврейских молодых людей?.. Я постараюсь найти надежную защиту.
– Ищите! – сердито сказали Вайнбергу представители самообороны и пошли по другим богатым людям.
Другие оказались более сговорчивыми. Самооборона получила небольшую поддержку. Где-то добыли десятка три револьверов. Дружинники разбились на десятки, во главе каждого десятка встал инструктор. Началась учеба. Людей стали приучать к оружию, к осторожному и осмотрительному обращению с ним.
Когда после безуспешного посещения губернатора к Вайнбергу снова обратились за помощью самообороне и рассказали ему, что самооборона растет и что из нее выйдет толк, он переменил прежнее свое решение.
– Да, может быть самооборона ваша действительно вещь. Согласен. Пусть и мой карман пострадает... Но я боюсь, что когда станут громить мои и ваши магазины, то эти паскудники вспомнят о социализме и умоют руки!
– О, нет! – уверили Вайнберга еврейские купцы. – Ведь они будут защищать евреев! Вообще евреев!.. И, кроме, мы даем деньги!..
23
Железнодорожное депо лежало низкими красными цехами по ту сторону реки. Тупики были забиты паровозами и вагонами. Над цехами не курились густые завитки дыма. Не покрикивали маневровые паровозы. Не гудело, не шипело. Не было рабочего, трудового гула и шума. Мертвыми и заброшенными казались цехи. Тускло поблескивали рельсы, по которым давно не катились, позванивая, тяжелые колеса. Тишина и безлюдье необычно простирались над остуженными паровозами, над раскрытыми товарными вагонами, над грудой рельсов, железа, над кучами каменного угля.
Железнодорожники бастовали.
Они остановили движение на магистрали, оторвали край от центра. Они были хозяевами на линии. И их влияние на всеобщую забастовку было решающим.
Поэтому в железнодорожном собрании происходили главные митинги города и сюда стекались все городские рабочие организации. И здесь был главный штаб всего движения.
Железнодорожники начали волноваться давно. Летом они уже бастовали и выдвигали дерзкие требования. В августе по рукам рабочих стали ходить нелегальные листовки и прокламации... «Уничтожьте царское самовластие! Замените самодержавие царя (монархию) самодержавием народа (республикой)!» – призывали эти листовки и прокламации. И еще сильнее призывали они рабочих железнодорожников к забастовке с тем, чтобы прекратить подвоз войск и воинских припасов на театр военных действий.
Против войны! С самого начала войны с Японией шел этот лозунг в толщу рабочих. И время от времени железнодорожники собирались с силами и бастовали. Летом забастовка вспыхнула с новой силой. Но тогда жандармы зашевелились, выловили самых активных и сознательных рабочих, арестовали часть стачечного комитета и задушили забастовку. Правда, в корне задушить они настроений рабочих не были в силах. Рабочие копили энергию.
На востоке шла война. Газеты приносили известия о поражениях русского оружия. Даже когда прямо не писали о наших поражениях и об успехах японцев, то и тогда все понимали, что брошенные на манчжурские поля русские крестьяне и рабочие, которых переодели в серые шинели, дали винтовки в руки и заставили сражаться с японскими крестьянами и рабочими, – гибнут сотнями и тысячами. И поэтому на станциях во время прохождения воинских поездов на восток около красных теплушек, на которых четко и бесстыдно написано было «40 человек, восемь лошадей», собирались возбужденные рабочие и вели мимолетные, но многозначительные беседы с солдатами.
– Куда вас гонят?! Эх, братцы!.. Тряхнули бы вы кого следует!.. Солдаты вступали в разговоры охотно, но опасливо поглядывали на классный вагон, в котором ехали офицеры. И порою осторожно кидали:
– Оно, конечно... Кабы наша воля, мы бы показали... Тоже не сладко на верную смерть отправляться...
Иной раз кто-нибудь из солдат, заметив среди теснящихся к эшелону рабочих железнодорожников, хмуро и с непонятной озлобленностью предлагал:
– А вы бы нас не везли!.. Отказались бы, вот мы и не попали бы в ту треклятую Манчжурию!..
Тогда железнодорожники смущались и не находили настоящих слов для ответа.
И эшелоны тянулись на Восток. Длинные воинские поезда из десятков вагонов для сорока человек и восьми лошадей день и ночь тянулись все в одну сторону – туда, где были гибель и смерть...
В лесу, на горке неподалеку от депо происходили массовки. С предосторожностями, соблюдая величайшую конспирацию, собирались слесаря, машинисты, кочегары, стрелочники и ремонтные путевые рабочие. Собирались послушать приезжего агитатора, разобрать свежие листовки, узнать новости, поучиться простому, но сложному и великому искусству борьбы. Тощий березняк, густо заросший буйной травой, плохо укрывал тех, кто приходил на массовку. Приходилось пробираться осторожно и осмотрительно. Для отвода глаз некоторые приносили с собою водку и закуску, чтобы в случае опасности выдать сборище за обычную прогулку в лес для выпивки. С горки видны были цеха депо, пути, поселок, раскинувшийся за рекою город. С горки удобно было следить за появлением непрошенных гостей. И поэтому горка эта была излюбленным местом для массовок.
Не раз приходилось расходиться, не успев обменяться парою слов, потому что со стороны депо появлялась какая-нибудь подозрительная фигура. Не раз приезжего комитетчика уводили кружным путем, переваливая через гору, бредя часами по полям и перелескам, чтобы спасти его от полиции или жандармов. Не раз первые, кто приходил на массовку, обнаруживали там незнакомых, которые может быть появились здесь с самой невинной целью, а может быть и в качестве филеров, и тогда массовка срывалась и приходилось ждать более удобного времени.
Но как хорошо и радостно было, какую бодрость вливало это в участников массовки, когда та удавалась и проходила благополучно!
Назавтра после такой удавшейся массовки по цехам, в сторожках, в конторах и просто на путях появлялись свежие прокламации. Оживало все кругом. Рабочие возбужденно и с каким-то приподнятым чувством прочитывали свежие, будоражащие листки. Подымались разговоры. Но начальство спохватывалось. Начинали суетливее шнырять жандармы. У кого-нибудь из рабочих, кто был на подозрении, производились обыски. Кого-нибудь арестовывали. Ненадолго вносилось смятение. На короткое мгновенье люди становились осторожными, выжидающими. А потом снова. Снова массовки, снова прокламации, снова возбужденные встречи, разговоры и сговоры.
24
Прокламации пахли свежей типографской краской.
Матвей понюхал их, поглядел на свои выпачканные в краске руки и удовлетворенно рассмеялся. Техника, выходит, поставлена хорошо! Шрифт четкий, краска ложится ровно и не марает и не просвечивает. Оглядев новое помещение, только что налаженный станок, плотно завешенные окна, Матвей весело сказал Елене:
– Ну, все в порядке!
– Все, – также весело ответила Елена.
У нее возбужденно сверкали глаза и раскраснелись щеки. С Матвеем ей приходилось теперь работать вдвоем впервые. Они неделю назад переехали на эту тихую квартирку и устроились под видом молодой четы. «Муж» и «жена». Им было чуточку неловко от этих слов, от того, что при посторонних они должны были играть роль молодоженов. Но так нужно было. Нужно было всеми силами, всеми способами охранять типографию и бесперебойно печатать литературу. Для Матвея это дело было привычным. Он уже не раз заведывал техникой, он умеет хорошо набирать, он ловок, спокоен и выдержан. А Елена на такой работе новичек. Ей еще трудновато изображать из себя мирную и незаметную жену своего «мужа». Ей непривычно видеть вокруг себя новую, двойственную обстановку. Вот в переднем углу висит целый иконостас богов и надо не забывать накануне воскресных и праздничных дней зажигать пред ними лампаду. Надо изредка ходить в соседнюю церковь. Надо поддерживать с редкими соседками соответствующий разговор о базаре, о погоде, о дороговизне, о болезнях. Надо казаться безобидной, простенькой, богомольной молодухой, и тогда можно быть спокойными за типографию. Это – конспирация, наука, которой обучает ее Матвей, старый подпольщик, знающий, опытный, уверенный.
А поздно вечером при плотно завешанных окнах выдвигается двойная стенка неуклюжего буфета, заставленного посудой, и из потайника появляется несложный типографский станок: рама, валик, шлифованная доска. И Матвей, наклонившись над небольшой, удобной для хранения кассой, быстро начинает набирать текст прокламации. А она, Елена, налаживает краску, готовит бумагу и, когда набор готов, помогает Матвею печатать листки. И в это время как она непохожа на ту, дневную жену мещанина Афанасия Гавриловича Прохорова, приехавшего лечиться от застарелой болезни, на ту тихую и немного чем-то раз навсегда испуганную Феклушу Прохорову!
Они оба, Матвей и Елена, осторожно и напряженно ведут себя в непривычной, но добровольно надетой на себя личине. Оба живут отшельниками, оторванно от товарищей по работе. Так надо. Иначе – провал. Нельзя ставить под угрозу налета жандармов такую ценность, как типография. Связь с комитетом поддерживается только через одного товарища. Только он один знает, где приютилась техника и кто в ней работает. И этот товарищ тоже появляется только в самых редких случаях и с величайшей осторожностью.
Двор небольшой. Во дворе несколько квартир и разные люди живут в них. А в переднем доме проживает пристав полицейской части. И приставу даже и в голову не приходит, что под боком у него ютится нелегальная типография! Квартиру эту облюбовал Матвей. Когда он нанимал уединенный флигелек и узнал, что в переднем доме живет полицейский чин, он горячо ухватился за свою находку.
– Самая подходящая квартира! – заявил он товарищам. – Мы под крылышком его благородия в полном спокойствии работать будем!
Товарищи смеялись, но, быстро смяв смех, предостерегали:
– Ты все таки того... осторожней!..
Через несколько дней после переезда на новую квартиру Матвей встретился у ворот с приставом и учтиво поклонился ему. Полицейский оглядел его цепко и привычным подозрительным взглядом, но увидев пред собою смиренного и простоватого молодого мещанина, который отвешивал низкие поклоны, благосклонно спросил:
– Тут живешь?
– Тут, вашблагородие.
– Ага... – кивнул головой пристав. – Живи.
Матвей потом насмешливо рассказывал Елене об этой встрече:
– Получил я разрешение существовать! Сам его благородие разрешил. Не фунт изюму!
– Познакомились, значит?
– Да, удостоился.
В ближайшее воскресенье Матвей и Елена пошли в церковь. Они отстояли обедню, показались соседям. Тут увидел их и пристав. Увидел и потом при выходе благосклонно ответил на поклон.
– Помолились? Это похвально, – одобрил он. – А то теперь безверие развелось, разврат. Особенно среди молодых... Очень похвально!
– Мы, вашблагородие, с женой к богу привержены! – с подобострастным видом похвалился Матвей. Елена густо покраснела: она еле удерживалась от смеха.
Уверенно и легко до самого рассвета работали они в этот раз. Валик весело ходил в руках Матвея, а Елена едва успевала накладывать листы. Готовые прокламации устилали пол, скамейки, столы. Оба устали, но об отдыхе нечего было думать: надо было к утру отпечатать новую партию листовок: из Петербурга пришли первые известия о кровавом воскресеньи.
25
Тогда это всколыхнуло и потрясло многих.
В понедельник, десятого, Галя обедала у Скудельских. Сам Скудельский где-то запоздал и Галя в ожидании хозяина весело болтала со своей подругой Верочкой Скудельской. Зимний день ярко гляделся в чуть подмерзшие окна. В столовой было уютно и тепло. Разговор был веселый, безмятежный. После обеда подруги собирались на каток, а вечером в общественном собрании должен был состояться концерт проезжего пианиста.
Скудельский вошел неожиданно и по его виду девушки поняли, что случилось что-то очень важное.
– Это ужасно! – бросая пачку книг на стол, сказал Скудельский.
– Что случилось, папа? – испуганно спросила дочь.
– Ужасная вещь... В Петербурге расстреляны сотни людей!.. Войска стреляли в безоруженную толпу!.. И у самого Зимнего дворца, на виду у царя!.. По его может быть приказу!..
– Как это было? – всполошились девушки.
– Подробностей пока нет. Известно только, что мирная толпа рабочих была встречена залпами... Ах, это переходит уже всякие границы!
Скудельский прошел к себе в комнату. Верочка тревожно поглядела ему вслед.
– Папа очень близко принимает это к сердцу. Ему нельзя волноваться.
– Но ведь это ужасно, то, о чем он рассказал!.. Понимаешь, Вера, убито много людей! И за что?..
– Никто ничего не знает, – спокойно проговорила Верочка. – Вот на войне убивают еще больше, а мы не волнуемся...
– Ах, Вера, это не то!.. – с горечью возразила Галя. – Не то!.. Мирных, ни в чем неповинных людей... и с ведома царя!
Верочка подошла к подруге и обхватила ее за талию.
– Ну, ничего, может быть все это не так! Знаешь, как часто преувеличивают!
Скудельский вышел в столовую переодетый и немного успокоившийся.
– Вели, Верочка, подавать!
Верочка, бывшая за хозяйку после смерти матери, живо распорядилась. Когда уселись за стол, Скудельский, принимая из рук дочери дымящуюся тарелку супу, почти с злорадством сказал:
– Ну, теперь революция неминуема!
– Папа, папа! – с укоризненною усмешкой протянула дочь. – Вспомни-ка, ведь ты тоже самое говорил, когда была объявлена война!
– Ну, вот глупости! – немного смутился Скудельский. – И все-то ты помнишь! Конечно, война – это начало революции! Потому, что война преступна и ее ведут нечестно и она объявлена из-за чьих-то своекорыстных интересов... А вот теперь уж настоящее начало!
Галя прислушивалась к словам Скудельского. Друг ее отца, земского врача, Скудельский всегда возбуждал в ней чувство уважения и приязни. О Скудельском в семье Гали отзывались как о революционере и галин отец, сам спокойный и осторожный человек, про своего приятеля говорил многозначительно:
– Вячеслав, о! Это горячая голова!..
И теперь Гале было отрадно слышать, как волнуется Скудельский оттого, что в Петербурге произошло что-то ужасное, и она думала с неудовольствием о Верочке, так легкомысленно относящейся к кровавым событиям и к волнению отца...
– А когда будут подробности, Вячеслав Францевич? – потянулась она к Скудельскому.
– Официальных, казенных подробностей ждать нечего. Придется потерпеть покуда не получатся известия из верных источников... – Потом, откладывая ложку в сторону, он предупредил дочь: – Ты меня сегодня вечером не жди. Задержусь на заседании...
– А как же с концертом? – обиженно протянула Верочка.
– Я не пойду на концерт! – обливаясь горячим румянцем, поспешно сказала Галя. – И на каток тоже...
– Ты что же это траур что ли объявила?
– Ну, ну, Вера! – недовольно остановил дочь Скудельский. – Какие сегодня концерты? Несвоевременно.
...Галя шла от Скудельских и думала о том, что произошло в Петербурге. И еще думала она о брате Павле, который наверное знает о случившемся больше, чем Скудельский. Она поторопилась и почти добежала до дому. Дома в их общей с Павлом комнате она нашла на столе коротенькую записку:
«Вечером не жди меня. Может быть, совсем не буду ночевать дома. П.»
Ей стало обидно. Вот все, как ей казалось, принимают какое-то участие, имеют какую-то свою долю в том, что происходит, и Вячеслав Францевич, и Павел, и только она одна не причем. Она присела на свою узенькую девичью кровать, опустила руки и задумалась.
В прошлом году она окончила гимназию. Надо бы поехать на высшие курсы, учиться дальше, но пока не приходится. Отец из деревни, где он служит, не смог устроиться во-время с деньгами. Посоветовал обождать с год. А Павел поддержал его. Павел... У него тоже не все ладно с университетом. Он теряет этот год, не поехал учиться дальше, а он ведь на третьем курсе. У Павла новая жизнь. У него странные какие-то знакомые. Он дружит с самыми простыми людьми. Он приносит домой книжки, которые прячет в свой чемодан. И он неохотно делится с нею своими интересами, своими делами. А ведь она не маленькая, не девочка. Она не Верочка, которую интересуют пустяки, ухаживание восьмиклассников, модные платья. Она еще в гимназии состояла в кружке, в котором изучали политическую экономию, читали Бокля, разбирались в Спенсере. Ей уже перепадали нелегальные книжки. Она понимает, что такое революция. Да, понимает! Так почему же ей приходится быть в стороне вот теперь, когда надвигается что-то большое, что-то небывалое, грозное и захватывающее?!
Галя думает. День за запорошенным морозом окном догорает. В комнате, становится темно...
Утром Галя сказала брату:
– Паша, введи меня в организации. Я не маленькая... И я не могу быть без дела... Не могу!
Павел пристально поглядел на нее. В его глазах метнулся мимолетный испуг, но он встряхнулся и бодро, почти шутливо ответил:
– Вот как! Бунтуешь, швестер[3]3
Schwester (нем.) – сестра.
[Закрыть]?.. Не хочешь быть в стороне? Правильно. Я уж сам подумывал...
Галя закинула ему руки на плечи и звонко поцеловала его в щеку.
– У-у милый!.. Вот хорошо!.. Расскажи о Петербурге.
Павел потрепал ее по спине и стал рассказывать о Петербурге. О девятом января. О кровавом воскресеньи.
26
Когда Галя вышла от Андрея Федоровича с Натансоном, ее изумила полнейшая тишина, стоявшая на улице. Тишина эта была такой глубокой и ясной, что девушке на мгновенье показалось сном все, бывшее с нею: и бегущая в панике толпа, и казаки, и звон колоколов, и тревога о Павле.
– Кажется, все успокоилось! – высказал предположение Натансон, оглядываясь по сторонам. – Слышите, тишина!
– Да... – нерешительно подтвердила Галя. – Знаете что? – Я теперь одна смогу пойти. Видите, спокойно...
– Нет! Ни в коем случае! Я вас провожу. Куда вам нужно?
Галя назвала улицу, на которой должна была быть воздвигнута баррикада и где она надеялась найти Павла.
Они дошли до места молча. Окружающая тишина не располагала к разговорам. От этой тишины Гале становилось тягостно и тревожно. Что-то случилось! Не может быть, чтобы было тихо от успокоенности и порядка. Так не бывает, когда на улицах все благополучно и течет обычная, мирная жизнь.
Когда они подошли к опустевшей баррикаде, которую кто-то, видимо, пытался разрушить, растаскать по кусочкам, и когда Галя никого там не увидела, она вскрикнула и схватила за рукав Натансона:
– Что же это такое?! Где все? Где Павел?
– Не знаю... – растерянно ответил Натансон, недоуменно оглядываясь по сторонам.
– Ах, я чувствую, что произошло несчастье!.. Где же они? Что случилось? Послушайте, пойдемте к стачечному комитету, к железнодорожному собранию... Пойдемте... там я узнаю!..
– Хорошо, – вздохнув, согласился Натансон.
По дороге к железнодорожному собранию они снова молчали. Но тишина вокруг них уже не была такой полной и ненарушимой. Невнятно, но усиливаясь, им навстречу полз глухой рокот. В этом рокоте, как вспышки молнии при грозе, прорывались короткие удары и какой-то звон. Чем ближе, тем сильнее растекался шум. И вот уже можно было различать голоса, крики, выстрелы.
– Там убивают! – крикнула Галя и побежала вперед. Неловко загребая ногами, за ней устремился Натансон. Длинные волосы его развевались из-под порыжелой шляпы.
Они выбежали к железнодорожному собранию со стороны базара. Здесь уже было многолюдно. Со всех сторон стекались толпы. Но люди останавливались на тротуаре, вдоль улицы, вытягивались, глядели в сторону железнодорожного собрания, переговаривались.
– Бьют!.. Ай, батюшки! Кузнецы напирают!
– Забастовщики, забастовщики орудуют!.. Глядите! Смяли, смяли тех-то!..
– Ой, стреляют!.. Господи, страсти-то какие!..
Галя потащила своего спутника сквозь толпу. Она проталкивалась, не обращая внимания на толчки и злобные окрики, она чуяла, что там, возле железнодорожного собрания, ее товарищам, может быть Павлу, грозит смертельная опасность. И она забывала про опасность, которая могла грозить ей самой.
Они выбрались, наконец, из толпы и очутились на углу, на открытом месте и в десяти шагах впереди себя увидели другую толпу, бушующую, осаждающую здание железнодорожного собрания. Галя увидела озлобленных, озверевших, пьяных людей, которые нападали на других и ожесточенно били. Она слышала дикие крики, до нее долетали отдельные слова, отдельные выражения:
– Жиды!.. Катай их!.. Православные, лупи!..
– Бей забастовщиков!..
– Крамольники-и!..
И она, не сознавая, что делает, безоружная ринулась в толпу.
Натансон отстал от нее. Погромщики заметили его, их возбудил его вид, его длинные с проседью волосы, его шляпа, его слегка растерянный вид.
– Ребята, жид!.. – крикнул кто-то возле него. И несколько человек накинулись на него. Его ударили чем-то тяжелым по голове. Его свалили с ног.
А Галя стремительно прорвалась через толпу и ее стремительность спасла ее. Пробившись вперед, она добралась до дружинников, которые цепью шли на громил. Здесь ее заметил кто-то из товарищей и втянул в толпу своих.
– Павел? – задыхаясь спросила она.
Но никто не мог ей ответить, где ее брат. Никому не было времени искать друг друга. Погромщики успели уже ранить несколько человек и, опьянев от первого успеха, лезли отчаянно на дружинников.
Разбитый царский портрет, иконы и хоругви уже проплыли куда-то дальше. Патриотическая манифестация двинулась по городу, оставив здесь заранее выделенную группу, к которой присоединились те, кто прятался на базаре, в пономаревских корпусах. Вместе с царским портретом, хоругвями и иконами исчезли и Созонтов и Суконников.
Павел с дружинниками подоспели как раз в самый разгар погрома. Они напали на громил с боку, неожиданно и заставили тех трусливо разбежаться. Но следом за Павлом и его товарищами шел длиннорукий со своей партией. Он не спускал глаз с Павла, как бы охотясь за ним, и налетел на него тогда, когда он не подозревал вовсе об опасности. Длиннорукий ударил Павла, коротким железным ломиком, фомкой, но удар, который он метил в голову попал по плечу. Потому что худой мужик, во-время заметивший грозившую Павлу опасность, ловко пнул длиннорукого в бок. Емельянов подоспел обоим на помощь и выстрелил в воздух.







