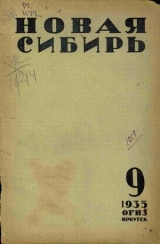
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
– Стрелять будем, гады! – крикнул он. – Расходитесь!..
Павел, не сразу почувствовавший боль, хотел что-то сказать, но пошатнулся и тихо пополз на землю. Тут нашла его Галя.
27
Погром у железнодорожного собрания прекратился внезапно.
С боковой улицы вывернулся марш-маршем отряд солдат, а рядом с ним серояблочная пара. Стоя в коляске, что-то озабоченно наговаривал командовавшему отрядом офицеру тучный полицеймейстер. Погромщики, как только увидели солдат и полицеймейстера, пришли в замешательство. Они попятились назад. Полицеймейстер ухватился за малиновый кушак кучера и задыхаясь закричал:
– Прекратите буйство!.. Буду разгонять оружием!.. Рас-сходи-сь!..
Солдаты, тяжело грохнув сапогами, остановились. Остановилась и коляска.
– Предупреждаю: буду разгонять! – повторил полицеймейстер. – Живо расходись!..
Как по команде, погромщики повернулись и стали быстро расходиться. На земле осталось несколько раненых. Дружинники тесно сплотились и застыли возле здания железнодорожного собрания. Между дружинниками и солдатами образовалось пустое пространство. На замерзшей земле темнели пятна крови.
– Вы тоже, господа, расходитесь! – обратился полицеймейстер к дружинникам. – Всякие скопища воспрещены. Буду применять строгие меры!
Дружинники молчали. Они поглядывали на солдат, которые, в свою очередь, внимательно смотрели на них. Офицер хмуро чего-то дожидался и ничего не предпринимал. Среди дружинников произошло какое-то движение. Из средины протолкался в передние ряды высокой курчавый студент, он поднял руку и сочным и сильным баритоном затянул.
Ви-ихри враждебные воют над на-ами...
Песня всколыхнула дружинников. Десятки голосов подхватили ее:
Темны-ые си-илы нас злобно гнету-ут...
К этим десяткам присоединились другие. И вот песней охвачена вся толпа дружинников, и плывут над толпою, над затихшими в изумлении солдатами, над побагровевшим полицеймейстером грозные слова:
В бой роково-ой мы вступи-или с врагами,
Нас еще су-удьбы безвестные жду-ут...
Полицеймейстер вылез из коляски и, грузно переваливаясь, подошел к офицеру. Он что-то настойчиво говорил ему, но офицер хмуро качал головой. Солдаты лукаво ухмылялись.
Из подъезда железнодорожного собрания вышла группа дружинников. Они унесли туда раненых и теперь возвращались в строй. По рядам не перестававших петь забастовщиков пролетела какая-то команда. Ряды пошевелились, колыхнулись и тесной колонной забастовщики тихо двинулись вперед. Они шли уверенно и бодро и боевая песня плыла над ними, как знамя. Они пошли мимо замеревших в изумлении и невысказанном восторге солдат, мимо потупившегося офицера, мимо выходившего из себя полицеймейстера. Их песня разгоралась и ширилась. И как бы дополняя эту песню, впереди них вспыхнуло алым пламенем знамя.
Но мы подымем грозно и сме-ело
Знамя борьбы за рабо-очее дело...
грозили они, попирая дружным шагом гулко отдававшую, скованную морозом землю.
Солдаты провожали их жадными взглядами, полуобернув головы на-лево, как на параде...
Стройная, бодрящая песня глухо долетала внутрь здания. В одной из комнат, наскоро превращенной в лазарет, неопытные и растерявшиеся санитары возились с ранеными. Галя, кривя губы, как будто больно было ей, а не брату, наблюдала за тем, как Павлу перевязывали разбитое плечо. Павел крепился и с бледной улыбкой пытался шутить:
– Ничего, швестер! Голова целая... значит, все в порядке!
Раненые лежали на сдвинутых скамейках, на столах. Неподалеку от Павла в тяжелом забытье лежал Натансон. Когда Галя на минуту оторвалась от брата и посмотрела на музыканта, у нее больно сжалось сердце. Лицо Натансона представляло сплошной кровоподтек, изо рта сочилась кровь, глаза запухли. Он тяжело дышал и в груди у него что-то зловеще хрипело.
– Ах, как изувечили человека! – вырвалось у кого-то. – Негодяи!..
Галя отвернулась. На ее глазах навернулись слезы. Это она виновата! Она повела за собою ни к чему не причастного человека. И вот теперь...
В коридоре послышались быстрые шаги. Дверь открылась. Галя обрадованно услышала знакомый голос:
– Устраивайте горячую воду! По-больше горячей воды!
К раненым подходил Скудельский.
28
Жандармы скрылись не надолго.
Ночью в городе была произведена облава. В десятках квартир перерыли все вверх дном в поисках крамолы и крамольников. Арестовывали целыми группами. Всю ночь арестованных водили по сонным, затихшим улицам в тюрьму. Всю ночь по городу разъезжали жандармы и полицейские и двигались усиленные патрули.
И тюрьма ожила.
К приему новых «гостей» готовились заранее. Были освобождены камеры, из одного корпуса перевели в другие уголовных и отвели его для политических. Усилили внутреннюю охрану тюрьмы. За неимением коек настлали наспех новые нары. В тюрьме стало как-то по-деловому празднично, смотритель, его помощники и надзиратели почувствовали, что на них возлагается ответственное дело, и подтянулись.
Арестовывали разных людей, в разных частях города. Арестовывали по-разному.
К Чепурному постучались в полночь вежливо и осторожно. Через закрытую дверь предупредили:
– Оденьтесь. Полиция...
Чепурной взволновался. Взволновалась его жена. Пришла в возбуждение и заохала прислуга. Жандармский вахмистр, вошедший в сопровождении двух солдат, учтиво предъявил ордер на арест. И даже не стал делать обыска. Только спросил:
– Оружия никакого нет?
Чепурной поспешно и готовно ответил:
– Никакого.
Когда Чепурной нервно и растерянно одевался, жандарм посоветовал его жене:
– Вы бы, мадам, сготовили бы мужу подушечку, белья пару смен, ну, из пищи что-нибудь... Ведь там, сами понимаете, удобствов мало.
У Чепурного тряслись губы, когда он прощался с женой. Жена на прощание крестила его мелкими крестиками и плакала навзрыд...
Скудельский был разбужен бесцеремонным громким стуком. Услышав его, доктор сообразил: к больному. Но стук повторялся с усиливающейся настойчивостью, и тогда Скудельский подошел к двери дочериной комнаты и разбудил дочь:
– Верочка, проснись, оденься, кажется, пришли с обыском...
Жандарм, полицейский пристав и солдаты грубо ввалились в переднюю, едва Скудельский успел отпереть дверь. Они вторгнулись в квартиру и сразу же приступили к обыску. Верочка не успела одеться, как в ее комнату втиснулся солдат и полицейский. Она закричала, но полицейский грубо оборвал ее. Вячеслав Францевич резко заметил приставу, что девушке надо дать одеться, но пристав насмешливо возразил:
– Нам некогда цирлихи всякие разводить. А вы не оскорбляйте!
Рыли в квартире Скудельского беспощадно и с нарочитой грубостью. Швыряли на пол книги, разбрасывали бумаги, письма, переворачивали мебель, выстукивали стены, ковырялись в полах. В верочкиной комнате безжалостно и бесцеремонно раскидали девичье белье, мяли его, комкали, грязнили. Верочка в поспешно накинутом на плечи халатике ежилась от смущения, холода и обиды. Глаза ее были полны слез.
Скудельский, побледнев от негодования, глухо сказал:
– Это издевательство. Я буду жаловаться!
– Пожалуйста! Сколько угодно!.. – с издевкой ответил жандарм.
Уходил в тюрьму Вячеслав Францевич с наскоро собранным узелком. С Верочкой ему не дали возможности попрощаться. Девушка проводила его, горько заплакав от обиды, от страха и от жалости...
Галю приход полиции почти не удивил. Она недавно вернулась из больницы, куда по настоянию доктора увезли Павла. Она еще не спала, когда квартирная хозяйка, открывшая дверь непрошенным гостям, с испуганным изумлением крикнула:
– Ой, батюшки! Полиция!..
Пришедшие заполнили комнату Гали и стали допрашивать девушку, где ее брат. Галя ответила, что не знает.
– Как же вы не знаете? – насмешливо взглянул на нее жандармский вахмистр. – Вы с вашим братом сегодня целый день митинговали и всякими недозволенными делами занимались... Должны вы обязательно в известности быть, где он теперь находится!
– А я не знаю! – повторила Галя, исподлобья поглядывая на то, как полицейский и солдаты рылись в ее вещах.
– Что ж, – протянул вахмистр, – коли запираетесь, так мы вас заместо брата вашего заарестуем!
– Можете! – вспыхнула Галя.
И почти спокойно вышла на морозную улицу, сопровождаемая конвоем...
В рабочих квартирах жандармы и полиция вели себя с грубой пренебрежительностью. Они командовали, покрикивали, пытались глумиться над обыскиваемыми. Но они встречали молчаливый протест и нескрываемое презрение в поблескивающих глазах рабочих. В иных домах их ждали с презрительной насмешливостью, и это их больше всего раздражало: они предполагали увидеть смятение, растерянность, испуг, а вместо этого они заставали спокойных и даже втайне посмеивающихся людей.
Лебедев, один из членов стачечного железнодорожного комитета, когда они пришли к нему, деловито посоветовал:
– На обыск не тратьте зря времени. Ничего не найдете. Вот вам письменный стол, чемодан, комод, орудуйте... – И, обращаясь к жене, встревоженно поглядывавшей на него, попросил: – Варя, принеси мою сумочку, ту, которая всегда со мной в тюрьму путешествует.
Жандармский ротмистр кисло усмехнулся и ехидно спросил:
– Готовились? Ожидали нас?
– Вас всегда нужно ждать, – спокойно ответил Лебедев. – А сумочка моя так от ареста до ареста и живет. Там у меня все приготовлено для тюремного жительства.
– Вы бывалый...
– Вашими молитвами! – весело тряхнул головой Лебедев.
...Во всех концах города шли обыски и аресты. Со всех концов города в тюрьму приводили арестованных. В тюрьме становилось все оживленней и оживленней.
29
По средине обширного, мощеного булыжником двора стоял столб с небольшим медным колоколом. Во двор со всех четырех сторон гляделись зарешетченные окна низких, облупленных корпусов. Тюрьма была старая. Когда-то она именовалась тюремным замком, и к ней по проторенной «владимирке», по широкому и исхоженному московскому тракту стекались арестанты со всей России. О ней пелись унылые арестантские песни, ее вспоминали на этапах и в ссылке тюремные сидельцы. Про нее складывались рассказы. И рассказы эти ходили по тюрьмам и этапам империи. И слава у нее была недобрая.
В обычное время в тюрьму попадали через узенькую калитку в мрачных, окованных железом воротах. Из калитки поворачивали в невысокую дверь тюремной конторы, а оттуда расходились по камерам. Но в эту ночь, когда арестованных приводили десятками, тяжелые ворота, стоявшие обычно на запоре, со скрежетом и визгом приоткрылись, и людей впустили во двор. И уже со двора другим ходом повели в контору. И от сотрясения раскрываемых ворот запыленная и грязная икона, висевшая над ними, слегка закачалась на затейливом, арестантской работы, кронштейне.
В тюремной конторе арестованные узнавали знакомых, обменивались приветствиями, пытались шутить. Тюремная администрация настороженно поглядывала на новых арестантов. Тюремная администрация, обычно невозмутимая, на этот раз была немного смущена: среди приводимых под конвоем находились известные в городе люди, которым вовсе не место в тюрьме!
Скудельский столкнулся на тюремном дворе с Галей.
– А-а, и вас тоже!
– И меня, Вячеслав Францевич!
Галю повели в женский корпус. Скудельский поежился от холода и от волнения и, приглядевшись к окружающим, узнал Чепурного. Потом он узнал редактора, Пал Палыча, затем инженера Голембиевского, потом еще знакомого, еще и еще. Чепурной, кивнув ему головой, горестно, но стараясь сделать насмешливое лицо, протянул:
– Каково? А?..
– Да-а... – отозвался Вячеслав Францевич. – Правительство играет ва-банк!
– Попомните мое слово, господа, – вмешался Пал Палыч, – это так даром им не пройдет!..
Над толпою арестованных раздался зычный, привыкший командовать голос:
– Заходи по-двое! Заходи!.. Живо!..
Толкаясь и мешая друг другу, люди стали торопливо проходить в низкую дверь. В полутемном коридоре на них повеяло застоявшимся, кислым воздухом. Запахи тюрьмы, густые и непереносимые, охватили их. Чепурной поморщился и поднес платок к носу. Шедший с ним в паре высокий студент покосился на него и засмеялся:
– Неподходящее амбре?
– Ну, и воздух, – проворчал Чепурной, смущенно пряча платок в карман.
В конторе долго возились с необходимыми формальностями. Столкнувшись с законом, с формой, Чепурной оживился, он почувствовал себя законником и потребовал на просмотр ордера на арест, которые пришли с каждым из арестованных. Дежурный помощник смотрителя ухмыльнулся и успокаивающе заверил:
– Не беспокойтесь, все в порядке!
Было уже совсем под утро, когда, наконец, всех повели в камеры, и звон ключей, лязг засовов и тяжелый стук закрываемых дверей напомнил о том, что с этого часу начинается неволя, тюрьма.
В камере, куда попал Скудельский, набили человек сорок. Чепурной и редактор оказались здесь же. Но кроме них и еще четырех-пяти знакомых, все остальные были Вячеславу Францевичу неизвестны. Это была все молодежь, шумная и неугомонная даже и здесь, в тюрьме, как и везде.
Высокий студент, как только в камере водворился кой-какой порядок, предложил:
– Надо, товарищи, организоваться. Выберем старосту.
Скудельский, Чепурной и Пал Палыч, устроившиеся на нарах рядом, переглянулись. Пал Палыч кивнул головой:
– Действительно, надо организоваться.
– Я предлагаю Пал Палыча Иванова... Человек уважаемый... – заявил Чепурной.
С нар, заполненных молодежью, весело и дружно грянуло:
– Мы предлагаем товарища Антонова!..
– Голосовать! Голосовать!.. Антонова!
– Кто это Антонов? – спросил Скудельский ближайшего к нему товарища из тех, кто громко выкликал эту фамилию.
– Железнодорожник. Слесарь депо.
Проголосовали дружно. Антонов получил громадное большинство. Когда результаты голосования были объявлены, с дальней нары поднялся лохматый, немного сутулый великан. Серые глаза из-под нахмуренных бровей глядели у него весело и чуточку насмешливо. Русые усы свисали вниз. Оглядев сокамерников, великан почесал большой с узловатыми пальцами рукою в затылке и глухим голосом сказал:
– Что ж... Почтили, значит, доверием... Ну, это я самый и есть Антонов... Которые не знают, так вот, значит... Я и есть избранный... А теперь надо установить конституцию, камерную конституцию... Первое – никаких разговоров с начальством, никого, кроме старосты. Понятно?..
Камерную конституцию устанавливали бы долго, если бы кто-то не спохватился, что уже поздно, что скоро в заставленные решетками окна заглянет утро и что все окончательно решить можно будет завтра. С этим согласились и начали устраиваться на ночлег...
30
Утро было морозное и мглистое. Это утро вставало над просыпающимся в растерянности городом. Оно вставало над тюрьмою, над арестованными, которых продолжали проводить по улицам города под усиленным конвоем. Оно вставало над многочисленными патрулями, шагавшими по городу вдоль и поперек.
Железнодорожное собрание было занято войсками. Еще ночью нагрянула сюда рота стрелков и расположилась шумным и бесцеремонным бивуаком. На заборах и в витринах появились еще более грозные, чем прежде, объявления властей. Эти объявления были напечатаны плохо: собранные из воинских частей бывшие печатники, видимо, разучились работать. На главной улице открылись некоторые магазины, в которых за прилавком, вместо бастующих продавцов, встали сами хозяева и их доверенные и управляющие. Но покупателей было мало. Было мало прохожих по улицам, которые считались очищенными от беспорядков. Было тихо. И прежняя настороженность витала кругом.
От большого белого с колоннами губернаторского дома скакали вестовые. Полицеймейстер, невыспавшийся и обрюзглый, с самого раннего утра ездил по присутственным местам. В участках были в сборе все городовые. В участках не по-обычному толпились дворники. Пристава ходили по заплеванным канцеляриям и кордегардиям, деловито и приподнято возбужденные.
Желтое здание жандармского управления напоминало гудящий улей. Здесь было почти праздничное оживление. Невыспавшиеся вахмистры и жандармы смотрели именинниками. Шпоры звенели весело и радостно. В кабинете самого полковника беспрерывно шли совещания. Начальник охранного отделения почти не выходил от полковника. По-обычному вылощенный, душистый, ласково улыбаясь серыми злыми глазами, ротмистр Максимов вкрадчиво, но непреклонно и властно командовал высшим и по чину и по положению полковником. Он подсказывал мероприятия, советовал, и советы его похожи были на приказания. Старик полковник с седым бобриком на голове, с тщательно подстриженными белыми усами, бодрящийся и по-военному подтягивавший свое дряхлеющее тело, относился к ротмистру внимательно и предупредительно. Максимова сюда перевели в прошлом году с юга, где на него было произведено террористами неудачное покушение. У Максимова была слава опытного и находчивого жандарма, и он не однажды был взыскан высочайшими милостями.
В желтом здании жандармского управления, которое находилось недалеко от тюрьмы, ночь незаметно перешла в утро. И Максимов, свежий и благоухающий, словно он крепко и всласть поспал всю ночь, просматривал длинные списки, улыбаясь и насвистывая задорный мотив из оперетки. Полковник, превозмогая усталость, сбоку поглядывал на ротмистра и с завистью отмечал его свежий и бодрый вид. Пожевав губами, как будто он только что съел что-то кислое, старик скрипуче обронил:
– Ну-с... Забрали многих. А вот типографийки-то нету... Нету, Сергей Евгеньич, типографийки... Плохо.
Брови ротмистра быстро взметнулись вверх. Лоб сбежался в морщинках. Голубые глаза зло метнули короткий взгляд в полковника.
– Типография, Антон Васильич, – вещь серьезная. Ее революционеры не держат на виду... Дайте срок. Вот поговорим кой с кем из задержанных, развяжутся языки, тогда и о типографии речь пойдет.
– Под самым носом орудуют... Листки за листками, самые возмутительные, изготовляют... Есть же у вас, Сергей Евгеньич, осведомители, что ж они делают?
Полковник, тщательно раздвигая сзади разрез мундирного сюртука, тяжело опустился в резное дубовое кресло и стал рыться в папках с бумагами, наваленных на большом письменном столе. Ротмистр стремительно повернулся, щелкнул шпорами и рванул холеный белокурый ус:
– Осведомители работают! Я имею честь уверить вас, господин полковник, что осведомители работают!
– Ну, ну, Сергей Евгеньич, – с легким испугом торопливо поправился полковник, – я вовсе не хотел вторгаться в вашу область... Верю, верю, что там у вас все в порядке... Но как это все беспокойно и бестолково!.. Заарестовали мы с вами сотни народу, а толк-то какой? Какой, Сергей Евгеньич, толк? Нет настоящего дела!
– Дело будет, – многозначительно пообещал ротмистр. – Мы, правда, забрали много крикунов и краснобаев, много мальчишек и просто так, случайных, но зато у нас кой-кто из головки сидит. Мы убьем забастовку, отняв у нее руководителей... А до типографии, до господ социалистов мы по-настоящему еще доберемся!
Полковник поежился в кресле и потянулся к лежащему на столе серебряному портсигару с толстыми золотыми монограммами.
– Курите!
– У меня, Антон Васильич, легкие... – отказался ротмистр, доставая свой портсигар.
Оба закурили. В высокие окна гляделось подслеповатое зябкое утро.
– Та-ак... – протянул полковник, вдыхая душистый дым, – та-ак... Это что же, значит, вроде революции?
Ротмистр усмехнулся.
– Нет. По-моему, маленький, неудачно аранжированный бунт...
– А забастовка? А все эти бесстыдные и совершенно наглые выступления? Наконец, даже баррикады?! Вы поймите, Сергей Евгеньич, бар-ри-кады!
– Все это, уверяю вас, не надолго... Проследуют демобилизованные с Востока, разойдутся по домам, и все станет спокойно, за исключением небольших вспышек.
У ротмистра потухла папироска. Он смял ее и сунул в чугунную пепельницу: сеттер, делающий стойку на берегу озера. Полковник двумя пальцами левой руки расправил усы, правая с зажатой в ней папироской опустилась на стол, и длинный столбик пепла бесшумно упал на бумаги.
– Революции в России ждать нельзя, по крайней мере, в скором времени, – весело сказал ротмистр, – особенно при наличии нас.
Выпятив наваченную грудь мундира, полковник самодовольно подтвердил:
– Да...
У ротмистра чуть-чуть насмешливо сверкнули глаза.
В дверях прозвенели шпоры...
– Дозвольте доложить, вашвысокблагородие!
– Ну? – повернулся полковник к вошедшему.
– Так что на Монастырской, на Главной и коло самого нашего управления обнаружены неизвестно кем наклеенные прокламации... Одну содрали в целости и предоставлена при донесении... Извольте получить.
Полковник быстро выхватил из рук вахмистра смятый и в нескольких местах продранный листок. Ротмистр, расправив плечи и звякнув при этом наконечниками аксельбантов, перегнулся к листку и жадно заглянул в него.
– Все те же! – раздраженно отметил он.
– Ну, вот! – развел руками полковник.
31
Потапов, Емельянов и худой мужик возле железнодорожного собрания отделались очень легко. Потапова только слегка помяли, Емельянову пропороли ножом рукав ватной тужурки и неопасно поранили руку. У худого мужика оказалась разбитой голова и затек кровью левый глаз. И Емельянов и худой мужик на перевязочном пункте отказались от помощи, сами на-спех и неумело забинтовав свои раны и ушибы.
– Пустяки! – отмахнулся Емельянов.
– Ничего, заживет, – уверил волнующуюся и раскрасневшуюся сестру худой мужик. – Ежли на всяко-тако внимание, так это что же будет?..
И все трое, не расставаясь до вечера, пробыли в железнодорожном собрании, походили по разным комнатам, побывали в штабе дружины, толкнулись в комнату, занимаемую стачечным комитетом, поговорили, послушали. А когда стемнело и вдруг оказалось, что им нечего делать и некуда толкнуться, они вспомнили о мелких домашних делах. Вспомнили о том, что у каждого из них есть хоть какой ни на есть, а дом, и решили побывать там.
Худой мужик засуетился, у него заныло на сердце. Он представил себе своих ребят там, в полухолодном флигельке. Он заторопился.
– Сходить посмотреть ребятишек... – виновато сказал он Потапову.
– Вали, – разрешил тот.
– Конечно, сходи, – поддержал Емельянов, – утром вернешься сюда.
– Вернусь, обязательно...
Когда они расставались, Потапов добродушно пророкотал:
– Вот мы с тобой, можно сказать, кровь проливали, а имя-отчества твоего и не знаем!
Худой мужик тронул жилистой рукой вклокоченную бороду и усмехнулся:
– У меня имя-отчество простое: Иван Силыч. Сила отец у меня прозывался, крестьянин, хлебороб отец-то был... А я тут на заводе. А фамилия мое Огородников...
– Ну, ладно, товарищ Огородников, до завтра!..
Они разошлись в разные стороны, и скоро Огородников добрался по хмурым улицам до своей избы. И опять, как недавно, стукнул он в дверь, и опять за дверью всплеснулись детские голоса. И опять в выстывшей избе обступили его ребятишки, обрадованные, плачущие, упрекающие.
– Застыли? – ласково спросил он их. – Голодные, а я, беда какая, хлебца-то вам не прихватил!
Девочка, размазывая слезы по щекам, торопливо поведала:
– Хлебца нам тетенька дала...
Огородников удивился.
– Это какая же тетенька?
– А тутошняя... – объяснил мальчик. – Пришла, печку затопила... А мы голодные! А она нам по куску, по большущему...
– По вот тако-ому! – восхищенно развела руками девочка, и глаза ее засияли радостно, и слезы сразу высохли на них.
– Тутошняя? – стал соображать Огородников. – Какая же это такая?
Мальчик поднял головку и раздумчиво протянул:
– Она, тять, добрая...
– Она добренькая! – подхватила девочка.
– Ты-ы, Нинишна! – недовольно остановил ее мальчик. – Лезет!.. Она, тять придет. Сказала: приду...
Огородников затопил печку, пригрел ребятишек, устало уселся с ними возле огня и задумался. Он думал о том, что вот не резон оставлять ребятишек одних в голоде и в холоде и что плохо это, когда чужие люди привечают детей. Задумался он и о неизвестной добренькой тете. Ребятишки прикурнули к нему и задремали.
Тусклая керосинка коптела. В избе было сумрачно и тоскливо. И только гуденье прогоравшей печки навевало мимолетную и непрочную мечту об уюте, о спокойствии, о семье...
Женщина пришла для Огородникова неожиданно. Он услыхал стук в двери и пошел открывать. Свежий, приятный голос еще за дверью произнес: – «Откройте, детки!» И когда он открыл, женщина, увидев его, просто и спокойно сказала:
– Ну, вот, значит, и папа пришел!
Огородников пропустил ее в избу и нерешительно и смущенно молчал.
– Я тут без вас приходила, – продолжала женщина. – Мне сказали соседи, что дети одни, я и пошла взглянуть на них... Вы зачем же таких малышей одних оставляете?
Ребятишки встрепенулись, услышав голос женщины. Они выползли на средину избы, и девочка обрадованно крикнула:
– Тетя!
У Огородникова недовольно сошлись выцветшие брови.
– Надо бы кого из соседей попросить приглядеть за детьми, – продолжала женщина, – а то долго ли до какого-нибудь несчастья.
Огородников продолжал молчать. Женщина всмотрелась в него, что-то сообразила и усмехнулась:
– На работу ходил?
– Нет... – нехотя ответил Огородников.
Вторжение женщины ему не нравилось. Была она, несмотря на то, что ласкалась к детям, вся какая-то чуждая и враждебная. От нее пахло духами, она была хорошо и нарядно одета и нежное лицо ее сияло довольством и успокоенностью. И все в ней было чуждо и необычно для Огородникова.
– Значит, бастовал? – прищурилась женщина. – Конечно, все теперь с ума сошли.
– С ума сошли?! – неприязненно переспросил Огородников. – Ежли рабочему человеку до крайности дошло, так это, выходит, с ума сошли?
– Какая же крайность? – с неудовольствием возразила женщина. – Кто работает, у того не может быть крайности. Вот когда пьянствуют или...
Встретив неприязненный взгляд Огородникова, женщина остановилась.
– Ребятишки у вас хорошие, – переменила она разговор. – Жалко, что вы их так бросаете... Матери нет?
– Мать померла... – односложно ответил Огородников.
Присмиревшие дети, что-то почуяв в голосе отца, смущенно отошли от женщины в сторону. Та внимательнее вгляделась в Огородникова.
– Детки хорошие, – как бы что-то поясняя, отметила она. – Мне их жалко...
– Их чего жалеть?! – возмутился Огородников. – Рук у меня, что ли, нехватит поднять их, до возрасту вытянуть?!
– Конечно... – неопределенно сказала женщина и внимательно оглядела избу. Потом она вытащила из сумочки, бывшей при ней, сверток и протянула его детям:
– Вот вам, ребятки, сладенького!
Ребятишки опасливо поглядели на отца и неуверенно приняли гостинец.
Женщина надела перчатки, прищурилась и холодно сказала:
– Ну, теперь ребятки не одни. Я пойду. На всякий случай запомните мой адрес: через квартал отсюда, четырнадцатый номер. Спросите прокурора Завьялова. Это мой муж...
32
Натансон очнулся в больнице. Сперва он долго не мог сообразить, где находится. Необычная обстановка смутила его, а боль во всем теле и какая-то скованность движений наполнили неуловимым страхом. Он хотел приподнять голову и оглядеться, но не мог. Тогда откуда-то издалека память принесла неясные обрывки воспоминаний: толпа, шум, боль... девушка. Из этих обрывков собралось определенное: страх, ожесточенные лица, орущие рты и удар, тяжелый удар по голове. Натансон застонал. Кто-то над ним негромко сказал:
– Приходит в себя...
Потом опять было забытье. И только позже Натансон окончательно очнулся и понял, что лежит в больнице, весь в повязках, что у него болит все тело и сильнее всего голова. И снова вспомнил он о девушке. Что с ней? Его охватило беспокойство. Заворочавшись сильнее на койке, он с трудом повернулся на бок и разглядел угол больничной палаты, ряд кроватей, широкое окно.
– Ну, как? – спросил его незнакомый голос. – Голова очень болит?
– Болит, – сознался Натансон, встретившись взглядом с наклонившимся над ним человеком в белом халате. – Очень... – Потом, с усилием подумав и что-то припомнив, испуганно осведомился: – А руки?... Мои руки... целы?..
Человек в белом халате, фельдшер, ободряюще качнул головой:
– С руками благополучно... Пустяки.
– Ну... – облегченно выдохнул Натансон. – Это хорошо... Я, видите ли, музыкант. Для меня руки – все...
– Вы не волнуйтесь, – остановил фельдшер, – вам спокойствие нужно...
Фельдшер отошел от койки. Натансон снова погрузился в болезненные воспоминания. И опять самым мучительным в этих воспоминаниях, в этих обрывках и клочках событий, которые память прихотливо и непоследовательно воспроизводила перед ним, были воспоминания о девушке... Ну, да, он шел с ней. Она торопилась, ее что-то волновало и тревожило... Потом толпа, шум, крики, даже выстрелы, кажется... Потом боль. И девушка исчезает... Что же с ней случилось? Что с ней случилось в этой дикой и озлобленной толпе?..
– Послушайте... – слабым голосом позвал Натансон, – послушайте...
Фельдшер снова подошел, наклонился:
– Лежите спокойно. Я дам вам попить.
– Нет... послушайте... Со мной не привозили сюда девушку?..
– Тут многих привозили... Говорю вам, лежите...
Так ничего и не добившись, Натансон утомленно закрыл глаза и предался своим мучительным и неуловимым воспоминаниям.
Из этих воспоминаний, из томительного и болезненного полузабытья его вывел громкий разговор возле его койки. Он приоткрыл глаза и ясно различил какого-то военного, который допрашивал о чем-то низенького человека в золотых очках, в белоснежном халате.
– А-а, вот он и сам очнулся! – грубо сказал военный, заметив, что Натансон открыл глаза. – Ну, будьте любезны сообщить вашу фамилию!..
Полицейский пристав обошел нею больницу и записал раненых, привезенных накануне. Так же, как и Натансона, он допрашивал каждого грубо и придирчиво. И врач, шедший за ним следом, хмурился, пытался уговорить его в чем-то, волновался.
Сделав свое дело, пристав, выйдя в приемную, со вкусом закурил, поправил на себе шашку и сурово заявил врачу:
– Маловажно раненых мы заберем. А те, которые шевелиться не могут, у вас останутся, на вашу ответственность... А кроме – поставим караул возле выхода...
Врач покраснел и надул пухлые губы:
– Здесь больница, а не тюрьма!
– Когда нужно будет, – уверенно возразил пристав, – мы любое заведение в тюрьму обратим! Не беспокойтесь!..
Легко раненых полиция забрала из больницы и увела в участок, а оттуда в тюрьму. Среди уведенных оказался и Павел. Его левая рука была на перевязи, голова забинтована. И хотя врач настаивал на том, что его нельзя трогать, пристав упрямо и непреклонно твердил:
– Ничего! У нас сохраннее будет!
Так Натансон остался в больнице, обуреваемый томительными попытками вспомнить обо всем, что с ним произошло, а Павел отправился в тюрьму.
33
Когда Павла привели в камеру, там уже был заведен обычный тюремный распорядок. Антонов, староста, встретил его хозяйственно и деловито.
– Занимайте, товарищ, место на нарах, вот здесь. Здесь потеплее... Из больницы?
Павел оглядел переполненную камеру, сложил полотенце и сверток с провизией, сунутые ему на-спех в больнице какой-то сестрою, и, болезненно усмехаясь, подтвердил:







