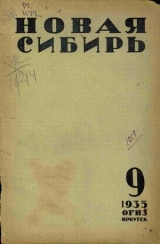
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Погашая свои сомнения, Огородников порою робко ввязывался в спор с Сидоровым. Огородникову казалось, что дела на их заводике – это пустяки, это все наладится, а вот главное в другом, в том, что круто и густо заварилось.
– Гляди! – внушал он Сидорову, сам пугаясь своей смелости и решимости. – Гляди, дела-то какие!.. Вот, значит, может, такое доспеется, что будем мы при землице!.. А земля – она все!.. Мне кабы землю, так я все тутака побросал бы да припал бы к ей: роди, родимая! Корми!..
– Земля! – Сидоров исподлобья взглядывал на Огородникова. – За землю все хрестьянство бьется! В этом я не отпорен... Только прежде-то надо здесь все к месту да к порядку поставить, а уж потом и насчет хрестьянского... Без городу ничего не выйдет!.. И ежли нас тут всякие вроде хозяина нашего прижимать станут, то что же это будет!? Пойми! А окромя и то помнить надо – за лучшую долю бьемся, но доля-то и ни с места!..
– На поправку идет... – неуверенно замечал Огородников. – На поправку...
Сидоров действовал на Огородникова угнетающе. При этом рабочем Огородников терял уверенность и начинал сомневаться даже в том, что еще полчаса назад считал непреложным и прочным. Поэтому он торопился отойти от Сидорова, торопился забыть его слова, его хмурый и недоверчивый взгляд.
«Злой парень... – думал он про Сидорова. – Все ему не глянется. Ну его!»
Поэтому же с жадностью вслушивался Огородников в то, что говорили о солдатах, о бунте, и жарко выпытывал у Самсонова о военной забастовке.
– Такие, Силыч, дела! – горел Самсонов, охотно рассказывая приятелю очередные сведения. – Прямо одно удовольствие!.. Сознательность такая, что ай-люли!.. Тут в красных казармах неделю тому назад слова социализм как чорт ладана пугались, а теперь я им книжки ношу и листовки, так они их на-расхват рвут у меня!..
– Насчет земли, поди, больше воображают, которые из крестьян? – интересовался Огородников.
– Это уж как водится! Очень загорелись многие, когда прочитали в газетах про то, что в деревнях, в помещичьих усадьбах делается... Придем домой, говорят, вышебем помещиков, отымем землю! Заживем, говорят!..
И в тот день, когда Самсонов, вернувшись домой очень поздно, встревоженно сообщил, что запасных, кажется, в срочном порядке отправляют по домам. Огородников не сразу понял, что это значит. Он даже заметил с удовлетворением:
– Ну, давно пора бы. Затосковал народ!
– Затосковал!.. – проворчал Самсонов. – Конечно, так это и должно бы и быть... А вот только как теперь у нас здесь дела пойдут!
– А что? – встревожился Огородников, почуяв неладное,
– Ты, Силыч, разве не понимаешь: самая большая поддержка рабочим уходит! Солдаты-то вооруженные, начальство растерялось, его можно было так шугануть, что от него и пуху не осталось бы!.. А как уйдут запасные и не останется войск, которые уже сознательные, вот и...
Огородников молча вслушался в слова семинариста. Огородников огорчился. Ах, негладко же все выходит! Очень негладко!..
55
Первые эшелоны запасных отправлялись весело и с музыкой. Со стороны поглядеть – все шло к лучшему. В переднем вагоне даже всполоснулся волнующим язычком пламени угол красного знамени. Среди песен, распеваемых уезжавшими, были и боевые, революционные песни. Казалось, что военная забастовка, веселый, но не шуточный бунт солдат, продолжается. Но как только ушли эти эшелоны, у генерала Синицына широко распахнулись решетчатые ворота и из ворот вылетела щегольская повозка. Серые, с белыми гривами и хвостами лошади, лихо вынесли генерала на улицу. Лошади застоялись и играли теперь и кучер с трудом сдерживал их опасную резвость. Генерал насупившись поглядывал по сторонам. Генералу было немного не по себе. Но, подъезжая к губернаторскому дому, Синицын лихо расправил плечи и выскочил из коляски молодцевато и молодо.
У подъезда уже скопилось несколько экипажей. И среди них сани ротмистра Максимова.
Казармы опустели. В городе остался один батальон да конвойная команда. В стороне держались, однажды только поразив забастовавших солдат проявлением своей солидарности, казаки. Казачьи сотни, расквартированные на окраине города, редко показывались на улицах. По казармам бродили осмелевшие фельдфебели. Появились прятавшиеся все время офицеры. Освободились из-под ареста те офицеры, которых стачечный комитет задержал на несколько дней. У ворот казармы, где помещался батальон, выросли молчаливые, озабоченные и хмурые часовые. Самсонов сунулся по привычке в эту казарму, но часовой сердито преградил ему путь и, не глядя на него, кинул:
– Куды? Нельзя!..
– Да мне в стачечный...
– Проходи! – обжог часовой коротким, как удар, взглядом, и нельзя было понять, чего больше во взгляде и в голосе солдата – стыда или злобы. – Проходи! какие тут стачечные!.. Не разрешено!..
Самсонов оторопело оглядел часового, задохнулся от неожиданности и ничего не нашелся сказать.
Почти то же самое случилось в другом месте и с Потаповым. Но когда часовой попытался задержать его и не пропустить в казарму, Потапов спокойно отстранил его, укоризненно кинул: «Не дури!» И все-таки прошел. А когда попал в казарму, то первый же встреченный им знакомый солдат, смущенно шарахнулся в сторону.
Потапов и здесь не смутился. Он все-таки разыскал одного из членов военного стачечного комитета и сумел переговорить с ним.
– Что это тут? Неужели сдали?
– Да вроде того... Откуда-то слух пошел, что с часу на час должна прибыть свежая часть для подавления беспорядков. Вот масса и заколебалась.
Потапов нашел еще кого-то из стачечного комитета и вместе с ними отправился по другим помещениям. Всюду они находили молчаливых и притихших солдат. Везде их встречали встревоженными и ожидающими взглядами.
– Робеют... – огорченно отметил один член комитета.
– Плохо дело! – подтвердил другой.
Потапов возмущенно взглянул на них. Ноздри его раздувались, на лице зажегся румянец.
– Чего вы, товарищи, панихиду поете?! Если будете такие примеры подавать, так, конечно, дело будет дрянь!.. Что, собственно говоря, случилось? Ну, ушли запасные, ни ведь остались силы. К тому же есть организация, рабочие стоят на посту. Вообще рано носы опускать!..
Оставив своих собеседников, Потапов сбегал в партийный комитет. Там все были на ногах и знали о настроениях в казармах. Потапов облегченно вздохнул, увидя товарищей бодрыми, деятельными и нисколько не павшими духом.
– Разумеется, настроение понижено, – спокойно определил Сергей Иванович. – Но чтож из того? Не надо давать ему еще больше падать. От нас зависит выправить положение. Нужно собирать людей. Давайте назначайте широкое собрание рабочих и пригласим туда солдат. Повторяю: надо быть решительными!..
Павел вслушался в слова Старика и тряхнул головой:
– Синицын голову поднял. Вылез из своего беста. На что-то надеется.
– На нашу неорганизованность, – сурово отрезал Сергей Иванович. – На неорганизованность и расхлябанность!
56
Собрание прошло с большим подъемом. Рабочие явились на него охотно и настроение у них было боевое. Зато солдат было мало.
– Опасаются идти, – объясняли пришедшие. – Стали опять начальства побаиваться.
К собранию были выпущены свежие листовки. Матвею и Елене пришлось много поработать, чтобы отпечатать их в срок. Прокламации были еще липкими от жирной краски, когда их раздавали рабочим и солдатам. Солдаты уносили листки, тщательно пряча их в тайники своих шинелей.
На собрании выяснилось, что солдат запугивают кем-то пущенными слухами о том, что с Запада движутся эшелоны гвардейцев, посланные на усмирение бунтовщиков.
– Достанется всем на орехи! – шипели неизвестные личности, зашнырявшие возле казарм сразу же, как только запасных увезли домой. – И ораторам, и забастовщикам, и жидам – всем попадет!.. А солдат, который присягу поломал, так под военно-полевой суд пойдет! Шутить не будут с теми, кто бунты заводил!..
Кой-кого эти слухи приводили в сильное смятение. Кой-кто перепугался до крайности.
Когда собрание кончилось и люди веселыми потоками расходились с него по тихим, окованным морозом улицам, над городом снова, как два-три месяца назад нависла настороженность.
И как тень, тоже, как два месяца назад, таясь и все подмечая, шли за главарями и теми, кто выступал с речами на собрании, Гайдук и его подручные.
Поведение рабочих на собрании ободрило Сергея Ивановича и других. У рабочих не было ни уныния, ни растерянности. Они были решительны и ждали только призыва, чтобы выступить открыто с оружием в руках, когда понадобится.
Потапов узнал, что часть военного стачечного комитета не сплоховала и своевременно запаслась оружием из воинского цейхгауза. Это оружие переотправили рабочим. Вывозили его глухою ночью дружинники, а часовые возле цейхгауза притворялись, что ничего не видят и ничего не слышат. Когда Потапов рассказал об оружии Павлу, тот весь просиял:
– Ах, здорово! Вот молодцы-то!
– А ты думаешь, военные-то по своей догадке это сделали? – усмехнулся Потапов.
– Кто же их надоумил?
– Кто? Понятно, комитет. Да, собственно, и не комитет, а Старик. Он ничего не пропустит, за всем уследит!
– Да-а... – неопределенно протянул Павел и задумался. Действительно, Старик за всем успевает проследить. Вот успокоились было боевики на том, что удалось добыть партию наганов и браунингов, а того и не сообразили, что с таким оружием при случае не устоишь против трехлинейки, а Старик не забыл и в нужную минуту учел положение, воспользовался военной забастовкой и вооружил рабочих винтовками! Предусмотрительный человек! Павел не мог в душе не похвалить Сергея Ивановича, но какая-то неосознанная неприязнь к Сергею Ивановичу не позволяла Павлу громко и открыто высказать свое восхищение этим мудрым и опытным человеком.
После собрания боевым дружинам приказано было быть в боевой готовности. Начальники отрядов знали, что события могут разразиться неожиданно. Начальство осмелело. По улицам стал появляться не один только генерал Синицын. Вылез и тучный полицеймейстер. Раза два промелькнул на своей приметной лошади ротмистр. Юнкера и отборная часть, которые охраняли Синицына, заняли казарму, удобно расположенную поблизости от правительственных зданий. На телеграфе однажды ночью появился сильный патруль и пытался выгнать оттуда охрану, поставленную стачечным комитетом и советом рабочих депутатов. Губернатор вывесил «обязательные постановления», в которых напоминал, что в губернии объявлено военное положение и что для бунтовщиков и забастовщиков введены военно-полевые суда.
Гайдук, по несколько раз в день переодеваясь в разное платье, шнырял всюду, где скапливался народ, и смотрел, и слушал.
57
На город обрушилась колючая стужа. Она пришла из глухих и темных недр тайги, сползла с голых сопок, поплыла из глубоких заснеженных долин. Пушистый, филигранный куржав облепил телеграфные и телефонные провода. Седая изморозь осела на заборах, на карнизах домов, на кровлях.
Бронислав Семенович долго отдувался и отряхивался в прихожей. Гликерья Степановна запахивала пестрый капот и покачивала головой:
– Замерзли?
– Понимаете, тридцать пять. Я не посмотрел и сунулся без шарфа. Очень холодно...
– А мой Андрей Федорыч убежал на-легке. Никогда не послушается.
Натансон прошел в комнату, зябко потирая руки. Гликерья Степановна усадила его на диван.
– Посидите, я сейчас чай приготовлю. Согреетесь.
Чай был быстро вскипячен. Хлопоча за самоваром, хозяйка расспрашивала гостя о делах, о здоровье, о новостях.
– Здоровье у меня как будто теперь в порядке. Все, видимо прошло благополучно. А дела по-старому. Вот учеников почти совсем нет. Не до музыки, говорят, в такое время...
Гликерья Степановна подула на чай, отпила маленький глоток и отставила чашку.
– А как поживает ваша новая знакомая, та интересная девушка Галя? – с грубоватым лукавством спросила она.
Бронислав Семенович покраснел. Стакан, поставленный им неловко на блюдце, покачнулся и чай плеснулся на скатерть.
– Видаетесь? – беспощадно продолжала допытываться хозяйка.
– Редко, – выдавил из себя Натансон.
– Почему же? – удивилась Гликерья Степановна, широко улыбаясь. – Мне показалось, что она очень интересуется вами, Бронислав Семеныч. Я подметила в больнице...
– Ах, что вы!? – огорчился Натансон и отодвинулся от стола. – Что вы, Гликерья Степановна? Она такая... молодая, светлая... Вообще разве может быть разговор о таком?.. Не понимаю!..
Гликерья Степановна следила за смущением Натансона смеющимися глазами. Ей было интересно и забавно помучить скромного и застенчивого Бронислава Семеныча, который слыл среди своих знакомых самым робким и трусливым при женщинах холостяком.
– Ладно, ладно! Чего уж тут скромничать? И она вами интересуется, да и вы, ой как, врезались в барышню! Я ведь вижу! Все вижу, Бронислав Семеныч!..
Натансон впал даже в отчаянье от смущенья. Он весь горел румянцем стыда и ерзал на месте. Но в передней звякнул замок, раздался топот, послышалось, как кто-то снимает галоши. Гликерья Степановна подняла голову и властно крикнула:
– Ты, Андрей Федорыч?
– Я! – отозвался тот и торопливо вошел в комнату. – Ух, холодина какой! – сообщил он как редкую новость. – Тридцать шесть, у аптеки посмотрел... Здравствуйте, Бронислав Семеныч!
Натансон обрадованно поздоровался с хозяином: Андрей Федорыч пришел для него очень кстати.
Андрей Федорыч был чем-то взволнован. Он присел к столу, схватил застывшими пальцами налитый женою стакан чаю и, обжигаясь горячим чаем, торопливо сообщил:
– В городе надо ждать крупных событий!..
– Каких это еще? – недоверчиво спросила Гликерья Степановна.
– Очень серьезных, Гликерья Степановна! – убежденно повторил Андрей Федорыч. – Совет депутатов вооружил рабочих, ждут прибытия каких-то верноподданных солдат. Губернатор и начальник гарнизона...
– Все пустяки! – прервала Гликерья Степановна. – Где это ты, Андрей Федорыч, батюшка, услышал, кто тебе насказал?
Андрей Федорыч скривился от обиды и зачмокал:
– Ну, ну, вот ты всегда так, Гликерья Степановна! Опровергаешь, а у меня самые верные сведения. Мне Воробьева Галочка сказала...
Бронислав Семенович вздрогнул и зачем-то расстегнул и снова застегнул пиджак.
– Мне Галочка Воробьева сказала... – продолжал Андрей Федорыч. – А она в курсе. Понимаешь, она очень близко в этих делах принимает участие. Я уж пробирал ее, журил, но ничего поделать не мог... Она торопилась и успела только рассказать о солдатах... Теперь запасные ушли, а оставшиеся колеблются. Зато у рабочих очень боевой дух. Вооружены и все такое... Над военным положением смеются и собираются полный переворот совершить... Понимаешь, предстоят очень важные события!..
– Ты льешь на скатерть! – хозяйственно оборвала Гликерья Степановна мужа.
– Ах, да, да! – смутился Андрей Федорыч. – Прости... Так вот я и говорю... Надо будет, Гликерья Степановна, закупить что надо... Из провизии там, чаю, варенья... Знаешь, опять может случиться, что магазины закроют...
– Скажите! о чем беспокоится!
– Да я, чтоб тебе неудобства не было...
– Не беспокойся!.. – язвительно заметила Гликерья Степановна. – Обо мне не беспокойся!
Бронислав Семенович нервно ерзал на стуле и покашливал. Ему было неловко, что Гликерья Степановна так обрывает этого расчудеснейшего добряка Андрея Федорыча, и кроме того его подмывало порасспросить о Гале, а расспрашивать нельзя было, потому что тогда Гликерья Степановна снова начнет трунить над ним и смущать его. Но и тут опять выручил Андрей Федорыч.
– Галочка Воробьева, – после некоторого молчания заговорил Андрей Федорыч, – очень изменилась. Понимаешь, Гликерья Степановна, этак возмужала, совсем взрослой выглядит. И лицо беспокойное. Горят они, теперешние молодые люди, прямо пламенем горят!..
Дряблые щеки Гликерьи Степановны задрожали. Она отодвинула посуду, поставила толстые обнаженные локти на стол и сцепила пухлые пальцы. Ее глаза потемнели.
– Горят? – глухо повторила она. – А чего же им не гореть? У них забот никаких и никаких обязанностей!.. Можно и гореть...
– Вы несправедливы, Гликерья Степановна, – кашлянул Бронислав Семеныч.
Гликерья резко обернулась к нему, хотела сказать что-то, но промолчала и вдруг жалко улыбнулась.
– Может быть, – пробормотала она, – может быть...
Андрей Федорыч с испуганным изумлением поглядел на жену. Что это с ней? Откуда этот непривычный порыв и эта странная улыбка?
– Я знаю! – быстро оправившись, обычным решительным тоном продолжала Гликерья Степановна. – Знаю, что молодежь нынче очень хорошая. И правда, что они горят!.. И мне их жалко, а иной раз и завидно... Почему, – неожиданно обратилась она к мужу, – скажи, почему это мы с тобой почти целую жизнь прожили, а никогда не горели на каком-нибудь общем деле? А?
– Гликерья Степановна, матушка... – забормотал Андрей Федорыч. – Да ведь так обстоятельства складывались... Жизнь...
– Ах! – безнадежно махнула рукой Гликерья Степановна. – Оставь! Обстоятельства! Жизнь! Пустые отговорки! Ерунда!..
Андрей Федорыч сжался и сидел как пришибленный. Бронислав Семенович растерянно крутил на блюдце недопитый стакан чаю.
– Давайте! – протянула руку к нему Гликерья Степановна. – Ну, давайте налью горячего!.. Вы не обращайте на меня внимания...
– Я ничего... – вспыхнул Бронислав Семенович, подавая ей свой стакан. – Я, видите ли, Гликерья Степановна, тоже... Вообще это недопустимо, что я в стороне, когда все кругом в движении... Я очень хорошо вас понимаю...
– Ага! – мотнула головой Гликерья Степановна. – Пейте с вареньем!.. – И после короткого молчания прибавила: – Все это можно исправить!..
58
Елена гладила белье. От белья, согретого утюгом, пахло свежестью и как-то уютно. Этот запах унес Елену в прошлое и она вспомнила далекий дом, суетливую мать, молчаливого отца. Она вспомнила тысячу милых и волнующих мелочей, таких невозвратных и далеких. Детство было тяжелое, в доме бывало мало радости, а вот теперь все скрашено временем и всего немного жаль! Вот так же пахло от белья, от груды чужого, разного белья, над которым целыми днями возилась мать. И руки у матери всегда были красные от воды и мыла, а в квартире, на плохо беленых стенах, ползли и ширились безобразные пятна сырости. Но все-таки запах свежевымытого, белоснежного белья, только что проглаженного тяжелым горячим утюгом, был приятен, он вызывал еще и тогда представление о чистой, хорошей жизни, о чем-то красивом и желанном. Вместе с этим запахом, словно оживленные им, выступали из недалекого прошлого родные лица, родные голоса. Вот брат Павел, всего три года как он умер, жестоко простудившись осенью в своем куцем и негреющем пальтишке. Павел, баловень семьи, такой ласковый и веселый. Это он, будучи всего на два года старше ее, любил разыгрывать из себя очень взрослого и умудренного жизненным опытом человека. Это от него она переняла любовь к борьбе, от него научилась быть смелой и решительной. Он первый дал ей книги, из которых она почерпнула знание жизни и которые повели ее на ее теперешний путь... Павел... Рука с утюгом дрогнула. Елена отставила разогретый кусок чугуна на самоварную канфорку и, опершись руками о стол, глубоко вздохнула. Какой хороший, умный и решительный революционер погиб ненужно и нелепо!.. Она еще раз вздохнула. Ах, какой милый, глубоко-родной Павел, Паша, брат умер!..
Павел... Утюг остыл. Его надо было отнести на раскаленную железную печку. Елена взглянула на белье: гладить оставалось совсем немного. Не стою сейчас снова разогревать утюг... Кажется, того молодого товарища, которого она встретила у Варвары Прокопьевны, тоже зовут Павлом. И он, кажется, совсем не похож на брата. Но глаза у него, как ей показалось, замечательные и хорошая улыбка. Но почему он смотрел на нее так смущенно? Потом нахмурился. Что ему не понравилось?
Ровная стопка белья выростала пред Еленой на столе. В окна сквозь узорчатый иней подслеповато гляделся зимний день. В соседний комнате Матвей сидел притихший и спокойный за книгой. Изредка Матвей осторожно покашливал. Елена встревоженно подумала: «Простудился. Не бережет себя. Глупенький!» И пытаясь сдержать нежность и теплоту, громко сказала:
– Вы опять не выпили горячее молоко, Матвей?
За стеной отодвинули стул. Быстрые шаги. Матвей появился в дверях.
– Молоко? Собственно говоря, я не люблю молока...
– А кашлять вы любите, Матвей?
– И кашлять тоже не люблю, – засмеялся Матвей.
– Ну, тогда пейте молоко. Я снова вскипячу для вас.
Матвей вошел на кухню. Увидев выглаженное белье, среди которого он различил свои рубашки, он укоризненно покачал головой. Он все еще никак не мог свыкнуться с тем, что Елена возится с его бельем и заботится о всех мелочах его повседневного обихода.
– Опять вы, Елена!.. – огорченно заметил он. – Ведь я бы отдал куда-нибудь выстирать...
– Зачем? Мне не трудно... И напрасно вы, Матвей, каждый раз подымаете об этом разговор!
– Напрасно, напрасно... – заворчал Матвей. – Не для этого вы здесь, чтобы в прачку превратиться. Честное слово, не надо!..
– Ладно! – остановила его девушка. – Ведь это пустяки. К чему же сердиться?!
Матвей не сердился. Елена это знала. Матвей был смущен. Конечно, говорить об этом больше не следует. Надо только подальше прибирать свое белье и сплавлять его куда-нибудь в стирку.
Елена тем временем убрала на место белье, привела в порядок стол, посмотрела на топящуюся печку, на чайник, стоявший на полке, улыбнулась и лукаво предложила:
– Согреть разве чай? А?
Она знала, что Матвей любит попить чаек, отдыхая и делаясь мягким и приветливым за столом. И сама она любила, когда Матвей так отдыхал.
Чайник согрелся очень скоро, стол был накрыт мгновенно. Душистый пар повалил из налитых чашек. Матвей взял из рук Елены свою чашку и зажмурился.
– Ух, чорт возьми! – засмеялся он. – В каких буржуев мы, Елена, превращаемся.
– А как же, Афанасий Гаврилович, иначе! Мы люди богобоязненные, тихие! – подхватила шутку Елена.
– Да, да, Феклуша! – закивал головой Матвей и в его глазах заискрилась глубокая нежность. – Феклуша... – протянул он и прислушался. – Нет, Елена лучше.
– Матвей тоже лучше, чем Афанасий! – заметила Елена, но покраснела и умолкла.
Смех сразу застыл на их лицах. Они опустили глаза. Они посидели некоторое время молча.
Молча выпил Матвей одну чашку и молча стал допивать вторую. Потом нахмурился, отогнал какие-то мысли, кашлянул и поглядел вокруг.
– Пожалуй, скоро придется нам покидать это убежище... – неожиданно сообщил он.
– Почему? – вздрогнула Елена.
– Будут большие события. Читали вчерашнюю листовку, ту, которую мы отпечатали в большом количестве? Дальше ждать нельзя. Организация выйдет на улицу. Восстание, Елена, вооруженное восстание!.. Мне разрешают участвовать в нем...
– А я? А мне? – вскочила Елена.
– Вы пока останетесь на этой работе. В резерве...
– О, Матвей! Я не могу!..
– Можете, Елена. Обязаны.
Елена подняла руки к голове и сжала пальцами виски.
– Не могу... – тихо повторила она.
Матвей поднялся с места и вышел из-за стола. Стоя посреди кухни, он взволнованно сказал:
– Мы все должны мочь... Все. Это революция, Елена. Дело большое. И зы здесь, на этом деле, необходимее, чем где-нибудь в другом месте. Вы теперь опытный «техник»... А потом, ведь мы идем к победе и нам, может быть, не понадобится больше несовершенные подпольные типографии... И еще... Я ведь тоже, Елена, очень привык к... нашей совместной... работе... Очень привык...
Матвей отвернулся и закашлялся. Покашливая он пошел в соседнюю комнату. Елена осталась стоять возле стола. Руки ее медленно упали вниз.
59
Пристава Мишина Павел видел несколько раз и навсегда запомнил его лицо, его фигуру, его походку. Поэтому он сразу узнал в шедшем по другой стороне человеке в штатском, пристава третьей части. Узнав, Павел приостановился и внимательно оглядел его. Мишин заметил, что какой-то молодой человек пристально изучает его, оглянулся несколько раз и ускорил шаги.
«Трусишь?!» – злобно подумал Павел и его охватило желание догнать пристава, ударить его, сшибить с ног. – «У, гадина!»
В кармане у Павла был браунинг с полной обоймой патронов. Браунинг слегка оттягивал карман и напоминал о себе. На мгновенье рука Павла потянулась в карман. Но он превозмог свое желание и только сцепил до боли пальцы.
Пристав еще раз оглянулся и завернул за угол.
У Павла снова сжались и разжались пальцы и он глубоко вздохнул в себя морозный воздух. Конечно, он понимает, что на такие штуки итти нельзя. Чорт знает, какой шум подымут Старик и другие комитетчики, если узнают о его намерении. Они ведь против этого самого индивидуального террора. А по его вот взять бы да перещелкать одного за другим Мишина этого самого, полицеймейстера, генерала Синицына, жандармского ротмистра. Убрать их к чортовой матери, чтоб не болтались на пути революции. Борьба – так борьба! Нечего миндальничать да подсмеиваться над эсерами. Все-таки, хоть они и путанники в теории и чистейшие идеалисты, а поступают порою умно. Честное слово!.. Павел взглянул туда, где за углом скрылся пристав, и что-то замышляет. Неужели нельзя предотвратить его замыслы? Неужели дожидаться пока он чего-нибудь натворит, и уж тогда, когда будет поздно, заняться им?! Ерунда!..
Расстроенный и недовольный ни собой, ни товарищами, никем на свете, Павел весь остаток дня брюзжал и нервничал. Галя озабоченно спросила его:
– Ты нездоров?
– Здоров, успокойся, – неласково ответил он. – Больше, чем следует даже здоров...
– Не понимаю, Павел.
– И не нужно понимать. Одним словом, здоров я, но устал и хочу отдохнуть.
Они больше ни о чем уже в этот вечер не говорили. А утром, когда Галя проснулась, брата уже не было в комнате.
Павел же отправился по неотложным делам и в хлопотах, в возбужденной сутолоке забыл о вчерашнем. Хлопот и сутолоки было много. Слухи о возможном прибытии в город какой-то особой воинской части, которая призвана навести порядок, подтверждались. Боевые дружины упражнялись в стрельбе, рабочие железнодорожники, электрической станции, ряда заводиков получили оружие и учились обращаться с ним. Были намечены сборные пункты, все вооруженные товарищи были по-новому разбиты на отряды и каждый отряд знал заранее свое место и свои обязанности.
Сначала все шло хорошо. Павла захватила эта боевая атмосфера, эти возбуждающие хлопоты, но он потускнел и нахмурился, когда выяснилось, что во главе отрядов были поставлены другие, а он, Павел, попал под начальство рябого печатника Трофимова. Обида захлестнула Павла, но он постарался не подать и виду, что недоволен. Это стоило ему многих усилий, потому что не умел он скрывать своих чувств и привык всегда действовать сгоряча, по первому побуждению. Но как ни скрывал он свое недовольство, товарищи все-таки подглядели, что он обижен. И Потапов, прямой и грубоватый, поймал его в углу и, рокоча своим густым басом, без всяких подходов спросил:
– Обижаешься? Брось, не дело, брат, обижаться!.. Трофимов парень с головой и его любят рабочие. За ним ребята пойдут куда угодно. Да еще как пойдут! играючи!.. Ты это возьми в толк!
– Откуда ты взял, товарищ Потапов, что я обижен? – попробовал возражать Павел. – Ничего подобного!
– По глазам вижу, – усмехнулся Потапов. – Глаза у тебя злые и в сторону глядят. Ну и говорю: брось!.. Ты как думаешь: революция для тебя, или ты для революции? А?
Павел промолчал и поджал губы.
– Вот ты молчишь и сердишься, а стоит ли? Ты посмотри, дни-то какие, дела-то какие! Чорт ее дери, какие дела шикарные!.. На самом кончике стоим: бабахнем и закачается!.. Не кисни, Павел, ей богу, не кисни!..
Потапов рокотал с суровым добродушием. В его голосе, в его словах, в его светлом взгляде звучала и светилась убежденная радость. Действительно, этому дни и дела были по душе, возбуждали его, давали ему настоящую жизнь.
– Бабахнем! – повторил он и потряс крепким кулаком.
На мгновенье Павлу стало завидно: вот человек, который не мудрствует, не копается в своих переживаниях, а, главное, идет прямой дорогой. У него, наверное, никогда не бывает никаких сомнений и он без всяких колебаний впитывает в себя все, что исходит от комитета и от комитетчиков.
«Да, но, – внутренне возражал Павы, – он все берет без всякой критики. Критически-мыслящей личностью его никак не назовешь!»
И, побуждаемый каким-то не совсем осознанным чувством, он с вызовом и глумливо неожиданно спросил:
– А что бы ты, товарищ Потапов, сказал, если б организовать парочку террористических актов или эксов?
Потапов наклонил голову, как бы внимательнее воспринимая вопрос Павла, и медленно ответил:
– Сказал бы: глупо и ерундистика! Вот и все!..
– Мало же! – пробормотал Павел.
– Больше и не надо!..
60
Успокоенный бесславной кончиной недолго прожившей газетки «За родину и царя», Пал Палыч однажды утром был до крайности поражен, когда ему на стол вместе с разными бумагами положили не большой лист, на котором был непривычный заголовок – «Знамя» – рабочая газета № 1.
– Да-а... – процедил сквозь зубы Пал Палыч и схватил вновь родившуюся газету жадно и нетерпеливо. Он ждал чего-нибудь в этом роде, но тем не менее был неприятно удивлен. – Да-а... – повторил он. – Посмотрим.
– Не плохо сделан номер! – заметил лохматый секретарь редакции. – Люди там не без головы.
Газета была боевая, задорная. В ней был даже острый и злой маленький фельетон. Как раз этот фельетон и задел особенно Пал Палыча.
– Плоско и неостроумно! – проворчал он, читая, как фельетонист насмехался над обывателями, над трусами и теми, кто считал себя осмотрительными и осторожными. – Я думал, что они остроумнее и находчивей.
Секретарь редакции неопределенно фыркнул. Нельзя было понять, смеется ли он, или соглашается с редактором. Пал Палыч отбросил от себя газету и с деланной бодростью предсказал:
– Продержатся недолго. Сядут!
Газета для многих появилась неожиданно. Потому что только немногие знали, что мысль о ней обсуждалась и разрабатывалась в комитете уже давно. Уже давно листовки и прокламации, выпускаемые подпольной типографией, не удовлетворяли организацию: надо было говорить больше, надо было выбрасывать в массы побольше литературы, надо было, наконец, быстро и полно отказываться на всякие явления, на всякие события. Это можно было сделать только через собственную газету. И Сергей Иванович присматривался к товарищам и выискивал таких, кто мог бы заняться газетной работой. И когда оказалось, что газета без своих собственных сотрудников не останется, со всем другим справились легко. Справились безболезненно и скоро и с типографией. По-просту пришли в губернскую типографию и заняли ее под работу над газетой. Этому никто не препятствовал, а рабочие губернской типографии весело обещались выпускать свою газету в срок и хорошо:







